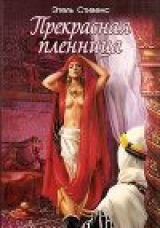
Текст книги "Прекрасная пленница"
Автор книги: Этель Стивенс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Часть II
ТАЙНА ГОРОДА
(Прошло девятнадцать лет)
ГЛАВА I
– Который час? – спросили звонким молодым голосом с койки каюты второго класса парохода «Аврора», совершавшего рейсы между Сицилией и Северной Африкой.
Потом, сообразив, что он уже расстался со страной мягких согласных, заспанный пассажир повторил свой вопрос по-французски.
– Шесть часов, месье, – ответил проходивший мимо стюард.
– Земля уже видна?
– Да, месье.
Молодой сицилиец соскочил с койки. Четверть часа спустя он уже стоял на палубе, устремив взгляд на горизонт. Море было того теплого, лиловато-синего оттенка, который характерен для южных морей; Риккардо Бастиньяни тысячи раз видал его таким в Палермо в солнечные дни; знал и другие его оттенки – васильковый, бирюзовый, багряный при заходе солнца, в бурю – темно-пурпуровый, с зелеными пятнами цвета изумруда или хризопраза. И солнце, рассыпавшее по гребням волн тысячи сверкающих золотых, было для него такой же родной стихией, как вода – для лотоса, как воздух – для жаворонка. И все-таки в этом солнце и в этом море было что-то новое.
Он остро вглядывался в горизонт, где пятнышком, не больше крыла бабочки, темнела земля. С этим пятнышком связана вся его будущая жизнь. Он смотрел, не отрываясь.
Рядом стоял, облокотившись о борт, худощавый мужчина, внимательно рассматривавший юношу. На нем был прекрасного покроя серый костюм и мягкая широкополая шляпа, отбрасывавшая тень на лицо.
– Вы в первый раз едете в Тунис? – спросил он по-итальянски.
Бастиньяни кивнул головой. Он обратил внимание на глаза незнакомца, – светло-голубые, длинного разреза глаза, – заинтересовался, к какой национальности отнести его.
– А вы, месье?
– Я живу в Тунисе. Но много времени провожу в разъездах.
– В разъездах, – задумчиво повторил Бастиньяни. – А я до сих пор никогда не выезжал из Сицилии, хотя мне давно хотелось побывать в Тунисе и Алжире. Возможно, что тут сказывается атавизм: во мне есть доля мавританской крови.
Оба молча смотрели на приближавшийся берег.
Вот пароход поравнялся с темными холмами Карфагена, миновал поросший тамарисковыми деревьями мыс, на котором стоит маяк, и вошел в узкий канал с водой маслянисто-зеленого цвета. В конце канала виден был Тунис, весь белый на фоне гор и безоблачного неба, как гряда летних тучек.
К пароходу подошла лодка с четырьмя смуглолицыми, в красных фесках, гребцами, и лоцман, жилистый маленький француз, взобрался на палубу.
– Скоро ли мы будем в Тунисе? – спросил Бастиньяни своего спутника.
– Не раньше, как через полчаса, пожалуй. Вы долго думаете пробыть там?
Бастиньяни махнул рукой.
– Почем знать? Всю жизнь, быть может.
– Вот как! У вас есть там родственники?
– Дядя и его семья. Я еду помогать дяде вести дело; он болеет. Я изучал право в Джирдженти, – добавил он и светло рассмеялся. – Но в Сицилии на каждого тяжущегося приходится пять адвокатов. Неохота быть шестым.
– Мудро с вашей стороны, – одобрил незнакомец, всматриваясь в смуглое молодое лицо с красивым ртом и тонкими чертами. – Возможно, что я знаю вашего дядю.
– Его фамилия Скарфи.
– Торговый агент. Я, кажется, встречался с ним. Но вы на него не похожи.
– Его жена была родной сестрой моего отца, урожденной Бастиньяни. – Он тронул перстень у себя на пальце.
– Я видел этот герб в одной из часовен собора в Джирдженти!
– Ее соорудил мой предок. Лучше бы он употребил деньги на что-нибудь другое.
– Бастиньяни обеднели?
– Живут кое-как. Но считают ниже своего достоинства работать. Я же работать рад, а потому и еду к дяде. Да и немыслимо провести всю жизнь в Палермо или Джирдженти.
– Положим… вы могли бы жениться на богатой?
– Благодарю покорно! К тому же в Сицилии богатых невест нет. Впрочем, я вообще не имею ни малейшего желания жениться… А что, арабские женщины красивы? Я говорю не о танцовщицах, – те, я слыхал, ужасны, – а о женщинах, которые носят покрывало.
– Советую вам довольствоваться тем, что вы найдете в европейском квартале. Выбор там у вас будет большой. А женщин под покрывалом, – он взглядом как бы оценил красоту этого сына солнца, – не касайтесь, если вам дорога жизнь.
В голосе послышалась резкая нотка, изумившая Риккардо.
Незнакомец заметил это и переменил тон.
– Что касается танцовщиц, сведения у вас правильные, – шутливо заговорил он. – Впрочем, есть одна, которую стоит посмотреть. Европейцам это редко удается. Но моя карточка откроет вам доступ. Лучше, если вы пойдете один. Никакой опасности вам там не угрожает. Я напишу адрес на своей карточке.
Он вынул из бумажника визитную карточку и, написав на ней несколько слов, протянул ее Риккардо. Тот прочел: с одной стороны – «Али Хабиб, 3, Нагорная улица», с другой – «Шарль Конраден, 3, улица Каира».
– Вы должны побывать у меня. – Конраден ласково взглянул на юношу. – Немного позже у меня, быть может, найдется для вас дело.
Бастиньяни весело улыбнулся.
Берега канала скользили мимо, как проползающие змеи. Тунис приближался и, как все восточные города, утрачивал часть своей красоты по мере того, как, с сокращением расстояния, соскальзывало с него покрывало тайны. Но белизну свою сохранял незапятнанной – белые террасы и белые дома, казалось, возникали из самой синевы небесной. Местами вдруг вырастал минарет.
Пароход поравнялся, наконец, с набережной, и на борт вскарабкались носильщики всех мастей, в самых разнообразных и несложных одеяниях, но с обязательной феской на голове. Они атаковали пассажиров первого класса.
– До свидания, – сказал Конраден, протягивая Риккардо руку, – надеюсь, вы скоро выберете время, чтобы побывать у меня.
Бастиньяни смотрел ему вслед. Он не умел определить – влекло ли его к новому знакомому или отталкивало от него; но встретиться с ним еще раз, во всяком случае, хотелось.
Сходни не были еще спущены, и в надежде увидать кого-нибудь из своих родственников он с палубы стал рассматривать кишевшую на набережной толпу. Никого из семьи дяди он до сих пор не встречал. Кузену Сальваторе девятнадцать лет, они с ним ровесники, затем идет Джоконда, семнадцати лет, и Аннунциата, шестнадцати. Встретит его, вероятно, дядя.
Взгляд его случайно упал на верхнюю палубу. Там стоял его голубоглазый спутник, месье Конраден, и с ним высокий араб, очевидно, явившийся с берега. Араб был одет очень нарядно: бледно-голубой плащ, белый вышитый кушак и тюрбан из мягкого белого шелка. Риккардо бросилось в глаза, с каким достоинством держался этот человек. Но и Конраден от сравнения не проигрывал.
В нем были и властность, и какое-то особое благородство.
Сходни спустили. Риккардо вяло отстранил отельных комиссионеров, тучей хлынувших на пароход, и укрылся в тень. Солнце пекло немилосердно, хотя не было еще и восьми часов. Из своего укромного уголка он продолжал разглядывать толпу на набережной. К сходням проталкивался небольшого роста мужчина с исхудалым лицом, в панаме не первой свежести. Инстинкт подсказал Риккардо, что это его дядя Сицио. Мгновение спустя они пожимали друг другу руки и обнимались.
– Добро пожаловать, мой дорогой! Добро пожаловать! А багаж твой где?
Риккардо указал на свои скромные пожитки.
– Ахмед! Ахмед!
Араб в широких шароварах взбежал по сходням, схватил на плечи чемодан и понес его в таможню.
Таможенный офицер, перед которым поставлен был чемодан, вежливо раскланялся с ними, и чемодан снова очутился у Ахмеда на плече. Не было сделано никаких попыток осмотреть его.
– Как поживает синьор Роспиньи? – спросил Сицио Скарфи.
– Он у себя. Угодно вам пройти к нему?
– Нет. Но передайте ему, чтобы он зашел ко мне в контору сегодня вечером!
– Передам. – Таможенный офицер раскланялся.
– Как видишь, я на дружеской ноге с персоналом таможни, – кратко пояснил Сицио. – Роспиньи – сицилиец и друг нашей семьи.
При этих словах на лицо его набежала тень.
– Мы пойдем пешком. Нам недалеко. А в экипаже по кварталу Медина, в котором мы живем, не проехать. Это арабская часть города, зато там и дешевле и гораздо тише и чище, чем во французской. Кстати, и расстояние приличное от Малой Сицилии.
Риккардо вопросительно взглянул на дядю.
– Ты разве не слыхал, что в Тунисе есть «Малая Сицилия», специально сицилийский квартал. Вся сволочь, которой не удается выбраться в Америку, является сюда, черт бы ее побрал!..
Риккардо с любопытством посматривал по сторонам. Если бы не присутствие в толпе арабов, можно было бы подумать, что находишься во французском городе – те же бульвары, трамваи, деревья у тротуаров, столбы с объявлениями. Лишь отдельные фигуры арабов, да изредка женщина-узел, закутанная по самые глаза и переносицу в хаик, убеждали его в том, что он в Африке; отчасти – пальмы, но пальм сколько угодно и в Палермо.
Его интересовали женщины; они казались ему символом неизведанного, недостижимого, таинственного. Хотя те, что попадались навстречу, были, очевидно, стары и бедны. Он вспомнил разговор на пароходе.
– Я встретил на пароходе некоего месье Конрадена, он говорил, что встречал вас.
– Конраден? Никогда не слыхал такого имени. Француз?
– На француза не похож. Не знаю. Звал меня к себе.
Тревога мелькнула в глазах маленького человечка. Он тотчас овладел собой. Но Риккардо был наблюдателен.
– Ты уверен, что он не итальянец?
– Уверен. Он говорил по-итальянски с акцентом. А что?
– Не следует… Я хочу сказать… я на твоем месте не стал бы завязывать отношения с сицилийцами, за исключением наших друзей.
Риккардо не обратил внимания на эти слова, настолько он был поглощен тем, что видел. Европейский квартал кончился, и они сразу попали с Запада на Восток. Не могло быть сомнения в том, что неровные выбеленные стены составляют часть жилых домов, – за это ручались тяжелые двери, на которых медные шапочки вбитых в них гвоздей давали сложный и причудливый узор. Дверные молотки были увесистые, старинной работы. Немногочисленные окна, проделанные высоко над землей, прикрывались железными, выкрашенными в синий или зеленый цвет, решетчатыми ставнями. Тихо было кругом: не было на улице езды, а арабы-прохожие двигались бесшумно, вполголоса обмениваясь приветствиями. Риккардо вступил в новый мир – мир праздности, покоя и меланхолии. В воздухе носился странный, пряный запах, который он вскоре привык ассоциировать с кварталом Медина.
– Вот мы и дома, – сказал Сицио Скарфи, сворачивая с улицы Пяти Пальцев на более широкую и солнечную.
Перед ними выросла старинная, разделанная белыми и черными полосами мечеть. Извилистые улички разбегались отсюда во все стороны. Сицио остановился перед большой зеленой дверью, так же, как ее соседи, изукрашенной гвоздями, и постучал. Дверь открыла старуха, повязанная платком.
– Вот, Кончетта, синьорино – прямо из Джирдженти!
Кончетта присела и поднесла кончик платка к глазам.
– Святая Мария! На мать-то как похож! Я ведь ее выняньчила! Простите, синьор, как тут не заплакать! Прямо из Джирдженти, где я родилась и куда не попаду, наверное, больше никогда!
Риккардо расцеловал ее в обе щеки, отчасти для того, чтобы обрадовать старуху, отчасти для того, чтобы остановить поток ее речей.
– Я перестроил дом заново, – говорил дядя, когда они проходили ярко освещенным двором, окруженным колоннадой, такой же вычурной и черно-белой, как мечеть. – Джоконда настояла, чтобы во все комнаты проведено было отопление, как в отеле. По мне и жаровни достаточно, чтобы согреться зимой. Но я охотно потакаю моим женщинам, благо есть возможность.
Очевидно, не денежными затруднениями объяснялось тревожное, даже загнанное выражение, которое Риккардо подметил у дяди.
Навстречу прибывшим вышла высокая девушка с такими же, как у Риккардо, светло-серыми глазами, с темными матовыми волосами, высоко уложенными на маленькой головке. Он встретился с ней глазами и сразу же почувствовал доверие и расположение к ней.
– Это Джоконда! – воскликнул отец. – Мать семейства, правда, Gioconda mia? А где же Аннунциата?
– Не знаю. Она стесняется, кажется.
– Стесняется? Какой вздор! Скажи ей, чтобы сейчас же…
Из-за дверей донесся подозрительный шум. Он, не договорив, побежал к дверям.
– Вот она, плутовка! Подсматривает из коридора. Мне стыдно за тебя! Какое поведение! Неужто ты не хочешь сказать Риккардо, что рада ему!
Он втащил в комнату вырывавшуюся Аннунциату, розовую, растрепанную.
– Папа, папа!
Когда он отпустил ее, она протянула руку.
– Добрый день, кузен Риккардо.
– Добрый день, кузина Аннунциата.
– Ты чего пряталась? – спросил ее отец.
– Плохая примета – сразу встретить в доме трех женщин.
– Вздор какой! Да ты и не женщина еще!
– Во всяком случае, благодарю за заботу о моем благополучии, – рассмеялся Риккардо.
– А кроме того… кроме того… мне немножко надоело, – лукаво добавила девочка. – Только и слышно было: «Когда Риккардо приедет» или: «Ты будешь мила с Риккардо», и т. д., и т. д.
– Аннунциата! – остановила ее сестра.
Избалованная девочка расхохоталась, глядя на смущенного отца.
– Папочка! Ты сердишься?
– Скверная девочка! – проворчал он, в то же время лаская рукой прижавшуюся к нему головку.
У Аннунциаты волосы были золотые с красноватым отливом, глаза зеленые. Она была безусловно красивее сестры, но ей не хватало того спокойного достоинства, что сильно красило Джоконду.
– Будь папа арабом, он, наверное, запер бы меня, – обратилась она к Риккардо.
– И это было бы для тебя очень полезно, – отозвался отец.
ГЛАВА II
В первые же дни своего пребывания в семье, членом которой он стал, Риккардо сделал некоторые наблюдения, заставившие его призадуматься. Сицио Скарфи производил впечатление человека, постоянно чем-то встревоженного.
С другой стороны, юноша задавался вопросом – почему дядя выписал его к себе? Почему поставил в условия тесного общения с двумя девушками? Нет ли какой-нибудь таинственной причины, заставляющей Сицио Скарфи желать, чтобы одна из них вышла замуж за него, Риккардо?
На другой день по его приезде, после полуденного завтрака, Аннунциата предложила Риккардо показать ему своих любимцев.
Они пересекли солнечный дворик и прошли во второй двор, меньше первого и заросший травой. В одном из углов его, в большой деревянной кадке, росла магнолия, и сладкий запах цветов носился в воздухе. Середину patio занимал заброшенный фонтан, а часть колоннады была забрана досками и циновками.
Туда-то и направилась Аннунциата.
Риккардо последовал за ней и заглянул в отгороженное пространство: там был резервуар с водой, поступавшей в него, очевидно, из фонтана, и в воде, в том единственном месте, которое было освещено солнцем, стояли с видом покорным и созерцательным три бело-розовых фламинго.
– Это мой гарем, – зашептала Аннунциата и отодвинула циновки.
Вышли три тонконогие птицы, забавные и полные чувства собственного достоинства.
– Прелесть, правда? И какие умницы!
Сама она была так прелестна, что Риккардо улыбнулся.
– А ты не боишься, что твой гарем разлетится?
– О! Они ведь не могут. Я подвязала им крылья, вот почему я говорю, что это мой гарем. Вот эта, с длинной-длинной шеей, Фатима, та – Дужа, а самая милая и маленькая – Ясода. А кокетки какие! До чего гордятся своими длинными ногами!
Аннунциата повела шейкой, подражая движениям птиц; а Риккардо, подобрав лепесток магнолии, пахучий и плотный, бросил им в невинную Фатиму, которая испуганно отшатнулась и сделала бесплодную попытку подняться на воздух.
– Несчастная птица! – воскликнул Риккардо. – Это жестоко…
Аннунциата покраснела.
– Жестоко? Несчастная? Как ты смеешь?
– Да, жестоко держать их здесь в заточении. Я видел, подъезжая к Тунису, целую стаю таких птиц. Они летели над заливом, к солнцу, свободные, как орлы, и казалось, что им принадлежит и море, и воздух.
Она слушала, смягчаясь.
– Но моим так хорошо живется, – снова заговорила она. – У них вдоволь рыбы, и незачем разыскивать и отвоевывать ее, их каждый день ласкают, а зимой забирают в дом. Фатима, та просто-таки обожает меня и была бы несчастна, если бы я развязала ей крылья. Правда, Фатима-милочка? А Дужа такая жадная, что на воле, наверное, недоедала бы. Про Ясоду и говорить нечего: ее заклевали бы насмерть, правда, маленькая моя?
Птицы благосклонно принимали ее ласки, и она бросала на Риккардо вызывающие взгляды.
– Должно быть, я неправ, – согласился он, глядя на нее. – Когда сидишь в тюрьме, многое зависит от того, кто у тебя тюремщиком.
Она подошла к нему ближе.
– Знаешь, Риккардо, с нашей крыши, с одного угла виден настоящий гарем. Моя комната в прежней женской половине дома, и оттуда есть выход на крышу.
– А кто живет в соседнем доме?
– Загадочный какой-то дом. Я расспрашивала арабов, – никто не знает. К дверям подъезжают иногда закрытые кареты со спущенными на окнах пунцовыми занавесками. Владелец, верно, богат – очень уж хороши лошади. На крышу часто поднимаются арабские дамы. Одна из них как-то заметила меня и, смеясь, крикнула: «Bonjour»; на ней не было покрывала. Немолодая уже, но красивая. Она держала в руке книгу – французский роман, я видела. Я бросила ей розу, она подхватила ее и понюхала. Я никому-никому не говорила об этом. От Сальваторе, в особенности, скрывала. А то он непременно пошел бы посмотреть, и был бы страшный скандал, и его убили бы, пожалуй.
– Как? Только за то, что посмотрел бы?!
– А ты думаешь? – Она важно покачала головкой. – О, видно, что ты не жил здесь с самого детства, как я. Тунис не так цивилизован, как Алжир.
Сальваторе был из всех членов семьи наименее симпатичный. Легкомысленный, рассеянный, с дряблым лицом, он выглядел старше своих девятнадцати лет. Делами отца он, видимо, не интересовался и особенно нежных чувств к нему не питал.
– Как ты находишь Тунис? – спросил он, когда впервые остался с глазу на глаз с Риккардо, и, не ожидая ответа, продолжал: – Обидно жить в арабском квартале. Все скаредность отцовская. Он настолько богат, что мог бы снять прекрасный дом в европейской части города.
– А я предпочитаю этот дом, – отозвался Рик. – Я нахожу его чудесным.
– Ну, это потому, что для тебя все ново здесь, и арабы кажутся тебе живописными. Но погоди, проживешь здесь с год, и самый вид их будет тебе противен. – Он зевнул. – Нет, мне бы жить в европейской части, поближе к казино.
– А здесь имеется и казино?
– Первоклассное. Мы могли бы побывать там сегодня же вечером, а потом поужинать с актрисочкой, что исполняет пятый и седьмой номер. Славная девчонка!
– Я предпочел бы посмотреть туземные танцы, – ответил Риккардо. – На пароходе один человек дал мне адрес.
– Я мог бы дать тебе кучу адресов. Но танец живота совсем не интересен. Неизвестно, почему туристы считают своим долгом любоваться им.
– Но мне было сказано, что эта танцовщица совсем особенная. Европейцам редко удается видеть ее.
– Слыхал я такие разговоры. Агент, должно быть. Дай взглянуть на адрес.
Риккардо вытащил карточку. Сальваторе рассмотрел ее.
– Улица Каира – место хорошее. Али Хабиб, Нагорная улица? Не знаю, не слыхал. Должно быть, эта в самом деле не из тех танцовщиц, которых можно видеть каждый день. Пойдем, если хочешь, сегодня вечером, любопытно…
Риккардо отнесся к предложению кузена без энтузиазма, но не хотел сразу портить отношений.
Он прошел к себе. Джоконда поставила на подоконник кувшин с цветами, и запах их встретил его, когда он переступил порог. Он подошел к окну. Луна освещала белый patio, и красноватые тени ложились у подножья черно-белых колонн. Дальше шли крыши, неровные, белые, безлюдные. Чары места начинали действовать на него. Он подумал о танцовщице, которую скоро увидит. Что она за женщина?
ГЛАВА III
Сальваторе ждал его внизу. Скарфи-младший старался внешностью походить на француза, и нельзя сказать, чтобы ему это не удавалось. Он был точь-в-точь вульгарный завсегдатай бульваров.
Было тепло, но не душно; в эти последние дни апреля в воздухе еще сохранилась ароматная свежесть весны. Они свернули в улицу букинистов, в которой в жаркую пору дня царит глубокая тишина, пахнет плесенью и пылью от старинных книг и иллюстрированных Коранов. Сейчас она была пустынна и освещалась одинокой масляной лампой. Но свет лампы поглощался лунным светом, при котором почти лазоревыми казались выбеленные известью стены домов.
– Мы делаем большой обход, – пояснил Сальваторе, – но боковыми уличками идти в такой поздний час небезопасно. Сейчас мы свернем на улицу Казбы. Теперь она не хуже любой улицы европейской части, а в прежние времена пользовалась дурной славой. Лет восемнадцать тому назад там совершено было убийство, вызвавшее крупные трения между французской администрацией и итальянским консульством.
– Какое убийство?
– В гостинице, недавно только снесенной, был заколот и ограблен французский офицер. Хозяйка-сицилийка утверждала, будто это дело рук двух арабских женщин. Но женщин этих так и не удалось разыскать, и тайна не разъяснилась.
Они свернули на улицу Казбы. Там было шумно: женщины с непокрытыми головами толпились у лавки мясника, громко торгуясь с ним; несколько сицилийцев сердито спорили и переругивались. Молодая, широкобедрая девушка с густо нарумяненным лицом, поравнявшись с Риккардо, заглянула ему в лицо и поманила его.
С улицы Казбы, на которой жизнь, несмотря на поздний час, била ключом, они опять попали в тихую, белую в лунном свете улицу, в которой лишь редкие двери свидетельствовали о том, что за высокими стенами идет жизнь. Было такое чувство, будто каменной кладкой замуровано что-то живое, будто живые глаза заключены в каменные глазницы Сфинкса. За этой улицей начиналась другая – ее двойник, но поизвилистей.
– Вот дом, который нам нужен, – сказал Сальваторе, остановившись у одних дверей.
Он постучал; дверь чуть-чуть приоткрылась и показалось лицо негра – вернее, сверкнули его глаза и зубы, так как ничего больше в темноте нельзя было разглядеть. Сальваторе сказал несколько слов по-арабски. Негр, по-видимому, запротестовал. Тогда Риккардо протянул карточку Конрадена.
Негр исчез с карточкой и очень скоро вернулся с восковой свечой в руке. Благосклонно улыбаясь, он впустил их в небольшой внутренний дворик. Посередине была протоптана тропинка. Крышей служили простые шкуры, натянутые на бамбуковые трости. Лунный свет отдельными каплями там и сям просачивался на плиты пола, между которыми кое-где пробивалась трава. Все вместе имело унылый вид и меньше всего вызывало представление о пляске и развлечениях. Но слух Риккардо уловил звук странной музыки и дробь восточного барабана.
Негр распахнул перед ними вторую дверь, и они очутились во втором patio, значительно больше первого и окруженном колоннадой из черно-белого камня.
Двор до половины залит был лунным светом; вторая половина, над которой растянута была тяжелая парусина, освещалась ацетиленовой лампой и двумя факелами, воткнутыми в щели между камнями стен. В одном углу помещалась группа музыкантов, а позади них полукругом восседали на стульях пять или шесть женщин, разукрашенных и в широчайших шароварах. Эти женщины тянули нараспев все одно и то же, на одной и той же ноте, а музыканты подле них раскачивались в такт собственной музыке. Лицом к этой группе и спиной к освещенной луной части двора сидела на циновках публика, в бурнусах и тяжелых плащах. Лица у женщин были тупые и неподвижные, ни один мускул на них не шевелился. Лишь изредка та или другим улыбалась и едва заметно кивала головой кому-нибудь из публики. Риккардо смотрел, разочарованный, на их раздавшиеся фигуры, на толстые, в белых чулках, лодыжки, горой вздымавшиеся груди и тяжелые бедра. Даже одеты они были безвкусно – слишком ярки были краски, слишком откровенно выставлялись прелести.
– Ничего хорошего пока не вижу, – сказал Сальваторе, зажигая папироску.
Почти все арабы курили. Видя, что Риккардо отказался от предложенной ему кузеном папиросы, один из них вынул изо рта свою трубку, заново набив, зажег ее и учтиво протянул Риккардо. Тот хотел было отказаться, но, взглянув на Сальваторе, понял, что этого делать не следует. Он взял трубку и затянулся. Трубка была с длинным деревянным чубуком, а сама глиняная, не больше желудя. Запах и вкус были приятные. Араб, улыбаясь, смотрел на него, и когда трубка опустела, снова набил ее и подал Риккардо, а для себя вытащил из складок своего бурнуса другую. Свой кожаный кисет он положил между собой и юношей, движением руки предлагая Риккардо черпать из него, сколько понадобится. Риккардо смотрел, как тает облачко дыма, ему казалось, что рассеивается оно не совсем, а тонкой пеленой носится между ним и музыкантами. Чувство истомы и общей слабости овладевало им. Возможно, что к листьям табака подмешано было немного опиума. Пелена дыма мало-помалу сгущалась, и получалось как бы тонкое, очень прозрачное покрывало, сквозь которое он прекрасно, с поразительной отчетливостью различал все детали.
Носовому пению и монотонной дроби барабана, казалось, никогда не будет конца. Но грубые и невыразительные лица женщин сейчас, когда он смотрел на них сквозь пелену дыма, приобретали в глазах Риккардо своеобразную трагическую красоту.
И арабы продолжали курить, глядя прямо перед собой, строгие и печальные. Многие из них часто вдыхали запах роз или гвоздик, которые держали в руках, или потягивали черный кофе. Но внимательные спокойные лица не улыбались и не выражали ни малейшего нетерпения.
– Когда же начнутся танцы? – собственный голос прозвучал для Риккардо как будто издалека, будто кто-то другой говорил его устами.
Пение вдруг оборвалось, и мальчик, весь в белом, заново наполнил чашки.
Риккардо отложил трубку и отпил кофе.
– Что это за штуку я курил? – спросил он Сальваторе.
– Пустяки… это киф… слабая замена гашиша. Гашиш для большинства арабов чересчур дорог, – небрежно ответил кузен.
Музыка возобновилась. Риккардо внимательно присмотрелся к инструментам: был тут странный, с одной струной инструмент, сделанный из черепахового щита, затем бамбуковая флейта и два барабана, которые собственно представляли собой глиняные глазированные кувшины – один из них был зеленый, другой синий, – у которых дно было выбито и отверстие затянуто кожей.
Но вот женщины задвигались, и одна из них встала, улыбаясь. Была в ней какая-то грубая красота: большие глаза, очень густо подведенные, правильные черты. Но как могла она танцевать при такой тучности? Впрочем, танцем это навряд ли можно было бы назвать. Танцевала не женщина, а тот излишек плоти у нее на груди, на бедрах, который поднимался и двигался, как волны морские. Иногда она поворачивалась спиной к публике или откидывалась назад, показывая обнаженные груди.
Сальваторе зевал и, наконец, не выдержал, направился к высокому арабу, стоявшему невдалеке. Действительно, тот оказался Али Хабибом, хозяином. Он учтиво, хотя и с видом превосходства, как показалось Риккардо, выслушал то, что говорил Сальваторе.
Потом сделал знак одному из музыкантов. Тот вышел. Сальваторе вернулся.
– Есть еще одна особенная танцовщица, за ней послали.
Танцевавшая женщина вернулась на свое место. Музыканты перешли на другой, более легкий мотив. Барабанная дробь участилась. По предложению молодого араба, Риккардо снова набил свою трубку, и снова тонкая дымка затянула все предметы.
– Вот! – взволнованно крикнул Сальваторе.
Впереди полукруга гурий, освещенная светом факелов, появилась женщина, с головы до ног завернутая в шелковое покрывало темно-красного цвета. Она медленно продвинулась на середину и вдруг быстрым движением стянула вокруг себя складки своего покрывала так, что отчетливо обрисовались все линии ее тела. Это было сделано так искусно, что кругом пошел шепот одобрения.
Лица арабов впервые оживились. Они нагнулись вперед, улыбаясь, смотрели на темно-красную фигуру и издавали восклицания восторга и удивления.
– Али Хабиб говорит, что она танцует иногда перед беем; в Константинополе получила изумруд от самого султана; объездила весь свет, – пояснил Сальваторе. – Я хотел бы, чтобы она задвигалась – стоит как мертвая.
Они ожидали, стараясь найти хотя бы признак жизни, напряженно вглядываясь.
Наконец! Закутанная в саван фигура затрепетала. Шевельнулась, нагнулась, заколыхалась, – сначала медленно, как трава при первой ласке предрассветного ветерка. Казалось, мумия медленно пробуждается к жизни. Казалось, даже ткань, которой она была одета, меняет оттенок: тусклый темно-красный на более яркий.
Риккардо смотрел, зачарованный. Она не танцевала в европейском смысле слова, но в каждой позе, в каждом движении ее гибкого тела было энергии и порыва не меньше, чем в вихре самой дикой тарантеллы. Музыка звучала громче. Ярко-красная ткань мерцала как пламя, колебалась, то казалась совсем прозрачной, то становилась плотной.
Возобновилась пляска плоти. Но теперь это была не инертная колыхающаяся масса, а человеческое тело, владеющее всеми мускулами и выражающее все оттенки страсти. Риккардо вспомнилась легкая зыбь, какая проходит по телу змеи, когда она медленно подвигается вперед. Вдруг – проблеск – края ткани разошлись. Сомкнулись. Снова разошлись и снова сомкнулись. Как губы, то раскрывающиеся, то сжимающиеся. Арабы вытянули шеи, нагнулись вперед. Покрывало снова раздвинулось и упало. Она стояла полунагая, от подбородка до бедер обнаженная. Риккардо почему-то обратил внимание на синюю жилку на одной груди и на сверкание бриллиантов широкого ожерелья на шее.
А голова, откинутая назад, по-прежнему была закрыта.
Барабаны отбивали бешеную дробь, пенье женщин звучало как мольба, как заклинание. Танец плоти продолжался. Змея это? Женщина? Или то и другое вместе? Хорошо, что она закрыла себе лицо. Тело ее качалось, извивалось, вздрагивало, словно огонь пробегал по нем. Руки в тяжелых браслетах двигались неустанно, пальцы волновались в собственной пляске.
Риккардо не мог больше выдержать. Он не различал уже – его ли это кровь пульсирует, или дробь барабанов отдается у него в жилах.
«Мабрука! Мабрука!» Голоса звучали хрипло. Какое-то безумие охватило всех. Риккардо видел, как сидевший впереди него араб, не помня себя, весь поддался вперед и бросил танцующей что-то, сверкнувшее на лету. Пелена дыма почему-то стала гуще, незаметно слилась с красной тканью танцовщицы, стала плотной, обняла его, задушила. Он потерял сознание. Музыка оборвалась.
Очнулся он нескоро, очень сконфуженный.
– Лучше тебе? – сочувственно спрашивал Сальваторе. – Этот киф оказался тебе не по силам.








