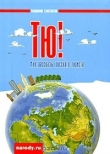Текст книги "Бедный расточитель"
Автор книги: Эрнст Вайс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
8
На другое утро мне пришлось торопиться, чтобы вовремя попасть в школу, находившуюся в пятнадцати минутах ходьбы от пансиона. Голиаф II не подымался с постели. Голова его была туго обвязана. В ответ на мой вопрос – я ведь должен был спросить его, даже рискуя опоздать в школу, – он тупо уставился на меня. Тогда я крикнул:
– Он сидит?
– Сидит! – пробормотал из-под платка Голиаф, и что-то вроде улыбки мелькнуло на его лице. В отчаянной спешке я приказал ему убрать осколки оконного стекла и, если будет нужно, объяснить происшествие несчастным случаем. Очевидно, он не послушался меня. Отсюда-то и начались все беды.
Но прежде всего этот день принес мне счастье.
Я не в силах описать мою радость, когда за обедом мне вручили обернутый в разорванную бумагу рождественский подарок и необыкновенное, замечательное письмо от моей дорогой матери! Она сама выбрала мне подарок и, судя по почтовому штемпелю, отправила его вовремя. Но так как посылка была плохо запакована, ее доставили с опозданием. Мать прислала мне красивую новую щетку для волос с белоснежной жесткой, очень густой щетиной. Ручка щетки была просто великолепна – из антильского лимонного дерева, писала мама, – янтарного цвета и благоухающая, как ветвь лимона в цвету. (Я никогда не видал такой ветви.) А что она мне писала! Она была очень больна и собиралась в тот же день уехать в загородный санаторий вместе «с нашей верной Валли, которая так тебя любит». В тоне письма было что-то непонятное мне. Она писала, что «на всякий случай» просит у меня прощения, что у нее не было намерения прогонять меня из дому, что когда-нибудь, когда у меня самого будут жена и ребенок, я, конечно, пойму ее. Но о своем «разрешении» она ничего не писала. Она говорила только, что боится немного за себя и за ребенка, но что она твердо уповает на матерь божью и на нашего дорогого папу (на моего отца) и что, как это ни глупо, у нее бывает такое чувство, будто она не вернется живой, но она помнит – снова маленький пластырь на большую рану, – что, когда я должен был явиться на свет, у нее было точно такое же чувство. Итак, она желает мне счастливых и веселых праздников, надеется, что эта посылочка придет вовремя и ничто не нарушит моего праздничного настроения. В приписке она извинилась за свой невероятно неразборчивый почерк, словно почерк матери может быть неразборчивым, и подписалась не как обычно – мама, а своим именем и – это было самое замечательное – перед именем поставила еще «твоя».
Я был так счастлив, что немедленно отправился к директору и дал ему прочесть письмо. Но он не увидел в нем ничего замечательного, даже не дочитал его до конца и поглядел на меня не слишком приветливым взглядом.
– Зачем же мы тогда телеграфировали? – спросил он сухо. Его обычно столь ласковая жена не решалась взглянуть на меня.
Она подтолкнула мужа и, стараясь заставить поскорее покончить с этим делом, сказала небрежно:
– Дети всегда преувеличивают! Но, Отто, не забудь о другом.
Тут директор оживился.
– Хорош комедиант! – сказал он. – Что это вы еще натворили вчера ночью?
Я хотел объяснить все, но меня связывала товарищеская тайна.
– Что? Как? Потом! Потом! – сказал директор сердито. – Сейчас у меня нет времени! Пить водку, выбивать зубы, разбивать окна и прочее и прочее! И этакий парень приходит, вытаскивает меня ни свет ни заря из постели и требует денег. Не соврал ли ты? Послал ли ты вообще телеграмму? Почему нет ответа? Врет, как цыган на ярмарке. Говори правду, повеса!
– Оставь! – попыталась жена успокоить его. – Сначала нужно все выяснить.
– Выяснить? Нет! Прежде всего надо возместить убыток, – оборвал директор, – а там мы посмотрим. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Правила внутреннего распорядка требуют дисциплинарного взыскания. Ну, убирайся, чего ты ждешь?
Но я не дал себя выгнать.
– Я не соврал, – сказал я и твердо посмотрел в его серые маленькие глазки. – Я не вру. Телеграмма зарегистрирована в почтовой книге.
– Возможно, – сказал он уже менее ворчливо, – но теперь оставь меня. От наказания ты не уйдешь.
Я не спускал с него глаз.
– Против этого я не возражаю, только, пожалуйста, ничего не пишите моим родителям.
– Вот как, ты еще смеешь требовать, негодный нахал? По какому праву?
– Не по праву, – сказал я тихо и уже сквозь слезы, – а только… здесь… – я указал на то место в письме, где мать говорила о своих опасениях, пожеланиях, просьбах.
– Ладно! Ступай! – сказал он. – Сегодня он ревет, а вчера выбил клык здоровенному парню, этакий вспыльчивый клоп! – Сочетание «вспыльчивый» и «клоп» заставило меня улыбнуться сквозь слезы, директорская чета тоже рассмеялась.
– Пожалуйста, не пишите ничего моему отцу! – повторил я.
– Там видно будет, – сказал он. – Посмотрим, как ты будешь себя вести. Над малышом ты тоже, кажется, учинил какую-то дьявольщину. Кто бы мог подумать? Этакий актер, этакий комедиант!
– Все дети комедианты, – сказала директорша, у которой всегда было наготове мудрое изречение.
– Делайте со мной все что угодно, только не пишите моим родителям.
– Ладно, это я тебе обещаю, – сказал директор, чтобы отвязаться от меня, – но от наказания ты не отделаешься.
Я ушел с легким сердцем. Я был глупым мальчишкой и поверил слову директора. Мы весело пообедали, хотя дни изобилия миновали и пост снова вступил в свои права. После вечерних занятий я наспех приготовил уроки и, задыхаясь от волнения и восторга, вновь отдался волшебству письма. Я написал три длинных послания – первое моей дорогой матери, в котором призывал на нее милость и благословение божье и сообщал ей о своем обете. Второе письмо, несколько более короткое, я отправил Периклу. Его я прежде всего поблагодарил за подарок и сообщил ему, что мы увидимся не во время летнего семестра, как мы думали, а гораздо позже. Ему я тоже подробно объяснил причину этого, хотя знал, что он ни во что не ставит религию, божью матерь, обеты, ex voto и тому подобное. Третье письмо я адресовал полковнику. Это послание было очень коротким, так как уже прозвенел звонок к ужину и надзиратель начал собирать наши письма.
Отцу я не написал. А ведь пока я писал, я много о нем думал, гораздо больше, чем о других. Не могу объяснить, почему я не написал ему. Я вовсе не сердился на него за то, что он не обратил внимания на телеграмму с оплаченным ответом, что он не написал мне, не прислал подарка. Это чувство не могло возникнуть у ребенка, который привык подчиняться такому человеку, как мой отец.
Меня подвергли довольно строгому наказанию. Но я не счел его несправедливым. Правда, зуб, который я искусно вставил, сидел так же крепко, как прежде; зубной врач подивился будто бы моей работе. Но слова, с которыми я обратился к Голиафу: «Он сидит?» – теперь нередко относились ко мне, и товарищи не щадили меня, отвечая: «Да, сидит!» Я сидел. Наказание – шесть часов карцера – не пугало меня. Я использовал это время на воспоминания о юности, – впрочем, что может подросток называть своей юностью! – об отце, о пилигримах, о седом мальчике, о пире, который я задал моим тогдашним соученикам на драгоценные дукаты, о полусгоревшем учебнике по душевным болезням (его я протащил контрабандой, и он скрасил мне часы наказания). В обычное время я не мог читать эту книгу без помехи, любопытные мальчишки не давали мне покоя. Таким образом, время прошло очень быстро, и совесть моя снова была чиста. Я забыл дурацкое выражение Валли «разрешится», я знал теперь, что обет мой принят и что все должно кончиться хорошо. Я всецело полагался на бога.
Действительно, через несколько дней, во второй половине января, пришла наконец телеграмма. Был ли это ответ, оплаченный мною давным-давно? Безразлично. В конце концов и тогда я истратил деньги моего дорогого отца. Я вскрыл телеграмму, и меня охватило чувство неописуемого счастья. Я готов был расцеловать весь мир, даже обоих Голиафов, а особенно – мудрую директоршу.
Содержание телеграммы было очень кратким: «Родилась сестричка. Мать и Юдифь здоровы. Счастливы. Отец».
Помню, что в эту ночь я не мог заснуть от радости. И в простоте своей я думал, что за этим днем последуют уже только счастливые дни.
Действительно, почти сразу пришло очень ласковое письмо от полковника. Отец моего бывшего ученика получил повышение. А потом пришло длинное, необычайно философическое письмо от моего старого Перикла, в котором он советовал мне твердо держаться моего героического (!) решения. Я должен «принять на себя муки одиночества и вдали от пошлых семейных нежностей, которым предается мещанское стадо, с железной силой ковать свою судьбу». Все это было мне совершенно чуждо, я считал большой жертвой, что до самого лета не увижу родных.
Разумеется, я сообщил о моем обете и духовнику, у которого мы исповедовались. Но он вовсе не проникся уважением к избранному мной пути. Правда, он не стал ни порицать, ни одобрять меня за мой обет. Однако он чрезвычайно серьезно предостерег меня на будущее.
– Ты не смеешь самовольно вторгаться на пути божий, – сказал патер. – Ты должен научиться смирению. Смирение есть первая добродетель христианина. Смирение, покорность, терпение – понял? И уверен ли ты, что действительно принес жертву, решив остаться здесь вместо того, чтобы вернуться домой?
Я, не раздумывая, ответил утвердительно.
– Что ж, хорошо. Но смотри, никогда больше не повторяй этого, – сказал старый священник, заканчивая свое наставление.
Я напомнил ему о других ex voto.
– Ты должен благодарить спасителя твоего за проявленную к тебе милость, но ты не смеешь противиться его воле и дерзко вымогать у него то, что тебе хочется. Ты согрешил, и поэтому я накладываю на тебя наказание… – И тут последовало число литаний и других молитв, которые я должен прочесть.
Впрочем, для меня это даже не было наказанием, я вообще любил молиться.
Но должен сказать, что на этот раз исповедь не принесла мне облегчения. С тяжелым сердцем вернулся я в пансион и нашел там – я чуть не сказал: к своему ужасу, – длинное письмо от отца. Предчувствие не обмануло меня. С тех пор как я стоял рядом с Валли на коленях перед печью в старой детской, отец никогда еще не укорял меня так сурово.
Директор не сдержал своего обещания. Он написал моим родителям о происшествии с оконным стеклом. Как я узнал позже, он хотел, чтобы отец заплатил ему за стекло; правда, отец так никогда этого и не сделал, но письмо его опрокидывало все, чего я достиг за месяцы пребывания в пансионе.
Во-первых, отец отменял мое решение остаться здесь, в А., ибо только ему принадлежит право решать этот вопрос и нести «безмерные расходы». Но не расходы принуждают его забрать меня немедленно, нет, – я осрамил его своей невообразимой грубостью и низостью, я сидел в карцере. Самым же ужасным было то, что он обвинял меня в лицемерии и ханжестве. Я попросил, чтобы мне объяснили, что значит «ханжество», но товарищи тоже не знали значения этого слова, его знал только священник. Отец писал, чтобы я не пытался провести его телеграммами, за которые плачу не я. Он не ждал от меня такого поведения, хотя ему следовало бы ожидать всего. «Я не простил тебя, – писал он строго, но справедливо, как мне казалось тогда, – я не простил твоих преступных шалостей, мотовства, подделки подписей, но я забыл о них. Ты заставил меня снова вспомнить все. У меня самые мрачные опасения относительно твоего будущего, ты должен быть у меня на глазах. Не пиши мне и не волнуй бедную мать, которая нуждается в покое и которую очень огорчают твои безобразия. Довольно подлогов, и, пожалуйста, довольно попоек!»
И ни привета, ни подписи!
9
В промежуток времени, к счастью короткий, который прошел между этим письмом и моим возвращением домой, тяжелее всего было то, что я не смел писать.
Недели через две, с помощью товарищей, которые с грустью расставались со мной, – даже мокрун и оба Голиафа простили меня, – я уложил свое имущество в картонную коробку и в старый студенческий чемодан отца. Это чудовище так облезло и так протерлось по углам, что его пришлось оклеить изнутри непромокаемой бумагой. Один особенно добродушный мальчик, с которым я впоследствии встретился снова, хотел даже одолжить мне свой новенький чемодан. Я колебался. Я был горд явиться домой с такой роскошью, но в конце концов я заметил, что мальчик широко раскрытыми испуганными глазами следит за мной. Это было великодушное предложение, но его никак нельзя было принять. Мой отказ, хотя он дался мне нелегко, оказался чрезвычайно правильным. Наконец все было уложено, а в пустое пространство мы напихали старые газеты – вещей у меня было очень мало. Тяжелую объемистую книгу о сумасшедших я решил не укладывать, я собирался читать ее в дороге. Директорша потихоньку от экономного главы дома приготовила мне невероятное количество бутербродов. Мне вручили билет третьего класса, и в одно прекрасное утро я отбыл. Мальчики махали мне из окон. Слуга нес мой студенческий чемодан, в одной руке у меня была книга о сумасшедших, в другой – картонка, я не мог махать, и только на повороте улицы, ведущей к вокзалу, я обернулся, чтобы на прощание взглянуть на очень полюбившийся мне вопреки всему пансион. Я ехал весь день и приехал в родной город поздним вечером.
У меня было не легко на сердце, когда я уезжал, и вернулся я тоже без особой радости. Откровенно говоря, я боялся отца, боялся, как никогда в жизни. Но ведь, с другой стороны, мне предстояло увидеть мою дорогую мать, которая только что оправилась после грозившей ей опасности, и маленькую сестренку, и если я и сжился с пансионом, он все-таки не был моей родиной.
На вокзале меня ждала Валли, прекрасная, как день, полная нежности. На ней был лучший ее наряд. Она была похожа на даму, и меховая горжетка обвивала ее белую шею. Валли сразу взяла всю мою поклажу, она несла ее без малейшего труда, и мы отправились домой. Валли болтала без умолку, смеялась и смотрела на меня своими сияющими глазами, словно не могла досыта наглядеться на глупого мальчишку. Я всегда был уверен в ее привязанности, но сейчас это было мне особенно приятно. Прежде всего Валли рассказала мне о матери, которая совершенно оправилась после тяжелых родов и с радостью и законной гордостью сама кормила ребенка. Теперь она жила в моей детской.
На секунду мне стало тяжело. Я думал, по наивности, что застану дом в том виде, в каком оставил его в середине лета, несколько месяцев назад. Мою комнату, стол у окна, старые чуть выцветшие обои на стенах, где среди извилин узоров я (старый любитель бумагомарания) сделал множество маленьких заметок карандашом. Теперь же, как я узнал, комнату оклеили новыми обоями, кровать матери стояла там, где прежде стояла моя, под черным деревянным крестом с серебряным спасителем.
– А где я буду спать?
– Вы можете спать у меня, – ответила, улыбаясь, красавица и сверкнула на меня своими глазами-вишнями.
Я не понимал ее. В этот вечер мне, право, было не до шуток. Я промолчал, она поглядела на меня искоса и тоже умолкла. Чемоданы в ее руках не дрожали. Она попыталась было взять их в одну руку, – ведь они образовали барьер между нами, но для одной руки они были все-таки слишком тяжелы, и мы пришли домой, держась на должном расстоянии друг от друга.
Мать встретила меня очень ласково. Она была еще бледна, но казалась помолодевшей и даже сама стала похожа на ребенка. Лукаво улыбаясь, совсем как ребенок, она повела меня в мою бывшую комнату и там, в темноте, показала мне сестру. Она не хотела зажигать свет, но в отблеске очень светлых обоев я увидел рядом с ее кроватью маленькую кроватку с веревочной сеткой, которую я хорошо знал со времен собственного детства. Я подошел к ней на цыпочках и просунул руку сквозь петли сетки. Я услышал тихое и ровное дыхание Юдифи. Пахло чем-то кисленьким. На моем бывшем письменном столе белели детские весы и стопка пеленок, от которых шел запах миндального мыла и лаванды. Я подошел к кровати матери. Я вспомнил о моей оборчатой думочке. Валли, стоявшая тут же, угадала мои мысли.
– Она уже там, сударь, – сказала Валли, указывая на дверь в коридор, который вел в спальню родителей.
– Ну, теперь пойдем ужинать, – сказала мать и нежно увлекла меня в столовую. Стол был накрыт на нас двоих.
– Покамест ты будешь спать с папой в большой спальне. Только первое время. Папа тоже хотел поехать на вокзал, он спрашивал Никласа (кучера), поспеет ли он еще к твоему поезду, и Никлас сказал, что поспеет. Но ему нужно было еще после, то есть раньше, поехать на операцию, ты понимаешь? Он, конечно, очень сожалел, но ведь он должен был поехать. Правда?
Я кивнул. Я был очень голоден. Валли и старуха кухарка, ни за что не желавшая показаться сейчас, хотя она всегда была очень ко мне привязана, долго ломали себе голову, как бы приготовить мои любимые блюда. У меня было тяжело на душе, но даже множество бутербродов директорши не смогли утолить мой голод во время долгого пути, и теперь я ел с жадностью. Удовольствия от еды я не получал, меня мучило беспокойство. Если бы кто-нибудь несколько месяцев тому назад сказал мне, что я буду вздрагивать при каждом шорохе на лестнице!
– Что с тобой? – спросила меня мать. – Ты так устал? Еще бы, такая дорога!
– Нет, дорога нисколько меня не утомила, дело не в этом.
– Ты ведь не сердишься на нас за то, что мы переселили тебя в спальню?
– Что ты, мама! – И я повис у нее на шее и сквозь тонкую тафту ее блузки почувствовал упругую теплую грудь и услышал тихий треск планшеток корсета, которые подымались и опускались в такт ее глубокому дыханию.
Я не плакал. Я спросил, изо всех сил стараясь подавить дрожь в голосе:
– Он очень на меня сердится?
– Сердится? – вскричала мать и так стремительно выпрямилась, что планшетки затрещали снова. – Сердится на тебя? Мы? Но не папа же! С чего ты взял?
Я молчал, и она продолжала, словно про себя:
– Да вовсе не сердится. Откуда это ты взял?
– Ну, тогда все в порядке, – сказал я и снова сел.
Валли переменила тарелки.
– Напротив. Мы рады, что ты опять с нами. Просто он считал, что твое пребывание в пансионе обходится ему слишком дорого. – И мать рассмеялась. Она, очевидно, не понимала, что между мной и отцом произошло нечто ужасное. После ужина я еще раз пошел в детскую. Ребенок тихо шевелился и плакал. Я встревожился, но мать рассмеялась воркующим смехом.
– Она просто хочет ужинать, и я принесла ей покушать. Подожди-ка минутку, Юдифь, – обратилась она к сестренке, – сейчас я приду к тебе.
Она стала рядом со мной и преклонила колени на старом коврике у своей постели. На ночном столике в зеленой лампадке горел, плавая в масле, фитиль. Ноги спасителя, проткнутые гвоздями, белели на черном тусклом дереве. Мы смотрели на них и молились. Потом мать наскоро перекрестила меня и подтолкнула к двери, но тотчас же вышла следом за мной и, быстро поцеловав меня, прошептала:
– Только веди себя ночью очень, очень тихо, у папы чуткий сон. Ты не храпишь ведь? Нет, он не рассердится, тут ничего не поделаешь. Он извинит тебя, разумеется. А вот кое-что другое, между нами… Он не любит, когда ночью встают. Поэтому сделай все сейчас. Я тоже себя приучила и теперь очень ему благодарна. Я не встаю и не бужу моего ребенка.
Я понял. Впрочем, у меня никогда не было привычки вставать ночью по своим надобностям.
– Только не сердись, – сказала мать, заметив, что я помрачнел. – Я желаю тебе добра, я хочу, чтобы мы все непременно жили в мире. Так, ну дай я тебя еще раз поцелую. Спокойной ночи, приятных снов.
Я повернулся и вошел на цыпочках в спальню родителей. Рядом с кроватью отца я увидел свою кровать, казавшуюся очень маленькой; моя старая тумбочка стояла тут же.
Я помрачнел только из-за слов матери: «Я не бужу моего ребенка», – ведь при этом она думала только о своей Юдифи.
Я разделся и лег в постель. Мои старые подушки и тюфяки были все-таки великолепны. Не знаю, скоро ли я проснулся или нет. Надо мной стоял отец и смотрел на меня со своей неопределенной улыбкой, которая не сулит ни доброго, ни злого. Потом он нагнулся, поцеловал меня в щеку и начал тереться о нее своим небритым, поросшим жесткой щетиной лицом. Мне было больно, но это была чудесная боль, потому что она исходила от него, и я ясно видел, что он смеется.
– Ну, вот, хорошо, что ты снова дома. Спи теперь. Завтра поговорим на досуге. Ты ведь привез мой роскошный чемодан?
– Разумеется, – сказал я, счастливый, что слышу его голос. Он выпрямился, я увидел прямой пробор в его прекрасных темно-русых волосах.
– А как тебе понравилась Юдифь? Ты гордишься такой красивой сестричкой?
Сестра моя была действительно красива, но это я понял только утром. В эту ночь я заснул спокойный и счастливый. Я простил отцу его письмо, которое доставило мне столько горя. Я забыл, что он принудил меня нарушить обет, который я дал в часовне, я забыл даже, что он не подписал своего жестокого письма.
Сестра моя казалась очень хрупкой, у нее было малюсенькое, но вполне сформировавшееся личико, чуть расплывчатый, как у всех детей, носик и коралловые, замечательно очерченные губы, совсем как у взрослой женщины. Над высоким выпуклым лбом вились волосы, редкие, но мягкие, как шелк, и такие светлые, что казались почти серебряными. А руки у нее были изумительной формы. Единственное, что мне не совсем понравилось, это серьезное, сосредоточенное выражение ее лица. Сестра моя редко опускала веки над своими большими синими глазами, и казалось, что малютка не спускает тихого и пристального взгляда с того, что она увидела, хотя на самом деле она не видела еще ничего. Рядом с этим чудом природы цветущая красота Валли казалась грубой. Я узнавал в маленьком личике сестры черты лица моей матери, когда она была ребенком и молодой девушкой, во времена, столь от меня далекие. Девочка была очень спокойна, редко плакала и кричала, разве только когда была нездорова, или хотела кушать, или когда что-нибудь ее тревожило. Она никогда не мешала мне заниматься. А мне пришлось взяться за работу на следующий же день.
Я уехал из А. в середине недели, в среду, и теперь между мной и директором, его женой. Голиафами, обетом и т.д. – легло уже большое расстояние. В конце недели я должен был явиться в школу. В воскресенье я увиделся с моим дорогим Периклом, который от радости поколотил меня (а ведь я был в десять раз сильнее и почти вдвое выше его!), и в понедельник я снова отправился старой дорогой в школу. Еще слегка подмораживало, и, как всегда в прежние голы, я наступал на тонкий ледок, который весело трещал и рассыпался у меня под ногами. Отец ни в чем не упрекал меня. Но он промолчал, когда, набравшись смелости, я намекнул ему о моих планах на будущее. Он был очень занят, больше следил за своей внешностью, и галстуки его уже не были вывернуты наизнанку, как в старые времена.