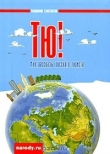Текст книги "Бедный расточитель"
Автор книги: Эрнст Вайс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Отец с непроницаемой улыбкой слушал мой телефонный разговор.
– Все хорошо, – заметил он. – Я хотел сказать тебе, что недавно я говорил с Валли и, конечно, убедил ее не отдавать твоего Макса в духовную семинарию. Так когда же ты уезжаешь?
Я пожал плечами, готовый расплакаться.
– Когда же мы простимся? – спросил отец, пытаясь шутить.
Я покачал головой. Он давно понял, что я остаюсь. Через два дня температура у него стала нормальной, и, благодаря усиленному питанию, он быстро поправился.
2
Где мне было жить? Отец сообщил таинственным тоном, что нашел для меня ответственную работу. Место ассистента в том отделении госпиталя, которым он заведовал, а кроме того, у него в клинике. В госпитале работала молоденькая женщина-врач, ее нельзя было прогнать без причины. В клинике, где работы было мало даже для одного врача, легкую, но плохо оплачиваемую должность ассистента занимал очень дряхлый старик-неудачник.
– Не можешь же ты оставить его без куска хлеба! – сказал я.
– Как тебе будет угодно, великий друг человечества. Но у нас ты жить не можешь.
Он перечислил всех членов семьи и прислугу, включая только что поступившую кормилицу. Найти ее было очень трудно; женщины рожали все реже, а большинство матерей были так истощены и измучены, что у них не хватало молока.
– Я перееду к моей старой хозяйке, – сказал я.
– Тебе, конечно, хорошо и спокойно у нее, но можно ли будет в любое время вызвать тебя по телефону?
Я пожал плечами, охваченный гневом. Но я уже не был прежним. Война излечила меня от вспышек бешенства.
– У меня есть гораздо лучшее предложение, – сказал на другой день отец. – В одном из моих домов освобождается прекрасная квартира.
Валли слушала наш разговор, она сделала мне тайком знак. Уж не думала ли она, что я перееду в эту, квартиру вместе с нею и с сыном? Я промолчал.
– В сущности, она не свободна, нет, разумеется, – пояснил отец, – но у тебя есть на нее право. Тебе стоит только мизинцем пошевелить, и мы выселим жильцов.
Теперь я понял знак, который мне сделала жена. Она хотела предостеречь меня. Я был благодарен ей за ее великодушие.
– Я не могу этого сделать.
– Так, он не может, – обратился отец к Валли. – Вот он весь тут перед тобой – мой взрослый сын. Ему нужно, чтобы и овцы были целы и волки сыты. Как тяжелораненый, как обладатель медали за храбрость, как…
– Хватит! – крикнул я.
– Дай мне договорить! Я не собираюсь тебе льстить, напротив. Я хочу только сказать – ты мог бы добиться выселения любого жильца из моих домов. Но он не хочет, он не может. – Он передразнил мою интонацию. – Вот видишь, Валли, мы-то с тобой, мы должны были бы его знать, да мы и знаем его. Он всегда готов к величайшим жертвам, только бы не идти на малейшие уступки. Ну, как тебе угодно. Тогда мне ничего не остается, как уволить старого доктора, он все равно мой крест. Ты будешь ассистировать мне при операциях; в лазарете будешь оперировать самостоятельно, а ночевать можешь покамест (он посмотрел на Валли) в клинике, в дежурной.
Жена сообщила мне по секрету, что означало это «покамест». Отец намеревался очень дешево, чуть ли не даром, приобрести запущенную, но чрезвычайно аристократическую виллу с большим парком, и Валли вела переговоры от его имени. На этой вилле должна была соединиться вся семья. Места там, по-видимому, было так много, что предполагалось впоследствии тут же выделить квартиру для «нашей» взрослой дочери Юдифи, если через несколько лет, когда она выйдет замуж, все еще будет трудно с квартирами. Отец снова верил в победу монархии, и Валли, настроенная крайне недоверчиво, насилу удерживала его от чрезмерно большой подписки на военные займы; он полагал, что подписка доставит ему второй орден. Он все еще надеялся на орден Франца-Иосифа, хотя из его «Объединенного госпиталя по глазным болезням» и прочих начинаний ничего не вышло, и он с трудом избежал судебного процесса. Да, Валли часто служила теперь посредником между мною и семьей. Она все еще любила меня. Я был бы счастлив, если б мог ответить на ее любовь. Я уважал ее и знал, что теперь, добившись твердого положения для себя и для своего ребенка, она по мере сил будет заботиться и обо мне. Она уже не была тоненькой девушкой, как в былые годы. Но лишения военного времени почти не отразились на ней. Ее красивая походка, гордо откинутая голова, ее темные глаза, волосы, прелестные полные губы нравились очень многим.
Я был холоден, я видел в ней только хорошего товарища. Я изнывал, мечтая о том, чтобы Эвелина подала хоть признак жизни. Я ставил себе срок за сроком, месяц, полгода… Ни строчки. Ее брат писал мне часто, но он даже не упоминал ее имени. Я вынужден был прямо спросить его о ней – о ней и о ее муже. И узнал, что майор вовсе не находится на албанском фронте. Он решительно откинул все патриотические сомнения, терзавшие моего любимого друга – отца Эвелины, перешел на сторону Польши и вступил в «австрийский» отряд польского легиона в Люблине. Легион этот не признавал австрийского эрцгерцога королем Польши, он дрался за независимую Польскую республику. В этом письме Ягелло умалчивал о своей сестре. Лишь после вторичного вопроса мне удалось получить ответ, к сожалению, очень грустный: «Я хотел как можно дольше скрывать от тебя положение вещей. Я знаю, что ты дружен с нею, но теперь вынужден сказать тебе правду. Эвелина, очевидно, серьезно больна. Впрочем, жизни ее опасность не угрожает, так она пишет, но она никогда не верит в опасность. У нее всегда были слабые легкие, но мне кажется, что в последнее время у нее постоянно лихорадочное состояние. Пожалуйста, не показывай ей виду, что ты узнал об этом от меня. Адрес моей полевой почты меняется. Скоро я напишу тебе подробно. Моя книга о детском труде, к счастью, уже в печати. Надеюсь, что скоро смогу прислать ее тебе. Твой старый товарищ Я.»
Я не думал, что известие о ком бы то ни было еще способно вывести меня из равновесия. Начались мои бессонные ночи, ужасные, бесконечные дни, когда я ждал ответа на письмо к Эвелине. Домашние меня избегали. Мать даже побаивалась меня. Напрасно! Я был так убит, что, право же, никого не мог обидеть! Но стоило матери услышать, как я иду, тяжело волоча неподвижную ногу, она убегала. Она не любила печальные лица. Сама она так и не оправилась после последних родов.
Роды в сорок шесть лет! Неясное положение отца, возбуждение уголовного дела, которое произвело на нее еще большее впечатление, чем на него, мое неопределенное будущее, непокорная, холодная, надменная Юдифь, куча детей… Она никак не была уверена, во всяком случае, в отношении малышей, что сумеет их вырастить. А теперь еще горе, написанное на моем осунувшемся лице! К чему расспрашивать меня? Она обходила меня стороной. У нее не было и самого маленького пластыря, чтобы наложить его на мою большую рану. От Эвелины по-прежнему не было вестей. Глядя на меня, отец качал головой. Руки мои дрожали при самом легком пожатии, не могло быть и речи о том, чтобы доверить мне операцию глаза. Я так плохо исполнял свои обязанности в клинике, состоявшие главным образом в том, чтобы впускать капли и дезинфицирующие средства в глаза больным, играть в карты и болтать с выздоравливающими, что отец сожалел о том, что уволил старого врача. Наконец жена принесла мне открытку на мое имя. Я издали увидел Валли с этой открыткой в руках. В глазах у меня потемнело. Правое колено подогнулось. Я едва удержался на ногах. Я решил, что Ягелло извещает меня о смерти его сестры. Но я ошибся. Открытка была от нее. Содержание было очень кратким. «Спасибо! До скорого письма, с сердечным приветом!» И подпись – «Э.». Жена пристально наблюдала за мной.
– Кто это пишет тебе из Радауца?
– Товарищ по полку, лейтенант граф Эдгард Моциевич.
– Я не знала, что у тебя в гарнизоне есть близкий друг, который подписывается только инициалами.
– Да, это странно, – ответил я, – но мой товарищ Ягелло тоже подписывается: твой старый товарищ Я.
Я готов был плакать от радости. Мне захотелось быть добрым, порадовать чем-нибудь жену.
– Когда мы переезжаем? – спросил я ее.
– На виллу? – И глаза ее засияли. – Этой зимой. (1918.) А летом мы поедем все вместе в Пушберг, да?
Я ответил утвердительно, ей так хотелось этого. Может быть, ей казалось, что там, в старом деревянном доме, где когда-то началась наша связь, мы снова обретем друг друга. Я вздохнул с облегчением, ко мне сразу вернулась обычная энергия, я до поздней ночи занимался, читая специальный труд по глазным болезням, и попросил отца разрешить мне ассистировать ему на другой день при операции. Он удивился, но, разумеется, охотно разрешил.
Отец должен был сделать операцию глаукомы или так называемой желтой воды. Причиной этого еще не вполне изученного заболевания является иногда внезапное, иногда медленное повышение внутриглазного давления, ведущее к атрофии нерва и к слепоте. Глаукома встречается нередко. Один случай из ста падает на эту болезнь. А если учесть огромное количество сравнительно легких заболеваний, из которых складывается практика такого популярного врача, как мой отец, то и один процент – это очень много. Как часто жаловался отец на глупость, бездарность и небрежность окулистов, направлявших к нему таких пациентов. Но он никогда не высказывал своего мнения прямо в лицо коллегам, чтобы не отбить у них охоту обращаться за консультацией именно к нему. Врачи то и дело ставили ложный диагноз или применяли неверное лечение. Атропин, расширяющий зрачок, яд для глаза, склонного к глаукоме, а так как атропин употребляют при многих заболеваниях, то «дорогие коллеги» применяли его на авось, в любых случаях. Бывало и так, что врач принимал «желтую воду» за помутнение хрусталика, то есть за старческую катаракту, и утешал бедного больного тем, что она «созреет», а к отцу являлся уже ослепший человек, истерзанный ужасными болями, и ему ничем нельзя было помочь, разве что удалив слепой глаз, ибо при глаукоме слепота, к сожалению, вовсе не является завершением страданий. Болезнь эта известна с давних времен. Измерить внутриглазное давление совершенно точно, конечно, трудно, я очень скоро обратил на это внимание. Зато вдавленный сосочек зрительного нерва виден весьма отчетливо. В былые времена глаза, пораженные глаукомой, были обречены на слепоту – глаукома всегда поражает оба глаза. Но какому огромному количеству обреченных можно помочь своевременной операцией после гениального открытия Грефе! Открытие это было сделано случайно. Операция Грефе состоит в том, что из радужной оболочки иссекают клинышек. Почему эта операция почти всегда дает благоприятные результаты, до сих пор еще окончательно не выяснено.
Приступы глаукомы необычайно мучительны. Я понял теперь, почему многие больные глухо стонут и громко сетуют, я слышал это еще в детстве, у себя в комнате, которая находилась над кабинетом отца. Боль гнездится в голове, в ушах, даже в зубах. Она лишает несчастного сна и аппетита. Отца часто вызывали к больным, у которых появлялся жар и начиналась рвота, но у которых ничего нельзя было констатировать, кроме мутноватой роговицы, опухших век и, в самых тяжелых случаях, кроваво-красной слизистой оболочки. Первые приступы, как правило, проходят. К глазу, который во время приступа почти перестает видеть, снова возвращается зрение. Больной – обычно это пожилые люди – думает, что он выздоровел.
– Благодарю вас, господин профессор, – сказал один наш пациент на другое утро, – я опять могу читать и писать.
– Да, вы выздоровели! Но чтобы дать вам полную уверенность, мы сделаем вам операцию. Дело идет о пустяковом хирургическом вмешательстве. Через неделю вы забудете все свои горести, а что касается платы, я пойду вам навстречу, ведь теперь война.
Возможно, что перспектива отделаться дешевле, чем обычно, заставила пациента подвергнуться операции. Я спрашивал себя, почему отец не сказал этому человеку правды. Отец считал это излишним. А кроме того, он не хотел волновать больного. Не из человеколюбия, в этом я убедился в других случаях. Он щадил его как окулист, зная, что при сильном волнении второй, здоровый еще глаз тотчас же заболеет глаукомой. На этот раз отцу, как всегда, ассистировала молоденькая женщина-врач, так что мне оставалось только смотреть – и восхищаться им. Воспаление затрудняло разрез радужной оболочки. После операции, оставшись со мной наедине, отец обратил мое внимание на опасности, которые таил данный случай. Хирургу следует быть очень осторожным, чтобы не повредить переднюю капсулу хрусталика, непосредственно прилегающую к радужной оболочке. Малейшего неосторожного движения больного, малейшей дрожи в руке хирурга совершенно достаточно, чтобы погубить глаз. Хрусталик, оболочка которого повреждена, набухает; он, словно разбухшая губка в футляре, еще увеличивает давление, и тогда глаз потерян. Но это лишь одна из многих опасностей. Кровоизлияние в радужной оболочке столь же опасно. Края раны вообще нелегко затягиваются, но если рана затянется, а между краями попадет посторонняя ткань, то глазу опять-таки грозит слепота. Как часто восхищал меня отец, волшебная легкость его руки, его безошибочно верный глаз, его непоколебимое спокойствие!
– Как ты мог находить время не только для своего призвания, но еще и для нас? Как можно, так работая, помнить о чем бы то ни было еще?
– Вначале я тоже так думал, – ответил он скромно. – Но привыкаешь ко всему, разумеется. Удается многое, но далеко не все. Вот ответственность мы несем за все, – и это не всегда окупается деньгами, теперь ты понимаешь? Но что с тобой делалось в последнее время?
– Не беспокойся, – сказал я, – все уже в порядке.
Отец ласково взглянул на меня.
3
К этому времени явно начал ощущаться недостаток врачей. На месте, которое я занимал, требовался именно молодой, трудоспособный и трудолюбивый врач, и впервые в жизни я почувствовал, что делаю нечто нужное, что, умри я вдруг, меня бы здесь не хватало. Вскоре отец стал мною доволен. Вначале я, как ни старался, не всегда удовлетворял его строгим требованиям. Наука врачевания, известная мне по лекциям, и работа, которую приходилось осуществлять на деле! Куча знаний; будто бы усвоенных, и первые шаги в ответственной деятельности! Приходилось врабатываться и долго привыкать к этому противоречию, и это было тем труднее, что теперь, на четвертом году войны, на пороге пятого, мы стали испытывать нужду в самом необходимом. Продукты, уголь, платье, металлы, медикаменты, мыло и т.д. – всего не хватало.
Работа не очень меня радовала. Но я изо всех сил старался быть спокойным, и это мне удавалось. Я не испытывал блаженства в присутствии Валли. Теперь, при совместной жизни на вилле, общение наше, естественно, стало более тесным. Но Валли делала все, чтобы облегчить мое положение. Ей стоило больших усилий относиться ко мне так же по-товарищески, как я относился к ней. И нам обоим это как будто удавалось. Я был здоров, очень занят, война, слава богу, близилась к концу, о котором страстно мечтали все без исключения. Я жил тем, что зримо: моей профессией, семьей, улучшением в мировой политике, которая теперь явно стремилась к вечному миру, к «долой навеки войну», то есть к новой жизни народов Европы – свободных от насилия.
Отец уже не был прежним. Он часто уставал.
– Самое время взять тебя в учение, – сказал он как-то, возвращаясь после операции домой. – Я старею, и до того, как умру, мне хотелось бы передать хоть одному человеку бесчисленные мелкие секреты нашей профессии, которые я постиг на собственном горьком опыте.
Я недоверчиво посмотрел на него, я был уверен, что он родился мастером.
Он понял меня, но не стал углублять этот вопрос.
– Раз я не могу оставить тебе ничего другого, ничего материального, – сказал он, – пусть хоть это будет твоим наследством. Как видишь, наше ремесло всегда обеспечит кусок хлеба.
Правда, до сих пор я не относился к своему призванию как к ремеслу, дающему кусок хлеба, но ведь я стремился стать практичным, брать факты, как они есть, и смириться перед зримым.
Я все еще любил Эвелину, да, я чувствовал, что никого никогда не полюблю уже так, как ее. Даже мое чувство к отцу бледнело перед воспоминанием о ней – и все-таки как мало я ее знал! Правда, я получил от нее открытку, она писала: «До скорого письма!» Но я не написал ей. Я внушил себе, будто слова эти означают, что она сама скоро напишет мне подробно. Я говорил себе, что не надо быть навязчивым. Я повторял себе, что она счастлива в браке, что она никогда не выражала недовольства своим мужем. Значит, я не должен разрушать этот союз. Она больна. В ту ночь, когда я вновь обратился к зримому и углубился в книги о глазных болезнях, я заглянул и в учебник по терапии, в главу «Туберкулез легких». Совсем невинных, совсем неопасных случаев не существует. Волнения – яд для чахоточных, крайняя осторожность, в сущности, единственное их лекарство. Такой человек не должен страстно любить, такая женщина не должна иметь детей, а если она все-таки родит, ей нельзя кормить грудью. Она должна вести жизнь, свободную от всяких забот, такую жизнь может создать Эвелине ее очень богатый муж. После заключения мира он пошлет ее на юг, и даже теперь она может поехать в Швейцарию, в Давос. Я был беден, я зависел от отца. Как участнику войны, получившему тяжелое увечье, мне выдавали пенсию в размере ста сорока шести крон в месяц, и эту сумму, за исключением скромных карманных денег на сигареты, я отдавал жене для того, чтобы она могла платить за нашего сына. Ты должен отказаться от Эвелины, сказал я себе, гордясь тем, что могу от чего-нибудь отказаться. Ты связан нерасторжимым католическим браком, она тоже. Не пиши ей, думай о ней, оставайся навеки ей верен и люби ее.
Я не хотел вспоминать, как я чувствовал себя сигаретой в ее зубах, я не хотел испепелить ее в моих объятиях. Я не хотел разрушить ее брак и украсть то, чего не сумел добиться раньше. Мне кажется, что ее отец, мой дорогой полковник, не отказал бы мне, если бы тогда, в имении, я просил ее руки. Но в двадцать лет я уже был не свободен, у меня уже был ребенок. Этот ребенок тоже принадлежал зримому миру. Он рос быстро, он стал почти сложившимся человеком. Он уже меньше дичился меня. Со временем мой сын начал поверять мне свои маленькие заботы. Он плохо ладил с моими братьями и сестрами, но он не дрался с ними, как дрался бы я в его возрасте. Он сдерживал себя и много молился. Он получал строго религиозное, почти ханжеское воспитание и находился под влиянием обеих женщин, Валли и моей матери, то есть под влиянием духовников, которые давали им советы во всех случаях жизни. До сих пор я старался не вмешиваться в его воспитание. Я предвидел столкновения, а мне не хотелось нарушать семейный мир, покой домашнего очага.
Но не проходило дня, не проходило часа, чтоб я не думал об Эвелине, и, несмотря на торжественное мое отречение, я не мог отделаться от чувства, что нас обоих еще ждет что-то необычайное. Но я уже не призывал со всей страстью это необычайное, я страшился его. Я боялся, что от нее может прийти обещанное письмо. Когда раздавался звонок телефона, я дрожал от испуга – вдруг это она! Но это был только обычный вызов из лазарета: дежурная отчитывалась по телефону, или какой-нибудь частнопрактикующий врач приглашал моего отца на консультацию. Отец и по вечерам часто ездил к больным, иногда, в несложных случаях, он посылал меня, он теперь очень уставал. Ему хотелось посидеть дома, и он с такой радостью глядел, как купают и пеленают на ночь самого младшего, что я завидовал ему. У меня тоже был ребенок, но я не видел, как он рос, я не знал тысячи ежедневных мелких забот, может быть, здесь и крылась причина того, что я не очень любил своего мальчика. Я уважал его, мне нравился его прямой, правдивый нрав, унаследованный от матери. Но моего в нем было мало. Я не узнавал в нем себя. И все же мы часто играли все вместе, и даже отец принимал участие в наших забавах.
Жена, видимо, возлагала надежды на жизнь со мной под одной крышей. Иначе она не старалась бы сделать виллу такой уютной, спокойной, приятной. Сама она всегда довольствовалась малым. Но разве я мог ей лгать? И разве она не поняла бы, что я лгу? Я не допускал и мысли о нашей близости. Я избегал ее так же, как избегал Эвелину, и работа поглощала меня еще больше, чем прежде.
Как-то раз в детской, когда я возился с ребятишками, у меня возникла идея. Я поймал мяч – теперь и он был ценностью – и нечаянно надавил на него своими дешевыми часами (подарок жены), которые носил на браслете. Мяч был старый, он сразу лопнул. В эту секунду мне пришла мысль о человеческом глазе, в котором так трудно измерить давление. Глаз – тот же мяч, значит нужно либо приставить к нему твердый предмет, который при давлении на глаз образует в нем вмятину определенной величины, либо приставить к глазному шару другой, эластичный шар, и до тех пор увеличивать или уменьшать давление, покуда оно внутри обоих шаров не станет одинаковым. Тогда по давлению внутри второго шара легко будет определить давление внутри первого. На другой день я рассказал о моей идее молодому врачу, которая работала с нами, и эта идея не показалась ей столь бесперспективной, как я боялся. С отцом я не поделился моими соображениями, мне не хотелось приходить к нему с какой-нибудь бессмыслицей, да и детская комната была неподходящим местом для научной дискуссии.
Моя коллега происходила из простой, но очень культурной семьи. Она была сирота. Дядя ее работал механиком в институте экспериментальной физики, он был специалистом по изготовлению моделей научных аппаратов и измерительных приборов. Она решила поговорить с ним. Мы встретились и все втроем смастерили прибор. Но прибор этот был слишком груб. Его нельзя было привести в соприкосновение с таким чувствительным и нежным органом, как роговая оболочка глаза, да еще больного. Но мы изготовили вторую и третью модель. Необходимые части можно было достать почти даром, даже в это нищее время.
А время было такое нищее, что исчезли самые необходимые предметы, например, мыло, чтобы купать мою младшую сестренку. В лазарете отцу выдали немного хорошего мыла для больных его отделения. Он потихоньку взял кусочек, чтобы выкупать своего хилого ребенка. Я считал это недопустимым, однако промолчал. Но когда на другой день он снова взял несколько кусков драгоценного мыла уже для Юдифи, которая просто вынести не могла, если у кого-нибудь что-нибудь было, а у нее нет, я осмелился запротестовать. Отец смерил меня злым взглядом, старая непроницаемая улыбка исказила его губы, он пробормотал: «Суррогатный Христос!» В эту минуту вошла наш врач, и я промолчал, ни за что на свете не решился бы я поставить отца в неловкое положение перед посторонним. Может быть, он и был прав. Он старался помочь себе и своим близким, как мог. Я решил быть его учеником! Я хотел, как советовал мне добрый почтальон в лесу между Пушбергом и Гойгелем, превратить свое сердце в мешок с соломой. Я хотел наконец стать как все. Он добился успеха, он сумел подняться от самого скромного положения до чрезвычайно почетного, несмотря даже на судебное следствие, и, оглядываясь на свою жизнь, я вынужден был признаться, что только ему я обязан всем. Кем бы я был без него? Валли никак не способствовала моим жизненным успехам, Эвелина была прекрасной тенью, отец ее умер, Периклу было суждено навсегда остаться среди сумасшедших.
Отец предназначил мне быть своим преемником, наследником своего искусства, своим заместителем в случае его преждевременной смерти. Здесь должен я утвердиться, здесь должен я остаться, он высшая власть для меня, а «власти, – как он говорил, – всегда правы; ибо кто может им воспротивиться?». В больнице все вскоре узнали, что он незаконно присваивает себе небольшое, или, скажем, умеренное, количество предметов, которые через Красный Крест с трудом ввозились из нейтральных стран и предназначались для больных. Все, видимо, одобряли это. Я решил ему подражать.
Отец намеревался провести конец лета в Пушберге, вернее, так хотела Юдифь. Я должен был замещать его и оставаться в городе. Я с удовольствием согласился, ведь я мог хоть некоторое время не видеть жены. Но я решил сначала навестить моего Перикла. Отец освободил меня на день. Этого было достаточно, чтобы съездить в лечебницу и побыть несколько часов у постели друга. Мне хотелось привезти Периклу хоть что-нибудь. Я знал, что больницам нелегко прокормить своих пациентов. Мне очень хотелось раздобыть масла или сала. По высоким ценам из-под полы их можно было достать, так же как мыло, муку и ткани. Но отец счел совершенно достаточным дать мне в долг деньги на дорогу. Из пенсии я ничего не мог урвать, ее едва хватало на нужды моего сына. Следовательно, от сала и масла я вынужден был отказаться. В лазарет только что пришел большой ящик сахару. Каждому врачу выдали по полфунта. Но на эти полфунта рассчитывали моя жена и сын. Значит, мне придется явиться к другу с пустыми руками? Не знаю, не стянул ли бы я пригоршню. Но моя коллега избавила меня от этого унижения, она подарила мне несколько кусочков из своей порции. В конце августа 1918 года я поехал к моему другу Периклу. Лечебница, так ясно запечатлевшаяся в моей детской памяти, оказалась в действительности совсем другой. Стройные ели еще стояли, но дом уже несколько обветшал. Вместо молодых врачей и санитаров здесь были теперь почти одни пожилые служащие. Только директор Морауэр остался прежним, я сразу узнал его. Он был все таким же, как много лет назад, когда зимней ночью провожал моего отца до ворот. Морауэр сейчас же повел меня к моему другу. Я увидел мертвенно-бледного, исхудалого, косящего человека со свалявшейся бородой и бескровными губами, по которым обильно текла слюна. Он лежал, высунув язык. Он не узнал меня. Может быть, он вообще уже ничего не замечал. Не знаю. Спрашивать мне не хотелось. Он лежал на кровати, одетый в грязноватую светло-серую больничную куртку, безучастный ко всему.
– Утверждает, что он всемирно известный философ, – сказал директор, – но никто не в силах разобрать его каракули, да если и разобрать, смысла в них никакого нет.
Я заметил, что Периклу действительно покровительствовали крупные ученые и профессора.
– Ярко выраженная мания величия! О нем заботилась только какая-то старушонка, она и теперь еще заказывает мессы, но платить за него…
Он не докончил. Мой друг начал прислушиваться и спрятал язык. Я приблизился, наклонился над ним, над его лицом, попытался заглянуть в его бегающие глаза. Может быть, он все-таки узнал меня? Я окликнул его, я стиснул его худую и бледную руку. Напрасно. Послышался какой-то омерзительный звук. Он дико заскрежетал зубами.
– Вы интересуетесь им? – сказал Морауэр. – Старая юношеская дружба? Да, понимаю. Самый обычный психиатрический случай. Вчера он твердил, что он Гете и Наполеон в одном лице. Но ему этого мало. Теперь он, прежде всего, Христос! Зато он не бредит миллионами и не объявляет себя первым генералиссимусом империи, как большинство паралитиков военного времени. Он вообще презирает деньги и чины. Даже в развалинах сохраняются контуры здания.
– Перикл! Перикл! – крикнул я. Я был не в силах с ним расстаться.
– Оставьте его, коллега. Не возбуждайте его! – сказал директор.
– У меня нет друга, кроме него, – промолвил я грустно.
– Все мы умрем, – философически заметил Морауэр, – один так, другой этак.
– Но он так страдает!
– Разве? Вы думаете? Это неизвестно. Да, в сущности, и безразлично. Течение болезни от этого не меняется. Страдает? Кто спрашивает нас, угодно ли нам страдать? Проститесь с ним.
– Сейчас, сию минуту! – ответил я, высыпал из пакетика восемнадцать кусков сахара и положил их на тарелочку. Перикл посмотрел на сахар и перестал скрипеть зубами. Он засмеялся, обнажив свои все еще прекрасные зубы. Потом он с наслаждением стал грызть сахар, кусок за куском. Директор проводил меня до ворот, как некогда моего отца, и так же, как его, поблагодарил за посещение.