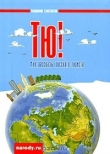Текст книги "Бедный расточитель"
Автор книги: Эрнст Вайс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
6
Шесть дней, последовавшие за этим прощанием, были мучительнейшими в моей жизни. По сравнению с ними первые дни после ранения под Хломи казались мне теперь раем. Я обещал Эвелине ждать, пока она позовет меня, то есть «покуда не будет все позади». Я дал слово. Она сомневалась в моей честности, в моей доброй воле. Так вот теперь я решил доказать ей.
Я бродил по лечебнице, как отверженный. Больные впервые утомляли меня. В большинстве они были неизлечимы. Мой отец оказался прав.
Стояла дождливая ненастная пора, весна все не приходила. Свирепствовал жестокий и коварный грипп. Наши пациенты, как и большинство душевнобольных, склонны были к заболеванию дыхательных путей, сопровождавшемуся повышенной температурой, что нередко очень быстро приводило к печальному концу. Но почему печальному? Не лучше ли для такого больного скончаться в бурном горячечном бреду, чем месяцы и годы влачить безнадежное существование, подобно моему несчастному другу Периклу, от которого не осталось и тени прежнего выдающегося философа наделенного таким исключительным умом. Среди наших больных находился еще один паралитик, человек выдающийся в свое время: это был граф Ц., прославленный спортсмен, получивший некогда первый приз на скачках Вена – Будапешт. Во время войны он был прикомандирован к штабу горной бригады, трижды ранен, до конца проявлял беспримерную храбрость на итальянском фронте и был награжден высшим Австро-Венгерским орденом. Теперь он лежал в комнате рядом с комнатой моего друга, хворал гриппом, и мы всякими впрыскиваниями и укутываниями пытались во что бы то ни стало продлить его жизнь.
Морауэру не понравился мой вид.
– Что с вами? Вы все еще не образумились, несмотря на седые волосы? – грубо спросил он меня. – Ну, что же вы молчите?
Я молчал еще упорнее, не понимая, что этим я только больше раздражаю его.
– Ненавижу всех добровольных сумасшедших, – сказал он с издевкой. – Неужели я бежал от мира и его тупости, чтобы вы, дорогой мой…
Он запнулся, с ненавистью поглядел на меня и закончил приказанием, верным по существу, но он обидел меня так, как никогда еще не обижал.
– Я желаю, – сказал он с деланным спокойствием, – чтобы ваши две комнаты были немедленно продезинфицированы. Ваша жилица была больна заразной болезнью, открытой формой туберкулеза.
– Была больна, – повторил я про себя.
Шел четвертый день разлуки. Нормальные роды никогда не длятся больше сорока восьми часов.
– Вы грезите наяву? – спросил он. – Угодно вам ответить на мой вопрос?
– Комнаты продезинфицируют, – ответил я коротко.
Он ушел. Его белый халат развевался в сумраке коридора, мы очень экономили теперь электричество.
– И ваш мозг, надеюсь, продезинфицируют заодно, – крикнул он уже на ходу.
Я каждый день посылал Эвелине цветы. Их аккуратно ей передавали. Значит – женщина, которую я любил, была еще жива.
Я распорядился продезинфицировать комнаты. Временно я выехал. Уходя, я еще раз оглядел все вокруг. Я не мог расстаться с этой банальной квартирой, обставленной с дешевой роскошью. Я осмотрел углы. Всюду было чисто. Только на подоконнике, возле умывальника, я увидел маленький комок светлых волос, который, вероятно, в последний день она сняла с гребня и свернула узелком. Я оставил его на прежнем месте.
Я любил ее, но я не хотел уподобиться сумасшедшему, который питает особое пристрастие к волосам, ногтям и прочему.
Я не принимал снотворного. Я боялся, что мне предстоят важные решения, и хотел сохранить ясную голову.
Я решил продолжать исследования в университетской нервной клинике над заболеванием зрительного нерва при сифилисе. Но я каждую минуту ждал, что меня вызовут к Эвелине. У нас в лечебнице меня всегда могли разыскать, а там? Я поборол трусость, которая советовала мне не уходить из лечебницы. Я дал чаевые и нашим служащим, и в университетской клинике и вполне полагался на них. Если бы я срочно понадобился Эвелине и меня не оказалось бы в лечебнице, меня отыскали бы в клинике. Я все учел, я продумал все возможности до последней мелочи. Я считал, что готов к самому худшему. Я считал себя мужчиной. Все – сплошной самообман, сплошное заблуждение, сплошное безумие, На шестые сутки, в пять часов дня, мне позвонили, как раз когда я собирался выйти из лечебницы. Мне повезло, у подъезда случайно стоял автомобиль, через десять минут я был на месте. В коридоре я встретил гофрата. Он протянул мне руку. Я пытался прочесть в его глазах. И не смог. Но мне показалось, что он как будто бы доволен.
– Ну как? – спросил я.
– Да, – ответил он, – потеря крови была весьма значительная, но она жива, в сознании и, – глаза его гордо засверкали, – ребенок, очевидно, вполне удавшийся экземпляр, пять фунтов веса, не правда ли?
Он обратился к старшему врачу, который стоял позади него, но не проявлял такого восторга.
– Я хотел бы видеть ее, – сказал я с усилием.
– Против этого ведь нет возражений? – Он снова обратился к своему старшему врачу, точно тот являлся наместником бога на земле.
– Однако нас все-таки немного беспокоит потеря крови, дорогой коллега, – добавил он в заключение и словно пытаясь меня удержать. – Разумеется, мы сделаем все возможное. Ребенок, во всяком случае, не вызывает никакой тревоги.
Я на цыпочках вошел в комнату Эвелины. Сначала я не мог разглядеть ее лица, потому что мой последний букет стоял еще на ночном столике и загораживал ее от меня. Я был так взволнован, что у меня захватило дыхание, когда я остановился подле нее. Она заметила это и прошептала со своей прежней улыбкой:
– Почему ты так бежал?
Я поцеловал ей руку и подавил слезы. Я видел, что она умирает. Ее ребенок лежал в чистой, лакированной, бело-голубой колыбели и спал.
– Шесть с лишним фунтов, – сказала она гордо. – Как ты поживаешь? Мой муж уже написал? Я велела дать ему телеграмму. Я чувствую себя сейчас очень хорошо. У меня ничего не болит, я счастлива. Ты ведь тоже? Знаешь, – и что-то неописуемое промелькнуло на ее бескровных белых губах, – я представляла себе это много хуже. В будущем году я снова хочу ребенка, только от тебя. Ведь только теперь я знаю, что я люблю тебя. Ты меня еще тоже любишь?
Она закашлялась, постель затряслась от кашля. Ребенок проснулся и начал громко кричать.
– Ты мне покажешь его? Только не сейчас. Подойди сюда, поцелуй меня, очень крепко! Не бойся! Подойди ближе. Крепко! Крепче! А теперь, сейчас же передай поцелуй ребенку, я ведь еще не поцеловала его, глупые врачи запретили мне это, они думают, что у меня чахотка.
Я поцеловал ребенка в беззубый, тепленький, разинутый от крика ротик, потом поднял его с мокрых подушек и протянул ей.
– Держи его крепко-крепко, – сказала она, уже задыхаясь. – Я еще очень слаба, я почему-то неясно вижу. Я еще очень слаба. Да, знаешь, это было не пустяком. Ближе, еще ближе, я плохо вижу, разве здесь так темно?
Я держал ребенка, который шевелил ручонками, сводя и расправляя пальчики, около ее лица. Она не совладала с собой, она поцеловала младенца, но она дотянулась только до его уха. Тогда я положил ребенка на подушку, приподнял его головку, и мать без труда прижалась губами к его губам. Но это усилие было для нее слишком тяжело, она упала на подушки, продолжая говорить. Она нисколько не сознавала своего положения.
– Теперь мы будем жить совсем по-другому, – сказала она, – ты должен поближе познакомиться с моим мужем, вы станете лучшими друзьями, потому что вы оба так меня любите. Знаешь, ты великий разбойник и соблазнитель, мне следовало бы сердиться на тебя. В последнее время ты был такой скверный со мной. Ты казался мне настоящим Мефистофелем. Но теперь ты станешь другим? Правда? Разве не жаль было бы отказаться от такого золотца?
Я осторожно положил ребенка обратно в колыбель, и он уснул. Я едва нащупал пульс Эвелины, так он был слаб и редок.
Старый священник, патер С., ее духовник, которого я знал еще с юности, вошел в сопровождении старшего врача.
– Ах, как хорошо, – воскликнула она и попыталась приподняться. – Как хорошо, что вы пришли. Слава Иисусу Христу!
– Во веки веков аминь!
Врач сделал мне знак.
– Вы хотите крестить мою девчурку малым крещеньем, ваше преподобие? – спросила Эвелина. – Она весит семь фунтов, она совершенно здо… – Она вдруг закрыла глаза.
– Разве больше ничего нельзя сделать? – спросил я в коридоре у старшего врача. – Может быть, переливание крови?
– Мы все время делали вливание физиологического раствора. Мы старались продлить ее жизнь, покуда вы…
– Возьмите, пожалуйста, кровь у меня! – сказали. – У вас все приготовлено?
– Как вам угодно, – сказал он. – Может быть, это поможет на несколько часов или дней. Перед неизбежным надо смириться.
Он провел меня в операционную, где еще стоял тяжелый запах крови. Я сел и вытянул руку. Он основательно продезинфицировал большую иглу, вонзил ее мне в локтевую вену и стал медленно набирать кровь.
– Скорее! Скорее! – прошипел я.
– Терпение! – сказал он. – Только терпение!
Наконец он набрал кровь, теперь ему надо было позаботиться, чтобы она не свернулась. Я пошел к Эвелине. Когда я открыл дверь, она поглядела на меня своими громадными серо-стальными глазами, глазами ее дорогого отца. Но мне кажется, она уже не узнала меня.
Ночной столик немного отодвинули, патер успел соорудить на нем маленький алтарь со святыми дарами и причастил ее. Она была уже почти без сознания. Она двигала руками, словно натягивая длинные перчатки. Когда-то в имении – она была еще молоденькой девушкой, – я сопровождал ее на первый большой бал и на ней были белые, узкие лайковые перчатки до локтя. Я опустился на колени перед кроватью, схватил ее правую руку и прижался к ней губами. Я не хотел ее выпускать. Вошел старший врач. Я ничего не видел. Я слышал, как он вполголоса отдавал приказания ассистенту. Священник был все еще здесь. Он стоял с левой стороны у изголовья и молился спокойным, монотонным, умиротворяющим голосом. Переливание крови уже не понадобилось.
Когда все было кончено, патер закрыл ей глаза.
Потом он взял меня за руку и вывел в коридор.
– Мы не можем спорить со всевышним. Пожалуйста, господин доктор, пожалуйста, помолимся за нее. Читайте вместе со мной «Отче наш».
Я послушался. Он читал, а я повторял за ним.
– Не проводить ли вас домой?
– Прошу вас, пожалуйста, – сказал я.
По дороге он рассказал мне, что беседовал с ней до самого конца.
– Как назвать твою дочку? – спросил он.
– Эвелиной, – ответила она, – у нас всегда первого ребенка называют именем матери.
– Эвелиной? Прекрасно! – сказал старый патер.
У подъезда мы расстались, хотя славный старик, вероятно, пробыл бы со мной весь вечер. Мне хотелось остаться одному.
Пробило половину седьмого, и в парке было почти темно. Месяц только всходил. Мне, как всегда, принесли сведения о больных. У графа был сильный жар – 39,9, и мой ассистент не знал, продолжать ли делать инъекции. Среди санитаров тоже было несколько случаев гриппа. Как нам организовать уход за всеми этими больными? Нельзя ли некоторых, занимавших отдельные комнаты, перевести в общее помещение и обойтись, таким образом, меньшим количеством персонала? Мне пришла в голову одна мысль, но я решил еще подождать.
– Я дам вам распоряжения вечером, покамест все остается по-прежнему.
– Слушаю, господин старший врач, – ответил ассистент.
Я заперся в своей комнате, в которой еще сильно пахло дезинфекцией, сел за письменный стол и положил перед собой красивый белый лист бумаги. Я так любил писать. Прежде, в детстве, отец не позволял мне писать. Это было для меня запретной радостью. Теперь она была мне дозволена. Только радость стала не в радость. «Моя последняя воля», – написал я. Но это показалось мне чересчур трогательным, я вычеркнул слово «моя». Но «воля» тоже было не то. Все никуда не годилось. Моя воля была совершенно бессильна, о ней и речи быть не могло. Но ведь что-то должно было стоять на листе. И я написал «Собственноручное завещание». Но у меня и тут нашлись возражения, и тогда я понял, что человек, сидящий за этим письменным столом, издевается над другим человеком, сидящим за этим же столом. Я изорвал бумагу в мелкие клочки.
Теперь, рассуждая строго логически, следовало обдумать две вещи. Какие последствия проистекают, во-первых, из смерти Эвелины, а во-вторых, из моей? Итак, во-первых: муж извещен. Он не откликнулся. Он жив. А может быть, умер? Если жив, он обязан позаботиться о ребенке, которого так хотел. Если его нет в живых, о ребенке должен позаботиться кто-то другой. Не я. Я не любил этого ребенка и не мог любить, потому что он был причиной смерти Эвелины. Но я и не ненавидел его, потому что это был ее ребенок. Из этого следовало, что я не участвую в игре и не несу никакой ответственности. У Эвелины есть родные. Ребенок – наследник, по слухам, колоссального состояния.
Раздался стук. Стучала экономка, которая настоятельно желала со мной говорить. Зато я не хотел. Я знал, что говорится в подобных случаях, и поблагодарил ее заранее через закрытые двери. Ворча, она удалилась. Но она была умная женщина, искушенная жизнью, она не обиделась на меня. Итак, часть вторая. Какие последствия влекла за собой моя смерть? У меня был отец. Большой человек, умный человек, богатый человек, практический человек, либерал. Он утешится в моей смерти. О том, как распорядиться моим состоянием, я мог не тревожиться. Все, что я приобрел, я растратил. Моя наличность равнялась, примерно, нулю. Я отказался от наследства. Мне нечего было ждать денег и имущества от семьи и, следовательно, нечем было и распорядиться в пользу близких. Хорошо. У меня была жена. Я взял ее в жены, потому что мы, – нет, будем правдивы, скажем откровенно все, – потому что она меня обманула. Я, особенно удачливый супруг, был обманут женой еще до женитьбы. Ей это принесло мало счастья. Но я, слава богу, не нужен ей как кормилец, она сама о себе позаботится, а любить ее я не хочу и не могу. Хорошо. У меня был ребенок, который не отвечал на мои письма, которого я почти не знал и который однажды, во время прогулки, очень дружески повис у меня на руке, – приятное воспоминание, но, право же, не причина, чтобы изменять столь важное решение. Мои братья и сестры – большой, цветущий детский рой, все здоровы, все живы, все не температурят, все живы!! Да, все живы, да, здесь под моими окнами жив какой-то почтальон, принесший, верно, заказное письмо или телеграмму. Да и собака привратника жива и по-дурацки воет в лунную ночь, этакая подлая тварь, которая усядется сейчас за свою миску и возьмет кость здоровыми лапами и растерзает ее здоровыми зубами, а потом снова будет лаять, дыша во всю мощь своих здоровенных легких. Так угодно судьбе. Глупость зовется судьбой. Она не ведает, что творит. Но почему она так враждует со мной? Разве я что-нибудь сделал ей? Разве я не честно, по совести… на воде, и на земле, и в воздухе… мне пришла на память старая австро-венгерская воинская присяга, которую я, будучи рекрутом, должен был принести старому батюшке, кайзеру Францу-Иосифу, хотя никто из пышных мундиров, сверкавших за крестом и свечами, не спросил меня, желаю ли я присягать. Но я сдержал ее, присягу, как мог. Мне очень хотелось плакать, мне очень хотелось кричать. Я вышел за дверь. Коридор был пуст. Никто не мог мне помешать. Но, видно, мне не было суждено. Я приготовил все для укола. Я пытался сломить судьбу. Я принял на себя ненужные страдания. (Страдания не возвышают.)
Разве есть человек, который не нуждается в утешении? Но есть разница между человеком в несчастье и человеком, которого постигло такое несчастье, который превратился в жалкого горемыку, годного только на то, чтобы причитать и раскаиваться неизвестно в чем, бунтовать неизвестно против кого.
…Тут позвонил ассистент. Что делать с графом?
– Иду, – ответил я и прошел во флигель, в котором была его палата, рядом с палатой Перикла. Я зашел и к моему другу. Он находился в совершенно идиотическом состоянии, ел руками, его халат был довольно грязен и спереди и, прошу извинения, сзади. Раньше на больных меняли платье каждый день, теперь экономили на всем, ведь теперешние деньги были уже не деньги. Я каждый месяц платил за беднягу, но, право же, сам господь бог должен был бы спуститься с небес, чтобы вернуть ему хоть проблеск рассудка и чтобы он мог отличить, кто желал ему добра и кто зла. Он был моей Габи. Он не благодарил меня. Но я? Разве я обладал еще хоть проблеском рассудка? Разве я знал, кто желает мне добра? Кого мне любить всем сердцем и всей душой? Эвелину, которая видела во мне Мефистофеля? Отца, который «не хотел жить среди врагов»? Жену, которая писала мне такие прекрасные, умные, честные письма?
– Благодарю вас, – сказал я ассистенту, – что вы послали за мной. Смелее! Смелее!
Бедняга вытаращил на меня глаза. Я молчал. Как бы там ни было, он обратил мое внимание на мои обязанности, на мою ответственность перед этим чавкающим, сопящим, дурно пахнущим, и все-таки живым трупом. Ведь если я умру, денег на его содержание не будет. А в казенных сумасшедших домах нет такого вкусного стола, в котором он находит видимое удовольствие, – старуха экономила на всем, только не на питании. Да и жить в общей, тесной палате, вместе с другими, часто буйными, товарищами по страданию едва ли приятно. Говорят, что в этих домах бывают случаи внезапной смерти, которые не фиксируются в протоколах.
– Возьми его с собой! – сказал я себе. – Его отсутствия тоже никто не почувствует. Но как? – Тут у меня мелькнула прекрасная мысль.
– Положите графа сюда. Поставьте их постели рядом, а утром посмотрим. Так легче следить за обоими.
Ассистент согласился, а надзиратель тем более. Мы положили графа, у которого был сильный жар и который долго и страшно кашлял, по кускам выплевывая свое легкое, рядом с моим старым товарищем Периклом, и я ни минуты не сомневался в том, что паралитик-философ в течение ночи заразится роскошным гриппом аристократа. Значит, у него была прекрасная перспектива распрощаться с миром следом за мной. Императорам тоже приходится умирать. Какой наплыв в рай! Эвелина. Я. Перикл. Граф. Если в такой отчаянной душевной сумятице существует утешение, радость, то удар, который я нанес по дурацкой судьбе, облегчил мое сердце, и у себя в комнате я смог наконец заплакать.
Глава шестая
1
Когда я снова зажег свет, я увидел у себя на письменном столе телеграмму, мокрую от моих слез. Я взял ее, вытер носовым платком и начал ходить взад и вперед по комнате. Прочесть? Сделать для себя неизбежное еще более трудным? Я не ждал ничего хорошего от мира, и мир не мог ждать ничего хорошего от меня.
Я принялся искать обрывки бумаги. Я же изорвал красивый белый лист, на котором набросал свое завещание. Куда девались бумажки? – размышлял я. А ведь на всем белом свете не было ничего более ненужного, чем ответ на этот самый праздный из всех праздных вопросов. Но все-таки я нашел его, этот ответ. Здесь была экономка. Это она принесла телеграмму, которую почтальон, встреченный мной во дворе, сдал в канцелярию.
Экономка теперь хорошо видела. Процесс в ее глазах был старым, воспаление – свежим. Искусственная температура и боль излечили то, что не удавалось излечить при помощи испытанных лекарств. Вдруг передо мной возник мой друг Перикл. Его болезнь была тоже застарелым процессом. Вероятно, он заполучил свой недуг много лет назад, после какого-нибудь дешевого развлечения. Теперь он лежал рядом с графом, горящим в жару, и я надеялся, что искусственная лихорадка излечит его, то есть поможет отправиться на тот свет, прежде чем он окончательно впадет в животное состояние.
У меня начались угрызения совести. Смею ли я распоряжаться жизнью, которая мне не принадлежит? Я схватился за телефонную трубку, чтобы дать новое указание. Я поднес ее к уху и почувствовал сильный укол в правом локте. Я вспомнил. Это то место, из которого всего несколько часов тому назад у меня брали кровь, чтобы спасти Эвелину. Меня охватила неописуемая ярость. Я готов был растерзать себя. Я и слышать не желал о спасении. Я снова опустил трубку. На ночном столике, чистенький, на марлевой подушечке, лежал шприц, который мне должен был помочь отправиться на тот свет. Это было мое последнее спасение. Разорви телеграмму не читая, сказал я себе. Потом сядь и сделай себе укол. И ты совершишь все, что тебе еще полагается совершить.
Мной овладела страшная усталость. Колено, на которое я слишком понадеялся в этот дьявольский день, начинало болеть. Только этого еще не хватало, сказал я себе. Я улегся в удобном кресле и взял белую тряпочку и шприц, наполненный до краев. Рядом стояла бутылочка со спиртом. А вдруг экономка в своей преувеличенной любви к чистоте заменила содержимое шприца невинным алкоголем? С нее станется. Тогда вместо быстрой смерти меня ждет только легкое опьянение. Чтобы застраховать себя от такой возможности, я выпустил шприц и хотел взять новые ампулы. Я не нашел их. Дьявол порядка, старая ведьма чистоты унесла их с собой. Нужно было пойти за ядом в центральный корпус. При этом мне надо было избежать встреч. Я не желал больше видеть ни одного человека. Я попытался встать, но почувствовал такую жестокую боль в колене, что со стоном свалился обратно в кресло. Я запасся терпением. Я твердо решился и мог подождать несколько минут. Ждал же я шесть дней и ночей! Я смотрел на телеграмму, все еще лежавшую передо мной. Со скуки я ее открыл.
«Отца удар. Чудовищные денежные потери. Твой приезд настоятельно необходим. Мама».
Я любил Эвелину десять лет. Жизнь без нее была мне только в тягость. Отца я любил почти тридцать лет. Я любил его уже без того обожания, которое чувствовал к нему ребенком. Но я не мог подло бросить его в беде. Я направился к телефону, чтобы вызвать мою жену, и по дороге остановился. А что будет, если семья нуждается во мне? Если отец так болен, что я должен его заменить? Если он при смерти? Я вспомнил об Эвелине. Она еще теплая, думал я, она еще не остыла. Кто закрыл ей глаза? Почему не ты? Ты боялся.
Я никогда не мог понять, почему все считают долгом навещать покойного, лежащего на своем последнем одре. Я никогда не знал, что может сказать мертвый. Она жила. Ты любил ее. Она болела. Ты ухаживал за ней. Она умерла. Ты похоронил ее. Я не похоронил ее. Я думал только о себе, о лучшем способе избегнуть почти невыносимой боли. Как тогда, когда мне прострелили колено, моей первой мыслью было избавить себя самоубийством от боли, которая выше моих сил. Избавиться? Или остаться в живых? В сущности, мне не хотелось жить. Но мне хотелось что-то сделать. Всякое действие, даже бессмысленное, всегда таит в себе нечто прекрасное, какое-то освобождение. Поэтому действие без цели так опасно. Но у меня больше не было цели. Что же мне делать? Никто не мог мне посоветовать. Решать должен был я, сам.
Я снова поднял телефонную трубку, заказал разговор с отцом, потом вызвал к себе по внутреннему телефону директора и экономку. Они пришли. Мы все трое уселись за письменный стол. Шприц я спрятал в ящик ночного столика. Прежде чем употреблять его для других, его нужно будет прокипятить и продезинфицировать, продезинфицировать совершенно так же, как эти комнаты, в которых жила и долго страдала моя Эвелина, Но она никогда больше не вернется сюда, и мне было все безразлично. Наконец заговорил Морауэр. Мы втроем обсудили самое необходимое. В промежутке между деловыми замечаниями слезы ручьями текли у меня по лицу, я отирал их носовым платком, словно честный пот, заработанный тяжелым почетным трудом. Мы ждали, пока нас соединят по телефону с моими. Это продолжалось долго. И мы обсудили тем временем, где и как похоронить Эвелину. Мы не знали, сколько денег было при ней. Плату за пребывание в клинике она, вероятно, внесла вперед, драгоценности, за исключением красивых, дорогих колец, она сдала в тамошнюю контору вместе со своими документами. Мы позвонили туда и узнали, что сумма, оставшаяся у них, за вычетом платы за операцию и роды, очень мала.
– Что же вы предполагаете делать? – спросила экономка.
– Придется нам позаботиться обо всем, нельзя же зарыть ее в землю, как собаку, – сказал я. – В крайнем случае, господин директор, вы одолжите мне деньги.
– Не знаю! Не знаю! Вы великий расточитель? Я еще подумаю! – возразил он, словно можно острить по такому грустному поводу. – А что будет с этим? – С обычной для него бесцеремонностью он прочел телеграмму, лежавшую на столе.
– Я позвонил домой, я жду разъяснений.
– Да, мой дорогой. Беда никогда не приходит одна! – заметил он бестактно.
Я молчал, и мы все уставились ста зеленую настольную лампу.
– В крайнем случае мы похороним нашу бедную красавицу здесь у нас, на деревенском кладбище. Во сколько это может обойтись? У меня там кредит. Я каждый год вношу общине свою дань, – сказал Морауэр.
– Бедняжечке будет здесь так же спокойно, как и в самом аристократическом фамильном склепе. Я, например, не хочу, чтобы меня похоронили в другом месте, – заметила экономка.
На этом разговор иссяк. Морауэр закурил папиросу, и экономка последовала его примеру.
– Может быть, вы все-таки поели бы чего-нибудь? – по-матерински спросила она меня. – Такие переживания обессиливают. Бог знает, что еще ожидает вас дома!
Я поблагодарил. Через четверть часа я запросил коммутатор, заказан ли разговор на почте.
– Только что, две минуты назад.
– Почему же не раньше?
– Х и У (двое наших больных, которые обычно помогали в конторе) больны гриппом. Я не мог освободиться. Вас соединят через несколько минут.
Я поблагодарил.
– Что мы наденем на бедняжку? – спросила экономка.
Я снова пролил немного глазного пота, называемого слезами. На этот раз директор проявил человеческие чувства.
– Глупая баба, – сказал он, – оставьте наконец бедного парня в покое!
– У нее ведь были два чемодана, битком набитые платьями, – безжалостно продолжала старуха. – Найдется же там что-нибудь подходящее. Шубу мы ни за что не отдадим.
Я покачал головой. Я хотел, чтобы ее похоронили в шубе. Я вспомнил вечер, когда встретил ее на вокзале и она укрывалась шубой в холодном номере гостиницы.
– Разве вы не видите, – рассердился Морауэр, – что вы его мучаете. Такая старая и такая садистка!
– Фу! – сказала старуха и рассмеялась.
Он поднялся, готовый уйти.
– Пусть этим любуется кто-нибудь другой!
– Вы старый ребенок, – очень добродушно сказала экономка. – Вы холостяк, у вас нет даже собаки, которая поплачет после вашей кончины. Разве вы можете иметь право голоса в обычных житейских обстоятельствах?
– Преувеличение! Преувеличение, как всегда! – сказал он и снова уселся. Теперь уже он не понимал, что я терплю муки ада, пока он спорит со старухой. На счастье, позвонили из квартиры моего отца. У телефона была моя жена.
– Как папа? – спросил я.
– Спит.
– Он в сознании?
– Разумеется! Но он страшно ослабел. Врач говорит, что у него был обморок.
– Обморок? Мама телеграфировала: удар.
– Может быть, и легкий удар. Во всяком случае, он лишился речи, и мы нашли его без сознания на ковре в кабинете. Он держал в руке извещение из банка.
– Значит, он все-таки потерял сознание? – спросил я упрямо.
– Отвяжись наконец! – сказала она резким голосом, как когда-то в Пушберге. – Ничего тебе не поможет, придется тебе оставить твою Габи и приехать немедленно.
– Кого? Какую Габи?
– Ты обязан приехать, – повторила она вне себя, – мы с мамой не знаем, что станется с нами и с детьми, ты должен приехать сейчас же. Когда ты можешь быть здесь?
Я должен был принять решение. Зажав рукой трубку так, что Валли ничего не могла услышать, я обратился к Морауэру и экономке:
– Что мне делать? Ехать домой сейчас или дождаться погребения?
Морауэр хотел что-то сказать, но старуха не дала ему слова вымолвить.
– Покамест вы должны остаться. Непременно.
– Погоди еще минуту, Валли, – сказал я в трубку, – я соображаю.
– Но мы разговариваем уже семь минут, – напомнила она.
Я снова положил трубку на письменный стол.
– Когда могут быть похороны? – спросил я.
– Дня через два-три. Перевозка, отпевание в церкви, переговоры с кладбищенским управлением. Это не так-то все скоро делается.
– Дня через два?
Старуха покачала головой.
– Мы должны решить относительно ребенка. Что станется с несчастным червячком?
– Через три дня, – сказал я Валли.
– Но это невозможно, – крикнула Валли так, что мои собеседники услышали ее голос. – Ты не смеешь всегда предавать и продавать свою семью.
– Послушай, Валли, – сказал я, – я знаю, что ты нам всем желаешь добра. Пожалуйста, потерпи немного. Только совсем немного. Я приеду непременно.
– Но ты обещаешь? – спросила она, тотчас же успокоившись и смирившись, как всегда.
– Я позвоню завтра в восемь часов утра.
– Лучше после девяти, – сказала она. – В восемь к папе должен прийти врач.
– Хорошо, – согласился я. – Утро вечера мудренее.
– Ты хочешь поговорить с мамой?
– Да, если она может.
– Она приняла снотворное. Разбудить ее? Мы весь вечер ждали от тебя телеграммы.
– Нет, пусть спит. Что касается денег, не предпринимайте ничего до моего приезда. Попытайся сегодня ночью составить себе представление…
– Нет, ты должен приехать, я не могу взять на себя ответственность. Он потерял чуть ли не несколько миллионов.
– Да, Валли, дорогая, – сказал я очень мягко, – я приеду. Сегодняшние миллионы уже не прежние миллионы. Не волнуй папу. Завтра утром мы поговорим опять. Спокойной ночи. Успокойся. Я не оставлю вас!
– Я… ты очень мне нужен, – сказала она. – Спи и ты спокойно. Благодарю тебя.
Во время этого длинного разговора Морауэр ушел.
– Теперь нам нужно все уладить с ребенком, – сказала неумолимая старуха. – Его окрестили? Родные извещены?
– Да, но я не знаю, откликнулись ли они.
– Мы справимся в клинике.
– Так поздно? – возразил я.
– Все равно. Должны же мы знать, как обстоит дело.
Мы позвонили, и нам сказали, что от родных Эвелины до сих пор нет ответа.
– Здоров ли ребенок? – спросил я.
Экономка посмотрела на меня с некоторым удивлением.
– Покамест здоров. Мы будем вскармливать его искусственно. Завтра или послезавтра начнем.
Через три дня мы хоронили Эвелину. На деревенском кладбище, где покоились наши больные, пробивалась уже первая трава. По моей просьбе на покойницу надели черное вечернее платье, правда, оно было без рукавов и юбка была коротковата. Но поверх мы накинули шубу. На руки ей натянули длинные черные перчатки. Хотели снять кольца. Но я знал, что она любила свои драгоценности. Пусть она сохранит их и здесь.
Директор, скучая, следил за службой, которую служил деревенский священник. Взгляд его блуждал по окрестным могилам, и по выражению его лица я догадался, что он вспоминает о своих пациентах, лежащих здесь, об их давно минувших душевных болезнях. Я не мог ни о чем думать. Я был словно парализован и хотел только, чтобы все кончилось. Сейчас же после краткой надгробной речи, не успев пожать мне руку, мой шеф закурил сигару.