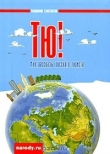Текст книги "Бедный расточитель"
Автор книги: Эрнст Вайс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Можно ли остановиться где-нибудь в Гойгеле? – спросил я почтальона. Мне не хотелось сразу возвращаться в город, домой.
– Конечно, – сказал он. – В Гойгеле есть очень хороший трактир. В Гойгеле, там не такие идолы, не такие святоши и лицемеры, как в Пушберге. В лесничестве тоже чудища. Вы думаете, мне там дали наливки? Я, знаете, сударь, ухаживал здесь за одной девушкой, да чужому они ее не отдадут, уж лучше подохнут с голоду на своих топких паршивых лугах – они все залиты водой и утыканы камнями. А ведь я буду получать пенсию, и вдова моя тоже. Я часто ношу им повестки из налогового управления, предупреждение за предупреждением. Прежний бургомистр был никудышный. Книги у него были не в порядке. Да и сын не лучше, он, кажется, работал в Мюнхене, на пивоваренном заводе.
– А как жизнь в Гойгеле, дорогая? – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.
– Дорогая? Как везде. Хотите, зайдем, сыграем, Вдруг вам повезет, вот вы и выиграете у меня на ночлег.
Я промолчал.
– Тает, – сказал он, – много еще будет обвалов. Не знаю, что здесь люди находят хорошего. У вас здесь родные?
– Жена. Моя жена – Валли.
– Ах, так, – сказал он и пристально посмотрел на меня.
Впрочем, в лесу было уже темно.
– Да, всем иногда приходится нелегко. Вот если бы вместо сердца у нас был мешок с соломой! – Он рассмеялся и, похлопывая обеими руками по широкому ремню кожаной сумки с серебряным почтовым рожком и двуглавым австрийским орлом, медленно повторил: – Куда как хорошо, если бы вместо сердца да мешок с соломой…
Я молчал. Миновав станцию, мы пришли в деревню Гойгель. Мерцали огни, струился дым паровоза, слышался свист машин. Я не мог возвратиться к себе домой. Но вернуться к жене я тоже не мог. Я ведь чуть не убил ее. Я попросил почтальона передать Валли, что я в Гойгеле, в «Тирольском орле». Но она даже и не откликнулась. Я прожил в трактире со вторника до воскресенья и, почти не выходя, околачивался по целым дням в теплом помещении. Я играл в карты, и так удачно, что сумел уплатить по счету и даже покрыть часть расходов на обратный путь. Дома меня уже ждали деньги из военного министерства. Жене я послал семьдесят пять крон. Больше урвать я не мог, я должен был выплатить долг прозектору. Меня ждало уже четыре или пять писем от него, и все об одном и том же. Он требовал меня немедленно в анатомический театр. Тут же лежало и старое письмо от Валли. Я сжег его, не читая. Я не желал идти в институт. Мне было так стыдно, что я три дня пролежал в постели. Наконец я собрался с силами, чтобы снова начать жить.
6
Я должен был либо вернуться в анатомический театр, либо бросить изучение медицины. Некоторое время я был в таком отчаянии, что уже готов был это сделать, и если бы отец пришел ко мне тогда, а не через несколько недель, он легко бы уговорил меня. Мне было стыдно. Мне было стыдно перед прозектором, которому я не мог объяснить мою злополучную поездку, правда, он и не интересовался ею. Мне было стыдно перед матерью, когда она пришла как-то ко мне. Мне было стыдно перед всеми, с кем я встречался, и я узнал, что стыд может довести до такого же отчаяния, как горе.
Наша работа о железе Каротис появилась в печати уже в конце апреля. И мне незачем было больше ею заниматься. Мое имя не стояло на титульном листе. Лишь мелким шрифтом было напечатано: «согласно устному сообщению»… Потом следовали моя фамилия и мое скромное звание.
Однако, может быть, именно из-за этого однажды вечером в мою каморку явился отец. Он постучал, вошел, снял шляпу, провел по своим уже редеющим волосам, улыбнулся, – и с этой минуты опять стал для меня тем, чем был всегда. Он не спросил ни о моей жене, ни о ребенке. Он только обратил внимание на то, что я работаю при свече, и сказал по-товарищески:
– Так темно. Береги глаза!
Вне себя от счастья, нахлынувшего на меня среди всех бед, словно теперь он по-настоящему стал моей единственной опорой, я попросил отца осмотреть мои глаза. Я сказал это, разумеется, в шутку. Он так и отнесся к моей просьбе, вздохнул, вытянулся в моем потертом кресле, оно затрещало (я содрогнулся, вспомнив о звенящих пружинах в матраце Валли), и сказал, зажигая папиросу:
– Как у тебя спокойно! Твои глаза? Абсолютно здоровы. Если бы у всех были такие, мне пришлось бы пойти по миру. Ах! – он зевнул, сверкнув прекрасными, несмотря на возраст, совершенно целыми зубами. – Если б я только мог не видеть больше глаз!
Он принес мне подарок: потертый футляр, в котором лежал набор инструментов для вскрытия трупов, он пользовался им, когда был студентом.
– Если они не нужны тебе, можешь подарить их какому-нибудь нуждающемуся товарищу, – сказал он.
Неужели я стану дарить что-нибудь, чего касалась его рука? Нет, я уже не мог бы спустить прекрасные золотые часы, чтобы добыть денег для нас с Валли. Провожая отца до дверей, я почувствовал себя успокоенным. Он обещал снова заглянуть ко мне, и я знал, что он сдержит слово.
– Только впредь, старик, сообщи сначала своему отцу, когда откроешь новую железу, – сказал он на прощанье.
Мать приходила часто и мешала мне заниматься, особенно когда она приводила с собой Юдифь, ставшую действительно очаровательной. Зато характер этой молодой особы был совершенно невыносим. Она непременно хотела быть центром внимания, иначе она отравляла жизнь окружающим.
Моя мать все еще была красивой, элегантной и цветущей. Она не могла сдержать себя, чтобы не подтрунить над моей Валли, называя ее «феей». Она не выразила удивления, когда в конце апреля (так поздно) я сказал ей, что у меня родился ребенок. Но Юдифь пришла в страшное возбуждение и побледнела от ревности. Вероятно, она заметила, что в глубине души меня это радует; мне уже не нужно было беспокоиться о жене. Мать одобрила мое решение назвать ребенка в честь отца Максимилианом-Францем-Карлом. Она пробормотала чтото о подарках новорожденному, о крестных и прочее, но сразу же заторопилась. Посмотрев на себя в зеленоватое зеркало, она подвела к нему и свою дочку, красовавшуюся в белом шелковом платьице с розовым шарфом.
– Вот я и бабушка, а ты, Юдифь, теперь тетушка.
Юдифь тоже была не в восторге, и обе ушли, обиженно шелестя шелками.
Не думаю, чтобы отец послал моей жене хоть самый пустяковый подарок. Мы не заслужили этого. Но я был так счастлив, что он хоть не вычеркнул меня из своей жизни. Я был еще очень молод.
Последний год был слишком тяжелым. Мать говорила, что для отца эти события тоже не прошли бесследно. Он стал еще «своенравней» в отношении денежных дел: он безжалостно выставлял за двери жильцов, которые запаздывали с квартирной платой, и оставлял в залог их жалкий скарб. Налог он платил только после многократных повторных требований и всегда ухитрялся вписать в налоговые счета разный якобы сделанный им ремонт, хотя он никогда его не производил и некоторые квартиры пришли в самое жалкое состояние. Он никогда еще не был так жаден, как теперь, и пациенты роптали втихомолку, но все-таки шли к нему, потому что рука отца слыла чудодейственной, на ней «почила божья благодать», а что может быть дороже для несчастного, чем зрение?
Экипаж он из экономии продал, в клинику и в санаторий ездил теперь в наемной карете, в так называемом таксометре. Но эта экономия стала для него источником неприятностей. Как-то во время далекой поездки кучер забыл включить счетчик, карета приехала на место, счетчик показывал ноль крон, ноль хеллеров, и отец не захотел платить. Карета принадлежала не кучеру, а его хозяину, дело дошло до крайне неприятной перебранки, даже до суда, хотя разговор-то был самое большее о двадцати кронах. Выиграл отец. Конечно, он мог бы по доброй воле отдать кучеру деньги. Но он не пожелал. И ничто не могло его понудить.
Все должны были склоняться перед его волей, подчиняться его железной энергии, ему это всегда удавалось, со всеми, кроме меня. Против воли он вынужден был позволить мне изучать медицину, и женился я тоже против его воли.
Что касается Валли, то, быть может, он и был прав, предостерегая меня. Но в отношении занятий? Я работал усердно, чтобы не сказать яростно, и даже с отчаянием. Я надеялся снова сделать какое-нибудь открытие, вроде железы Каротис, которую я так позорно забросил из-за поездки в Пушберг. Но мне решительно ничего не удавалось.
Отец покровительствовал моим занятиям. Это доказывали его подарки. Он обеспечил будущность своей любимицы Юдифи, застраховав ее, как я узнал от матери, на миллион крон – страховка, небывалая в нашем городе, – зато мне он, кроме футляра с набором инструментов для вскрытия трупов, подарил еще стетоскоп и молоточек, когда узнал, что я уже начинаю обследовать больных в клинике. Я получил в подарок и старое его глазное зеркало, старый микроскоп, маленький устарелый правацовский шприц и другие инструменты – святыни, которые я глубоко чтил.
Мать заметила как-то, что у меня очень скверная гребенка с поломанными зубьями и дешевая, без ручки, щетка для волос. Ее подарок я отдал жене, а разве я мог на мои ничтожные доходы приобрести дорогие туалетные принадлежности? Она с презрением поглядела на эти предметы, но не сказала ни слова. Время маленьких пластырей миновало. Я вспомнил о своей женитьбе и хорошо понял мать.
Отца я видел очень нерегулярно, всегда только на несколько минут, внизу его ждал экипаж со включенным счетчиком. (Кучера теперь поумнели!) Может быть, и я поумнел на собственном опыте? Я порвал с женой, она со мною. У меня оставался только отец. Он одобрял избранный мною путь, это доказывали его дары. Одобрял ли он мою жизнь? Он тоже называл мою жену феей. Конечно, он намекал этим не на волшебные чары фей, это было просто ироническое сокращение «кухонной феи». Что мне оставалось делать – защищать ее? Отречься от нее? Может быть, он ждал этого, и тогда он заключил бы меня в объятия, словно маленького мальчика, и отвез бы в карете домой, и я наконец наелся бы досыта.
Я остался верен жене. Я не «гулял» с девушками; хотя у молодого студента была эта возможность, несмотря на потертые брюки и гребенку с поломанными зубьями. Я остался ей верен и в том, что никогда ни одной душе не пожаловался на нее.
Я обещал ей ни с кем не говорить о ней плохо, и если даже я не любил и не мог любить ее, как прежде, в первые недели нашей жизни в каморке, я не хотел и не смел забывать ее и нашего ребенка.
– Что поделывает чернобровая фея? Как поживает толстый младенец феи? – часто спрашивал меня отец со странным, напряженным выражением лица, с улыбкой, про которую ты никогда не знал – сулит ли она доброе или злое. Была ли это ядовитая насмешка или только легкая ирония? Он и сам, пожалуй, не знал.
Но он не хотел терять меня. Для меня это было главное.
Тяжелее всего жилось мне во время каникул, когда он уехал со всей семьей. Я так тосковал по отцу, что в мыслях даже предал жену. К счастью, его не было и он не мог воспользоваться этим предательством. А когда он вернулся осенью, загорелый, помолодевший, и стал без конца подтрунивать и острить над моей вишнеокой феей, – он видел ее в Пушберге вместе с моим здоровым и спокойным ребенком и угощал ее кофе с пирогами, – самое опасное искушение для меня уже миновало, и я слушал его с неопределенной улыбкой, над которой теперь, пожалуй, пришлось ломать голову ему.
Да, он старел, он становился мягче, и голос его дрожал иногда, когда, сидя в моем ветхом кресле, он подтрунивал над моей нелепой юностью. Почему я так нелепо женился, почему я не открыл железу?!
Так наступил восьмой семестр, или, лучше сказать, лето 1914 года.
Отец обещал взять меня этим летом в Пушберг, где жили мои жена и ребенок. Я не знал, радоваться ли мне. Что должен был означать чуть язвительный взгляд, которым он на меня смотрел? Отец намекнул, что сначала, разумеется, надо найти основание для развода: например, совращение несовершеннолетнего, – ведь я был несовершеннолетним, – намеренное нарушение супружеских обязанностей, непреодолимое отвращение.
– Но, боже меня сохрани, – сказал он с нежностью, в которую я, при всей любви к нему, не мог до конца поверить, – чтобы я принуждал тебя к чему бы то ни было. Если тебе кажется, что фея еще может ввести тебя в соблазн, тогда оставайся с нею, но отдых был бы тебе очень нужен, тощий ты воробей!
Я покачал головой, ему хотелось спросить, что означает этот жест: отказ от него или отказ от «феи»? Но я стал крайне осторожен. Я научился этому у него.
Я очень нуждался в отдыхе, но разве я нашел бы его в Пушберге? Я не мог предать жену, и я все еще слишком любил отца.
– Безмерная любовь, – сказал он как-то, – безмерная глупость! Любить сверх меры – значит, не иметь никакого представления о том, кого любишь. К сожалению, на старости лет я тоже стал рабом своего сердца, теперь я понимаю тебя. Полюбуйся на меня! Вот, – он показал маленький пакет, завернутый в папиросную бумагу, – вот длинные шелковые перчатки для моей феи, для Юдифи. Я обошел не меньше пяти магазинов – учти, какая это потеря времени, заработка и прочее, – потому что твоя сестрица требует длинные лайковые перчатки, а они не бывают такого маленького размера. И все это для детского бала. Если бы по крайней мере игра стоила свеч, но у нее каждый день новые причуды, а твоя мать еще подстрекает бедного ребенка. Разумеется, ты работаешь очень тяжело, но зато – серьезно. Не открыл ли ты еще чего-нибудь важного?
Он переоценивал меня. Правда, я работал по пятнадцать – шестнадцать часов в сутки, но, к сожалению, был очень далек от каких бы то ни было открытий. До изучения душевных болезней я еще не дошел, лекции по этой дисциплине читались только на девятом и десятом семестре, и я умышленно оставил их напоследок. А кроме того, я жил на семьдесят пять крон в месяц и был так обременен повседневными заботами – о хлебе, жилье, о том, чтобы не опоздать из одного института в другой, поесть, попасть в клинику, потом на практические занятия, потом в библиотеку и т.д., – что за всеми этими заботами я не мог проникнуть в сущность моей будущей профессии. Я не осознал еще, что значит быть врачом. Говорю откровенно: я не представлял себе ни безмерности человеческого страдания, способного возникнуть в каждом члене, в каждом нерве, ни столь же безмерного значения врача-целителя, который вяжет по рукам слепую, свирепую природу, именуемую «анатомией» и «физиологией». Я стоял у многих постелей, я исследовал много людей: мужчин, женщин, стариков, детей, я присутствовал при родах, я был свидетелем многих смертей. Но я не понимал еще, что такое страдание, смерть, выздоровление. Я сам нуждался в руководстве. Я еще не нес никакой ответственности. Я не был для больного богом на земле. Он не уповал на меня, он не платил мне, он не клял меня, страдая, он не благословлял меня, когда, выздоровев, в первый раз поднимался с постели. Но мой великий отец – он был для них богом на земле. Я, потрясенный, видел это ребенком – когда пришли пилигримы!
Мое время было распределено с утра до позднего вечера, у меня не было возможности приобретать новые знакомства. Но о Перикле я думал часто. В 1914 году он снова начал адресовать мне свои письма, полные самоанализа, открытий и душевных излияний. Он бросил читать лекции. Я не мог составить себе ясного представления о его материальном положении. Иногда казалось, что он очень болен, он жаловался на ослабление зрения, на боль в суставах, на нервы, которые страдают от малейшего порыва ветра; иногда казалось, что он живет в каком-то восторженном чаду – «на миллиметр от бездны и все же далеко от нее». В чем заключалась опасность, что он подразумевал под бездной – я часто спрашивал его об этом, и не раз стоило мне это свежей сайки, в которой я себе отказывал, ибо почтовая марка обходилась в десять хеллеров звонкой монетой. Перикл никогда не отвечал на мои вопросы, но письма его говорили сами за себя.
«Ни при каких обстоятельствах, – писал он мне в мае 1914 года, – не могу я служить господствующим силам – ни государству, ни церкви. Один против всех. Если это героизм – значит, я герой. Но я войду в историю духа как бессмертный лирик философии, а я желал и стремился прежде („прежде“ – и это в двадцать шесть лет!) быть трагиком философии и пасть на поле героического познания, в борьбе с силами, которые рушатся под моими ударами. Не уважай меня больше! Мир должен бояться меня, а он меня только жалеет. Жди меня, будь верен мне. Может быть, настанет день и я предстану перед тобой, как воскресший спаситель перед учениками в Эмаусе, или (ты презираешь меня?) чтобы укрыться под твоим капюшоном, как в детстве, когда ты вел меня, окутав пелериной, сквозь стужу и непогоду. Император или никто. Одно из двух. Судьба моя решается в веках. Не только я – Европа победит со мной или погибнет».
В эти дни, погруженный в работу среди больных и страждущих, я часто не мог побороть в себе нежности к моей бедной жене. Все дурное потускнело. Глядя на больного ребенка, я думал о сыне, я боялся опасностей, возможности заражения, подстерегающих его, я думал о тяжелой жизни его матери, которая воспитывает ребенка одна, совсем одна. Я думал о ней, я снова видел ее молодой девушкой, когда ей было столько лет, сколько мне теперь. Иногда, когда я засыпал, мне казалось, что она со мной, я ласкаю ее густые волосы, касаюсь рукой ее затылка, перебираю чуть выступающие позвонки, кладу ее горячую голову на мое плечо. Я не знал, люблю ли я ее, я знал только, что чувствую к ней такую нежность, которой никогда не испытывал раньше.
Но часто я видел во сне отца, и не всегда это были хорошие, легкие сны. Жена никогда мне не снилась, даже если в полусне я думал о ней, распускал тугой узел ее волос и со сладостным замиранием сердца касался ее высокой, горячей, прекрасной груди.
В это время радикальные сербские студенты убили наследника австро-венгерского престола. Отец пришел ко мне в тот же вечер. Он был так потрясен, что я почувствовал к нему жалость, вероятно, впервые.
– Поездка в Пушберг не состоится, – сказал отец с горькой иронией, – тебе не везет. Нам, может быть, придется воевать.
– Да садись, пожалуйста, я дам тебе воды, – сказал я и помог ему снять сюртук.
– Как у тебя хорошо, как тихо, спокойно, – заметил он устало. – У нас никогда нет покоя.
Он принес экстренный выпуск газеты с подробным описанием событий. Я торопливо пробежал страшное известие, но я плохо разбирался в политике, да и когда бы я мог интересоваться политикой?
Постепенно отец оправился, его бледные, чуть дряблые щеки порозовели, и он снова стал самим собой.
– Ты понимаешь? – спросил он, указывая на экстренный выпуск, валявшийся на полу.
Я, конечно, ответил отрицательно.
– Подними газету, – приказал он, – когда-нибудь она будет цениться на вес золота. Сербия – значит Россия, а Россия – значит война.
– Ни один человек в мире не думает сейчас о войне, – вставил я.
– Ни один человек в мире? Плохо же ты знаешь людей. Война придет, это так же достоверно, как то, что я пришел к тебе, на четвертый этаж, весь в поту и едва дыша. Она придет. – И он рассмеялся. – Наша старая Австро-Венгрия еще раз сыграет роль жениха. Она женится на молодой невесте, на молодой прекрасной войне, разумеется. Я лечил майора X. из генерального штаба, он передавал мне всякие романтические слухи. В Италии тоже начинается. Не то они с нами, не то против нас. Героическая верность, свежая листва в старом брачном венце. Не найдется ли у тебя еще стакана воды? Только похолоднее. (Я принес воду.) Как бы молодое счастье не стало смертью для старого жениха. Но ведь люди только к тому и стремятся. Наблюдай за всем, но ни во что не вмешивайся. Меня они не увидят в их свадебном кортеже. Я не военнообязанный, Юдифь тоже, Виктор слишком мал, а ты? Ты мог бы уехать в Норвегию. Норвегия останется нейтральной.
– Я не верю в возможность войны. Человечество слишком ушло вперед. Кому какое дело до Сербии?
– Ну, мы еще поговорим, – сказал он. – Обдумай все, и поскорей. Ты мог бы в конце июля поехать в Норвегию и поместить часть нашего капитала в филиал английского банка в Христианин. Я не хочу проработать всю жизнь впустую. Теперь я пойду. Благодарю тебя. Подумай о Норвегии, ты знаешь, я твой друг.
Вскоре политическое положение стало казаться почти спокойным. В начале июля я сдал экзамены, и мне думалось, что мои предсказания оправдываются. Отец приходил часто, всегда ненадолго: для него время было – деньги, еще больше, чем прежде, мать почти не показывалась. Он все заговаривал о поездке в Христианин). Я колебался. Ехать туда надо было через Германию, и я мог бы повидать моего старого друга Перикла. Я написал длинное письмо жене, в котором упоминал об угрозе войны и спрашивал, думала ли она об этом? Ведь Пушберг находится неподалеку от Бреннера, а Бреннер расположен возле итальянской границы. Но отец растолковал мне, что Италия будет, вероятно, нашим союзником. Мне не хотелось менять в письме эти строки, и я предпочел вовсе не отправлять его. Да мне и стыдно было после четырех лет первому идти на мировую.
В конце июля 1914 года Сербии был предъявлен ультиматум.
В массах тоже нарастало беспокойство. Перед «вражескими» посольствами и даже перед магазинами, владельцы которых носили балканские фамилии, собирались толпы. А в конце месяца состоялось грандиозное факельное шествие. Однажды днем, после того как я несколько раз звонил по телефону к отцу, но не мог его застать, в дверь мою постучали. Я отворил и увидел шофера отца. (Отец незадолго перед тем купил автомобиль.) Машина ждала внизу. Отец срочно вызывал меня. Не прошло и десяти минут, как мы очутились в квартире, в которой я не был столько лет. Моя дорогая мать вышла мне навстречу, она была на сносях. Почему-то она стыдилась передо мной этой беременности и перестала ходить ко мне. Со всей прежней нежностью и теплотой она схватила меня за руки, притянула к себе и покрыла поцелуями мое лицо (маленький пластырь, первый за долгие годы).
– Войны ведь не будет? – тихонько простонала она.
Я хотел объяснить ей, но она сразу же меня перебила:
– Что будет со всеми нами? Отец страшно взволнован. У него сейчас твоя фея. Пожалуйста, уступи ему, никто не желает тебе добра больше, чем он, ты ведь знаешь?
– Уступить? Что? В чем? – спросил я удивленно.
– Я сама не знаю, в чем дело, – прошептала мать, – но я только что слышала, как кричала эта особа, прости, то есть Валли. А отца нельзя раздражать. Он ведь уже не молод. И все-таки хочет идти на войну. Он ждет тебя, ступай в кабинет.
Я вошел и увидел жену. Конечно, она стала старше за эти четыре года, но все еще была красива. Она сидела против отца за письменным столом, хорошо, но очень просто одетая. Оба молчали. Очевидно, они ждали меня. Я заметил, что жена моя страшно взволнована. На столе, под отцовскими очками (он уже несколько месяцев носил очки), лежали сегодняшние экстренные выпуски газет с огромными шапками. Я стремительно подошел к жене и поцеловал ее в губы. Глаза ее засияли, и я почувствовал, что она сразу успокоилась. Я протянул отцу руку. Он крепко пожал ее и поглядел на меня, улыбаясь своей прежней неопределенной улыбкой.
– Разве ты не получил моих писем? – спросила Валли.
Я удивленно посмотрел на нее. Уже много лет я не получал от нее ни строчки.
– Письма здесь, – громко сказал отец и извлек из-под кипы газет три или четыре письма. – Я не заезжал к тебе в последние дни, у меня было много заседаний в связи с создавшимся положением, но ты успел бы еще своевременно получить свою корреспонденцию. Я ведь послал за тобой автомобиль.
Жена хотела что-то сказать, но я положил руку ей на колени, заклиная ее сохранять спокойствие.
– Нет, будем откровенны, мои милые дети, – сказал отец с оскорбительной любезностью, – я не счел opportun[2]2
уместным (франц.)
[Закрыть] (жена вопросительно поглядела на меня, она не поняла иностранного слова) волновать тебя этими письмами.
Теперь пришла его очередь успокоить меня, и рука его легла на мое плечо.
– Я желаю тебе добра, сын мой, поймите это, Валли, и не мешайте мне.
– А я что же, не желаю ему добра? – воскликнула Валли.
– Ах, дитя мое, об этом многое можно было бы сказать.
– Ну что ж, говорите! – ответила Валли.
– Давайте оставим старое. Новое гораздо важнее. Разве вы с этим не согласны, Валли? Будьте же благоразумны, дело касается всех нас, моего сына, и вашего тоже.
– Благодарю вас, господин профессор, за то, что вы регулярно высылали нам полтораста крон.
– Шш-ш, не стоит говорить. Вы воспитываете моего внука, и я, почетный гражданин общины, не желаю, чтобы он рос в доме призрения.
– Почему ты не сказал мне об этом?
– А если бы и сказал? Ты что же думал – содержать на семьдесят пять крон жену и ребенка? Разумеется! К чему долгие разговоры? Главное: что теперь будет с тобой? Война приближается.
– Ты говорил, что я поеду в Христианию и сохраню в безопасном месте твое состояние.
– И, кроме того, твою дорогую жизнь. Конечно, я говорил это, мы будем иметь в виду и эту возможность, хотя я сомневаюсь, чтобы ты успел до мобилизации перейти границу. Но то, что несколько недель тому назад было бы простой случайностью, будет теперь дезертирством. И ты, мой сын…
– Он мой муж! – крикнула Валли.
– Да, согласно брачному свидетельству, – улыбнулся отец. – Очень хорошо, что вы прервали меня, сударыня дочка, мы подходим таким образом ко второй возможности. Твоя жена, – обратился он ко мне, – нашла другой выход. Она полагает, что ты мог бы с помощью ее и ее брата сегодня ночью срочно переправиться через итальянскую границу, а она твердо убеждена, что макаронщики (итальянцы) останутся нейтральными, если только не примкнут к нашим врагам. Значит, как бы ни дрались друг с другом народы, ты был бы там в безопасности. Так, верно я передал?
Валли опустила глаза, схватила мою руку, крепко сжала ее, но не сказала ни слова.
– И, наконец, третья возможность (она так стиснула мою руку, что мне стало больно), – ты пойдешь на войну.
Настольные часы тикали. Прошло десять минут, мы молчали.
– Я не хочу воевать, – проговорил я наконец. – Я не хочу убивать людей, которых я не знаю, которые ничего мне не сделали, я не хочу…
Отец прервал меня:
– Но если все без исключения пойдут на войну, если даже старики нацепят ранец, ты, что же, захочешь потихоньку улизнуть? Ты серьезно этого хочешь? Разве ты не видел вчерашнего факельного шествия? Бесконечные людские толпы, охваченные восторгом и горячей любовью к своей родине?
Я пожал плечами.
– Я ничего не должен государству. Мы прекрасно могли бы жить мирно. Ультиматум был оскорбителен, противная сторона не могла его принять.
– Власти всегда правы. Что ты понимаешь в высокой политике? Великая держава Австрия должна блюсти свою честь.
– А малая держава? Наше правительство право, а сербское разве не право? Зачем же нужна война?
– Весьма тонко, – сказал отец. – Из тебя вышел бы хороший юрист. Но ты медик и военный стипендиат. Я связан с министерством обороны. Предполагается создать на юго-востоке объединенный госпиталь. Он предназначен и для солдат с ранением глаза, и для тех, кто страдает болезнями глаз. Сейчас я разрабатываю для военного комитета инструкцию по предохранению от заболевания трахомой. Я должен получить звание главного врача разведывательного управления генерального штаба. Я мог бы устроить там и тебя. Дело может ограничиться прогулкой в Белград. Как только начнут опадать первые листья, все уже будет кончено, и после маленькой карательной экспедиции наши победоносные войска возвратятся домой.
– Недавно ты говорил иначе, – сказал я. – Ты говорил: Сербия – это Россия, а Россия – это европейская война. Когда же она может кончиться?
– Возможно! – сказал он и встал. – Ты хочешь получить письма жены? Тебе нужно время, чтобы подумать?
– Я должна ночью вернуться в Пушберг, – сказала Валли. – За моим Максом присматривает Вероника, но мужа ее мобилизовали на чрезвычайные маневры. Мне нужно домой.
– Хорошо! – сказал отец. – Я понимаю.
Он снова сел.
– Я поеду с женой, – сказал я. – Я не могу иначе. Я не видел еще моего ребенка.
– Да, теперь самый подходящий момент для родственных визитов! – язвительно сказал отец. – Ступай, беги с передовых позиций! Если бы все поступали так, хороши бы мы сейчас были. Ты все тот же – хочешь быть Христом, но не хочешь, чтобы тебя распяли. Не прерывайте меня, милая фея!
– Старое чудовище! – прошипела Валли сквозь зубы.
– Меня вы не выведете из терпения, – иронически заметил отец. – Разве я вправду так стар? Я – и чудовище! Мои дети и мои больные другого мнения обо мне. Но мы с вами, мы знаем друг друга. Мальчик, надо видеть вещи такими, какие они есть. Ты, что же, думаешь помешать войне, если дашь тягу? Нет, ты только сделаешь невозможным свое возвращение.
– А вы не станете генерал-майором и не получите имперского ордена, – перебила жена.
– Что мне в ордене? Он мне не нужен. Я не прошу его. Я верен моему императору и моему народу. Мы все обязаны идти со своим народом. Да, да, вот это я и называю демократией. Народ требует, чтобы мы покарали сербскую шайку за трусливое убийство из-за угла. Разве это не глас божий?..
– Что мне за дело до сербов? Я не хочу терять мужа. У меня его по-настоящему и не было. Вы этого, видно, не понимаете? Но я люблю его.
Она расплакалась.
– Вы любите его, да? – безжалостно спросил отец. – Что же, много счастья вы ему дали? Вы сделали его счастливым отцом, когда ему не было еще двадцати лет, правда? Вы помешали ему вашими шутками довести до конца важное медицинское открытие.
– Правда? – вскричала Валли. – Скажи, это правда?
Я отвернулся.
– И мы все трое могли бы жить на средства, которые дало бы это открытие? Ах, господин профессор, скажите, это правда?
Лицо отца приняло «человеколюбивое» выражение, то самое, с которым он советовал пилигримам остерегаться заразы и врачей-шарлатанов.
– Почем я знаю? Может быть, да, может быть, нет. Что прошло, то прошло! Мы должны обратиться к действительности. Разве ты свободен? Разве ты волен идти куда хочешь? Разве ты не получал в течение всех этих лет стипендии от военного министерства? Разве ты не был освобожден от военной службы, пока тебе самому покажется удобным исполнить свой долг перед империей? Разве я говорю неправду? Разве ты не Христос, который бежит от креста? Но все вы таковы, бог у вас только на языке! А когда я говорю, что это ханжество, тогда я «старое чудовище». Неужели я живу среди врагов?
Моя жена зарыдала и, не глядя, стукнула кулаком по столу. Дорогая чернильница опрокинулась, чернила двух цветов потекли по столу и на пол. Я откинул складку ее парадного платья.
Только теперь, когда я прикоснулся к ней, она подняла глаза. Она притянула меня к себе и так страстно прижала мою голову к своей жаркой груди, что я едва не задохнулся.