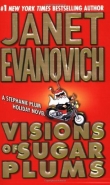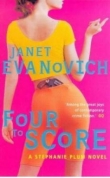Текст книги "Мечтательница из Остенде"
Автор книги: Эрик-Эмманюэль Шмитт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– И он на это соглашался?
– Таково было мое условие. Я делилась лишь с теми женщинами, которым хотела отдать его. Поскольку он был от меня без ума, он принимал мое решение.
– И каких же любовниц вы ему выбирали?
– Всегда очень красивых.
– Неужели?!
– Очень красивых и очень глупых. Существует немного возможностей быть красавицей, но масса возможностей быть дурочкой – дурочкой косноязычной, дурочкой занудной, дурочкой, которая интересуется только тем, что волнует женщин, но не мужчин, дурочкой, воображающей себя умнее, чем на самом деле, дурочкой, зацикленной на какой-то навязчивой идее. Бедняжка Вильгельм – я заставила его исследовать всю страну дураков, вернее, дурочек!
– Похоже, вас это забавляло.
– И еще как! К тому же я была к нему добра и сводила только с самыми декоративными дурочками; будь я стервой, я бы подыскивала ему лишь таких, кто и глуп и уродлив одновременно!
– И как же он это принимал?
– Прекрасно. Он сходился с ними ради их достоинств и бросал из-за недостатков. Он быстро покидал меня, чтобы так же быстро вернуться.
– И вы можете поклясться, что он не винил вас в этом?
– Мы обсуждали каждую пикантную кретинку, прошедшую через его руки, а поскольку я выбирала для него самых завидных красоток, у него всегда находилось что порассказать мне. Иначе… Да, должна признаться, что мы развлекались вовсю. Может, это было и цинично, но ведь мы жили под двойным гнетом: с одной стороны, общество вынуждало нас прятаться, с другой – оно же заставляло его доказывать, что он женолюб; делать нечего, пришлось идти у него на поводу. Но в наших интимных отношениях ровно ничего не изменилось: мы обожали друг друга, как и прежде, нет, больше прежнего, поскольку преодолевали эти трудности вместе.
– И вам никогда не случалось ревновать?
– Я не позволяла себе выказывать ревность.
– Ага, значит, вы все-таки ревновали?
– Разумеется. Сколько раз я представляла себе всех этих красоток рядом с ним, столько же раз мне хотелось покончить…
– С собой?
– О нет, с ними – убить их всех! Мысленно я их и убивала. А в действительности они сами уничтожали себя, уничтожали собственной глупостью. К счастью, они были непроходимо глупы. И только однажды… однажды я чуть не ошиблась!
Она всплеснула руками, словно ей до сих пор грозила опасность.
– Эта проклятая Мириам – она едва не обвела меня вокруг пальца. Никогда еще не видела женщину, которая так ретиво старалась казаться безмозглой… Время от времени Вильгельм тайком проводил меня во дворец, где я, укрывшись за портьерой, наблюдала за трапезами, чтобы убедиться в правильности моего выбора очередной дурочки. Я сразу приметила эту Мириам, – она строчила глупостями как пулемет, но в какой-то момент у меня словно пелена с глаз упала: я поняла, что все эти глупости в ее устах звучат не скучно и не вульгарно, а весело и остроумно; пришлось констатировать, что она обладает чувством юмора, а это уже означало, что она, как минимум, довольно умна. Я вслушалась еще внимательнее и поняла, что к каждому мужчине она находит особый подход: напыщенного дурака аттестовала убийственно фамильярным «ну до чего же он забавный, этот петушок, просто прелесть что такое!», честолюбца осыпала похвалами и пела дифирамбы его так называемым достижениям, тупоголового любителя охоты слушала с благоговейным восторгом, взирая на этого истребителя зайцев как на героя нескольких мировых войн; короче говоря, передо мной была великая мастерица обольщения, искусно скрывавшая свою игру. Во время десерта она подобралась к Вильгельму и завела с ним беседу о спорте, уверяя, что давно мечтает о прыжках с парашютом. Отъявленная ложь! – однако эта авантюристка была вполне способна решиться на такой опыт, лишь бы затащить его в постель! Я запретила приглашать ее во дворец. Коварная хищница изображала легкомысленную кокетку, чтобы легче вертеть мужчинами… Впоследствии она сделала блестящую карьеру, выходя замуж только за очень важных господ, и, представьте себе, каждый раз ей ужасно не везло: все они, как на подбор, оказывались богачами!
– Неужели Вильгельм так и не увлекся ни одной из них?
– Нет. Знаете, мужчины не очень-то вникают в женские речи перед тем, как лечь в постель с любовницей, потому что главное для них – получить вожделенную награду; зато после объятий человек, наделенный вкусом и образованностью, весьма придирчиво относится к тому, что слышит, не так ли?
Я кивнул, обезоруженный этой непререкаемой логикой.
Она провела ладонями по коленям, разглаживая складки своей юбки.
– Впрочем, тот период – «период любовниц», – даром что тяжелый, оказался довольно увлекательным: он позволил мне выступить экспертом в искусстве разрыва с женщинами. Еще бы! Ведь это я подсказывала ему, что следовало говорить в тот момент, когда он их бросал. Ах, что за фразы я сочиняла! Услышав их, эти дамы буквально столбенели, теряли дар речи. Расставание должно было пройти мгновенно и гладко, бесследно и безвозвратно, без «слюней» и самоубийств.
– И что же?
– Нам и это удалось.
Я уже догадывался, что близится самая грустная часть этой истории, а именно та, что содержала ее развязку. Эмма Ван А. тоже чувствовала это.
– Хотите рюмочку портвейна?
– Не откажусь.
Мы на минуту отвлеклись, и эта передышка оказалась очень кстати: Эмма не спешила возвращаться к своему повествованию, она медленно смаковала терпкое вино, оттягивая рассказ о конце своего романа, грустя о том, что подошла к нему так быстро.
Внезапно она повернулась и мрачно взглянула на меня.
– И вот я наконец поняла, что дальше отступать некуда. До сих пор нам удавалось отодвигать разлуку, обходить препятствия, но близилось время, когда он должен был вступить в брак и произвести на свет детей. Я предпочла отвергнуть его первой, а не ждать, когда он начнет отстраняться от меня. Гордость… Как же я страшилась того мгновения, когда стану для него не возлюбленной, а матерью. Да, его матерью… Кто же, как не мать, побуждает мужчину завести жену и детей, хотя мечтает сохранить его для себя одной?!
Ее глаза увлажнились. Спустя многие десятилетия ею овладело былое смятение.
– О, я была совсем не готова стать Вильгельму матерью!.. Я никогда не питала к нему ни тени материнских чувств, ведь я страстно, безумно его любила. И все-таки я решила сделать то, что сделала бы для него настоящая мать.
Она судорожно проглотила слюну. Ей было так же мучительно трудно говорить об этом сейчас, как свершить тогда, много лет назад.
– Однажды утром я объявила, что хочу отвести его в дюны, туда, где нашла несколько лет назад, и оставить там. Он тотчас все понял. И отказался, умоляя меня подождать еще. Он плакал, становился передо мной на колени. Но я была тверда. Мы отыскали то место, где увиделись впервые, расстелили на песке пледы и, невзирая на сырость и ненастье, слились в прощальных объятиях. И впервые мы сделали это, не прибегая к помощи нашего альбома наслаждений. Невозможно назвать наши ласки приятными: они были жгучими, почти яростными, полными отчаяния. Затем я протянула ему питье, куда добавила снотворного.
Когда он уснул, я собрала его одежду и сунула ее в корзину вместе с пледами, а потом вынула диктофон, который стянула у него.
Лаская взглядом это тело, такое же безупречно прекрасное, как в день нашей первой встречи, – длинные ноги, вздрагивавшие от холода, упругие ягодицы, загорелую спину, светлые, разметавшиеся по шее волосы, – я записала свое прощальное послание: «Вильгельм, я сама выбирала тебе любовниц, теперь ты сам должен выбрать себе жену. Мне хочется предоставить решать тебе одному, как ты поступишь, оставшись без меня. Либо наша разлука причинит тебе такую боль, что ты возьмешь в жены полную мою противоположность, чтобы бесследно вычеркнуть меня из памяти. Либо ты захочешь, чтобы я незримо присутствовала в твоей будущей жизни, и выберешь женщину, похожую на меня. Любимый мой, я не знаю, что лучше, знаю только, что мне не понравится ни то, ни другое, но так нужно. Умоляю тебя: что бы ни было, мы не должны больше видеться. Представь себе, что Остенде находится где-то на краю света, что туда нет пути… Не мучь меня надеждой на встречу. Я никогда не открою тебе дверь, я повешу трубку, если ты позвонишь, я буду рвать письма, которые ты мне пришлешь. Нам придется страдать так же сильно, как мы любили – пылко, безумно, безгранично. Я ничего не сохраню от тебя: нынче же вечером я уничтожу все. Да и какое это имеет значение, ведь мои воспоминания никто у меня не отнимет. Я люблю тебя, и наша разлука не убьет мою любовь. Благодаря тебе моя жизнь исполнена высшего смысла. Прощай!»
И я убежала. Вернувшись домой, я позвонила его ординарцу и попросила, чтобы он приехал за своим хозяином туда, на берег, до наступления темноты. Затем собрала наши письма, фотографии и все бросила в огонь.
Помолчав, она добавила:
– Нет, это неправда. В последний момент у меня не хватило духу сжечь его перчатки. Понимаете, у него были такие руки…
И ее искривленные пальцы зашевелились, словно гладили невидимую руку…
– На следующий день я отослала ему одну из перчаток, а вторую спрятала к себе в ящик. Перчатка подобна воспоминанию. Она хранит форму руки, как воспоминание хранит форму реальной жизни; с другой стороны, перчатка так же далека от руки, как воспоминание – от ушедшего времени. Перчатка – это воплощение ностальгии…
И она снова замолкла.
Ее рассказ увлек меня в такие заповедные дали, что не хотелось опошлять его банальными словами.
Мы долго сидели молча, затерянные среди тысяч книг; время остановилось и застыло вокруг нас в темноте, местами слабо позолоченной огоньками ламп. Снаружи яростно ревел и стонал океан.
Потом я подошел к ней, взял ее руку, коснулся ее поцелуем и прошептал:
– Благодарю.
Она ответила мне улыбкой, душераздирающей улыбкой агонии, в которой угадывался вопрос: «Моя жизнь была прекрасна, не правда ли?»
Я ушел в свою комнату и с наслаждением растянулся на постели; рассказ Эммы до такой степени наполнил мои ночные грезы, что поутру я даже усомнился, впрямь ли мне довелось спать этой ночью.
В половине десятого Герда протопала по коридору и вторглась в мою спальню с твердым намерением подать мне завтрак в постель. Одним взмахом руки она раздвинула занавески, затем поставила поднос на одеяло.
– Тетя вчера рассказывала тебе свою жизнь?
– Да.
Герда прыснула со смеху:
– И на это понадобился целый вечер?
Тут я понял, чем объяснялась ее услужливость: она сгорала от любопытства.
– Извините, Герда, я поклялся ей ничего никому не рассказывать.
– Жалко.
– Во всяком случае, вы напрасно считаете свою тетушку старой девой, ничего хорошего не узнавшей в жизни.
– Да ну?! А я-то все думаю: этой бедолаге не повезло встретить волка в лесу; небось так и помрет девушкой!
– Нет, вы ошиблись.
– Вот тебе и на! Вы меня удивили…
– А почему вы были так уверены?..
– Да куда ей – она же калека!
– Погодите! Но ведь инсульт, который приковал ее к инвалидному креслу, случился всего пять лет назад…
– Нет, я не про это, а про другую хворь. Тетя Эмма еще до своего инсульта не очень-то могла ходить, бедная! Она заболела костным туберкулезом, а в те времена о таких лекарствах, как сейчас, еще и не слыхивали. Он ей повредил бедренные суставы. Сколько ж ей тогда было – лет двадцать, что ли? Поэтому она и уехала из Африки, чтоб в здешнюю больницу лечь… А ведь тогда как лечили – отправили в санаторий, а там положили на деревянный щит, да на целых полтора года! Когда она поселилась на вилле, тут, в Остенде, ей уже стукнуло двадцать три, и она могла ходить только на костылях. Ребятишки на улице дразнили ее «хромушей»: дети – они ведь злые, глупые, никого не жалеют! Хотя тетка моя в молодости была пригожая, очень даже пригожая. Да что с того, разве кому нужна хромая жена?! Страшно было глядеть, как она переваливается с боку на бок при каждом шаге. Сказать по правде, после инсульта, когда пришлось сесть в кресло на колесах, жить ей стало куда легче! А в ту пору… ну как посадишь в инвалидную коляску девушку двадцати трех лет… Одно слово – беда, да и только! И коли нашелся такой храбрец, что взял да пожалел ее, тем лучше…
Брезгливо передернув плечами от одной этой мысли, Герда удалилась.
Я задумчиво расправился с обильным фламандским завтраком, наскоро принял душ и спустился к Эмме Ван А., которая сидела у окна с книгой на коленях, устремив взор в облака.
При виде меня она залилась румянцем – типичная реакция женщины, отдавшейся вам накануне. Я почувствовал, что должен успокоить ее.
– Знаете, я провел чудесную ночь, вспоминая вашу историю.
– Приятно слышать. А я уж было начала жалеть, что досаждала вам своими глупостями.
– Скажите, а почему вы умолчали о том, что были калекой?
Она вся сжалась, напрягла шею, с усилием вздернула подбородок.
– Потому что никогда не считала себя калекой и никогда не была ею.
Внезапно она устремила на меня снизу вверх пристальный, подозрительный, почти враждебный взгляд.
– Я вижу, моя безмозглая племянница наболтала вам обо мне бог весть что…
– Это вышло случайно, а главное, она вовсе не хотела насмехаться над вами, напротив, говорила о ваших трудностях с сочувствием.
– С сочувствием? Ненавижу, когда на меня так смотрят. К счастью, мужчина моей жизни никогда не оскорблял меня жалостью.
– Он не обсуждал с вами вашу болезнь?
– Лишь однажды, в тот день, когда решил обнародовать нашу связь, жениться на мне… Я ужасно растерялась! И ответила ему, что народ еще мог бы смириться с простолюдинкой, но ни в коем случае не с калекой. Тогда он рассказал мне историю одной французской королевы – Хромой Жанны.[6]6
Имеется в виду Жанна Бургундская (1293–1349), королева Франции с 1328 по 1349 год.
[Закрыть] И даже звал меня этим именем несколько недель подряд. Мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы принять это как милую шутку.
– Не потому ли вы решили хранить в тайне ваш роман? Ведь если вдуматься, он мирился с вашей немощью куда легче, чем вы сами…
Она оторвала голову от спинки кресла, и ее глаза затуманили слезы.
– Возможно…
Ее голос пресекся. Потом губы нерешительно приоткрылись, и я понял, что она готова поведать мне еще какую-то тайну.
– Что вы хотите сказать? – мягко спросил я.
– Туберкулез – вот что было причиной моего бесплодия. Из-за того, что болезнь поразила кости, из-за того лечения, которое мне потребовалось, я утратила способность к деторождению. Если бы не это, я, может статься, и отважилась бы на брак с Вильгельмом…
Она пристально взглянула на меня и сердито воскликнула:
– А впрочем, что за глупости я говорю – «если бы не это», «если бы не моя болезнь»! Жалкие увертки, они только усугубляют страдания! «Если бы не это», моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Никогда не следует поддаваться искушению пересмотреть свою судьбу, это ловушка, откуда не выбраться и где вас ждет одна лишь боль. Я познала и счастье и несчастье, но мне не на что жаловаться! Несчастье – моя болезнь. Счастье – любовь Вильгельма.
Я улыбнулся ей, и она успокоилась.
– Мадам, меня мучит один вопрос, но я не смею вам его задать.
– Рискните все-таки.
– Вильгельм… он все еще жив?
Она судорожно вдохнула и крепко стиснула губы, словно принуждала себя молчать. Развернув кресло, она направила его к журнальному столику, открыла лежавшую на нем плоскую серебряную коробочку, убедилась, что там не осталось сигарет, и раздраженно оттолкнула ее. Потом с досадой схватила пустой перламутровый мундштук и вызывающим жестом поднесла его ко рту.
– Извините, месье, но я не отвечу на ваш вопрос: любые дополнительные сведения помогут вам выяснить, о каком человеке идет речь, а я этого не хочу. Знайте же, что Вильгельм – не настоящее его имя, а просто псевдоним, которым я воспользовалась для своего рассказа. Заметьте также, что я не уточнила его очередность на право престолонаследия. И наконец, вспомните, что я ни единым словом не указала, к какой королевской семье он принадлежит.
– Простите, но разве вы говорили не о бельгийской династии?
– Я этого не сказала. Это в равной степени мог быть королевский дом Голландии, Швеции, Дании или Англии.
– Или Испании, – воскликнул я, уязвленный до глубины души.
– Или Испании, – подтвердила она. – Я открыла вам мою тайну, но не его.
У меня гудела голова. Как же я был наивен, проглотив эту вчерашнюю историю и поверив во все ее перипетии! Но больше всего меня поразило, что волнение не помешало Эмме контролировать каждое свое слово, и на поверку она оказалась совсем другой – расчетливой и хитрой.
Я пожелал ей приятного дня и отправился на прогулку.
Пока я слонялся по городу, в голове у меня шевелилась какая-то смутная, ускользающая мысль или, скорее, неотвязное, мучительное воспоминание, неуловимое, как слово, что вертится иногда на языке. Сбитый с толку откровениями Герды, а затем самой Эммы, я брел по длинной безлюдной набережной, терзаясь этой напастью, которой даже имени не мог подобрать. Несколько раз я останавливался и смотрел на волны; наконец у меня голова пошла кругом, так что пришлось сесть.
Был уже вторник, все туристы разъехались, оставив мне прежний Остенде – безлюдный, нетронутый. И тем не менее я задыхался.
Обычно, когда я попадал на берег моря, мне казалось, что морская ширь незаметно тает на горизонте, в бескрайних далях; однако здесь, на севере, она вставала стеной. Я находился не перед морем, по которому можно уплыть куда угодно, но перед морем, в которое упираешься, как в препятствие. Оно не звало к бегству, оно преграждало путь. Не по этой ли причине Эмма Ван А. провела здесь всю жизнь в плену – или в убежище – своих воспоминаний?
Я облокотился на перила, ограждавшие набережную. Покидая виллу, я в какую-то долю секунды ощутил нечто вроде укола; меня пронзило загадочное ощущение или воспоминание из прошлого, оставившее горький привкус во рту. Но что же это было?
Я направился в кафе, чтобы выпить чего-нибудь, и в тот самый миг, как увидел стулья на террасе, проснувшаяся память внезапно явила мне четкий образ – сумасшедшая из Сен-Жермена!
Двадцать лет назад я зеленым юнцом приехал в Париж, чтобы продолжать учебу, и встретил это странное существо однажды вечером, когда мы с друзьями сидели на террасе кафе перед началом киносеанса.
– Дамы и господа, сейчас я исполню для вас танец!
Бродяжка с жидкими волосами неопределенного цвета – одни пряди желтые, другие седые – пропустила группу людей, направлявшихся в зал, сложила свои пакеты у дверей и, не спуская с них глаз, встала между столиками.
– Музыка Шопена!
Напевая пронзительным фальцетом, она начала изображать танец на пуантах некогда белых балетных туфель; ее движения сковывала розовая шаль, покрывавшая платье в цветочек, драный берет то и дело съезжал на глаза, грозя свалиться на пол. Забавно было наблюдать, с какой царственной небрежностью она исполняла свой номер, никак не попадая в ритм мелодии, которую напевала, безбожно фальшивя, а временами, когда у нее сбивалось дыхание, и вовсе о ней забывая; что же до самих па, то они весьма отдаленно напоминали балет. Так могла бы танцевать четырехлетняя девочка, изображающая балерину перед зеркалом. Мне казалось, что она и сама это понимает, более того, уверена, что она единственная, кто способен на подобную интерпретацию. По ее презрительной гримасе видно было, что она считает нас весьма посредственными знатоками искусства: «Я танцую как бог на душу положит, они этого не замечают, значит, лучшего и не заслуживают».
– Вуаля, я кончила!
И она удостоила нас медленным торжественным реверансом, подобрав обеими руками воображаемую широкую юбку с невидимым шлейфом.
Те, кто уже привык видеть ее здесь, разразились аплодисментами. То ли из жалости, то ли из жестокости мы вздумали организовать для нее триумф, восхищенно свистя и вопя, подзуживая остальных зевак вызывать ее снова и снова; наконец она взмокла и выбилась из сил от поклонов, венчавших ее танец, и объявила едким тоном:
– Даже не мечтайте, бисировать не буду! – И пошла между столиками, протягивая нам свой красный берет. – За мой танец, дамы и господа! Подайте, пожалуйста, артистке! Благодарю от имени искусства!
Впоследствии я часто встречал ее. Однажды она подошла к очереди в кинотеатр совершенно пьяная, шатаясь, с красным носом и мутными глазами. Бросив наземь свои кошелки, она хрипло пропела несколько тактов, попыталась поднять ногу, но скоро поняла, что на сей раз ей не удастся довести до конца свой так называемый балет.
Это привело ее в ярость. Она обвела нас грозным взглядом.
– Ага, значит, смеетесь над бедной старухой? А ведь я не всегда была такая, я была красивая, очень даже красивая, вон у меня в сумке есть фотографии. И к тому же я должна была выйти за короля Бодуэна! Да-да, за самого Бодуэна, за бельгийского короля, потому что эти бельгийцы – у них правят не какие-нибудь дурацкие президенты, как у нас, у них правят настоящие короли! Ну так вот, я чуть не стала бельгийской королевой, ей-богу, не вру! Бельгийской королевой, потому что король Бодуэн – молодой король, – он был от меня без ума. И я тоже. Ей-богу, не вру! Мы были так счастливы. Очень счастливы. А потом явилась эта интриганка, эта… эта…
И она несколько раз плюнула на землю, дрожа от горечи, от ярости, от ненависти.
– Потом явилась эта… Фабиола!
Она торжествовала: ей наконец удалось выговорить имя своей соперницы. Гневно вытаращив глаза и вытянув шею, она заорала, обращаясь к нам:
– Фабиола… она-то его и украла у меня! Да, украла! А он был влюблен по уши. Но что поделаешь, эта испанка… ей все нипочем… она решила окрутить его, женить на себе… она его околдовала. И он отвернулся от меня. Пиф-паф, и нет короля!
Она прислонилась к стене, чтобы перевести дух.
– Фабиола! Конечно, чего уж проще, если ты родилась в сорочке, если вокруг тебя прыгают няньки да гувернантки из Англии, из Германии, из Франции, из Америки да обучают тебя всяким языкам! Пф-ф-ф… Подумаешь… я бы тоже так смогла, кабы не родилась под забором. Воровка! Воровка! Украла у меня Бодуэна!
Окончательно выдохшись, бродяжка умолкла, оглядела нас так, словно только сейчас заметила наше присутствие, метнула взгляд на свои пожитки, проверяя, все ли на месте, затем, решив на сей раз ограничить свое представление верхней частью тела, прохрипела какую-то арийку, потрясла несколько секунд руками и внезапно отдала поклон:
– Вуаля!
Пока она обходила зрителей, я слышал, как она бормочет сквозь зубы, сбиваясь с одного сюжета на другой:
– Подайте танцовщице… интриганка… авантюристка… воровка… благодарю от имени балета… сволочь Фабиола!
Вот кого напомнила мне мечтательница из Остенде – ни больше ни меньше как эту нищенку, вечно таскавшую при себе дюжину целлофановых пакетов; студенты Сорбонны окрестили ее сумасшедшей из Сен-Жермен, потому что в каждом парижском квартале имелся свой юродивый.[7]7
Намек на пьесу французского драматурга Ж. Жироду «Сумасшедшая из Шайо».
[Закрыть]
Так чем же моя хозяйка была лучше? В мгновенном озарении я постиг все неправдоподобие ее рассказа. Роман калеки с принцем! Власть калеки над принцем, богатым и свободным человеком, простиравшаяся до того, что она сама выбирала ему любовниц! Начало и развязка этого романа на пляже, в дюнах, – романтично донельзя… Все это выглядело слишком надуманно, слишком неестественно! Вполне понятно, почему от их связи не осталось ни единого следа, – она попросту никогда не существовала.
Теперь я пересматривал ее рассказ в свете своих сомнений. «Любовное меню» в тетради с оранжевой кожаной обложкой – разве не напоминало оно лучшие эротические тексты, написанные женщинами?! И разве такие шедевры, пронизанные дерзкой чувственностью, не принадлежали иногда перу безмужних страдалиц, которые, будучи отброшены судьбой на обочину жизни и лишены радостей материнства, находили свое призвание в литературе?!
Подходя к дому Эммы, я приметил одну деталь, которая окончательно разъяснила мне эту загадку: над навесом крыльца серебряной и золотой мозаичной вязью было выложено название – «Вилла „Цирцея“»! Судя по виду этого панно, оно появилось уже после строительства дома.
Все разъяснилось: вдохновителем Эммы Ван А. был Гомер! Она сочинила эпизоды этой истории по канонам своего любимого автора. Встреча с Вильгельмом, якобы предсказанная во сне, повторяла встречу Улисса с Навсикаей – юной царевной, нашедшей обнаженного мужчину на морском берегу. Вот и виллу свою она назвала «Цирцеей», желая уподобиться обольстительной волшебнице из «Одиссеи», державшей мужчин в плену с помощью своих магических чар. Она презирала женщин, умеющих вязать или ткать, этих Пенелоп, к которым мужья, подобные Улиссу, не очень-то спешат вернуться. Что же до ее эротического меню, она и его почерпнула в античной Греции. Короче говоря, все ее так называемые воспоминания родились из литературных реминисценций.
Одно из двух: либо Эмма разыграла меня, либо она была мифоманкой. Но в обоих случаях мне было очевидно – принимая во внимание искалечившую ее болезнь, которую она от меня скрыла, – что эта история не имеет ничего общего с правдой.
Я толкнул дверь, твердо решив доказать ей, что не так-то прост. Однако все мое раздражение мгновенно испарилось при виде хрупкой фигурки, сидевшей в инвалидном кресле, лицом к морю.
Меня охватила теплая жалость к ней. Герда была права, называя свою тетку «бедолагой». Этой несчастной калеке не пришлось зарабатывать себе на жизнь, но что это была за жизнь при таком теле, пусть некогда и очаровательном, но потом безжалостно исковерканном болезнью?! И можно ли сердиться на нее за то, что она воспользовалась единственным подарком судьбы – фантазией, чтобы бежать от действительности или расцветить ее своими измышлениями?!
Так по какому же праву я, романист, собираюсь упрекнуть ее в этой поэтической импровизации?
Я подошел к ней. Она вздрогнула, улыбнулась, показала мне на стул.
Сев напротив нее, я спросил:
– Почему бы вам не описать все, что вы мне рассказали? Ведь это так увлекательно. Напишите книгу и назовите ее романом, а героям дайте вымышленные имена…
Она поглядела на меня снисходительно, словно разговаривала с младенцем.
– Я не гожусь в писательницы.
– Кто знает?! Стоило бы попробовать.
– Я знаю, что не гожусь, ведь я все свое время трачу на чтение. В литературе и без меня хватает самозванцев…
Я ответил на слово «самозванцы» иронической усмешкой: как спокойно она его произнесла – она, которая лгала мне весь вчерашний вечер; это было в некотором роде признание.
Она заметила мою гримасу и мягким жестом взяла меня за руку.
– Ради бога, не обижайтесь, я имела в виду вовсе не вас.
Меня позабавило ее заблуждение. По моей улыбке она заключила, что я ее прощаю.
– Я уверена, что вы настоящий художник слова.
– Но ведь вы меня не читали.
– Это верно! – ответила она, рассмеявшись в свой черед. – Но зато вы так замечательно слушаете.
– Я слушаю, как ребенок слушает сказку, веря каждому слову. Так что, если бы вы вчера поведали мне вымышленную историю, я бы этого даже не заметил.
Она кивнула – опять так снисходительно, словно я продекламировал ей считалочку. Тогда я рискнул пойти дальше:
– Каждое измышление есть признание, каждая ложь – сокровенная исповедь. И если бы оказалось, что вчера вы ввели меня в заблуждение, я бы на вас не рассердился, напротив, – поблагодарил бы за то, что для этой сказки вы назначили меня своим слушателем, сочли достойным ее, открыли свое сердце и одарили своей фантазией. Есть ли на свете что-либо выше творчества? Можно ли наградить людей чем-нибудь столь же драгоценным? Вы отличили меня. Я стал вашим избранником.
Ее лицо дрогнуло, я понял, что она начала угадывать мою мысль, и торопливо продолжал:
– Да, вы не ошиблись, я ваш собрат, товарищ по лжи, человек, избравший, как и вы, путь исповеди через фантазию. В современной литературе больше всего ценится правдивость повествования. Какая нелепость! Правдивость – качество, потребное лишь при составлении протокола или свидетельстве в суде, – да и в этих случаях ее скорее можно назвать долгом, нежели качеством. Построение сюжета, способность заинтриговать читателя, дар рассказчика, умение приблизить самое далекое и чуждое, упомянуть о чем-то, не вдаваясь в детали, создать иллюзию действительности – все это идет вразрез с так называемой правдой жизни и ничем ей не обязано. Более того, рассказ, основанный не на реальности, а на фантазии, на несбыточных мечтах, на неутоленных желаниях, на неизбывной духовной жажде, волнует меня так сильно, как никогда не взволнует никакой газетный отчет о любом происшествии.
Она закусила губы и впилась в меня взглядом.
– Вы… вы мне не поверили?
– Ни на йоту, но это не имеет никакого значения.
– Что?!
– Я все равно вам благодарен.
Откуда у нее взялись силы толкнуть меня так свирепо? Она ударила меня в грудь, и я опрокинулся вместе со стулом.
– Глупец! – Она кипела от ярости. – Убирайтесь прочь! Немедленно покиньте эту комнату! Прочь! Я не желаю вас больше видеть!
В библиотеку, всполошенная этими криками, ворвалась Герда.
– Что у вас тут стряслось?
Эмма увидела племянницу и растерянно замолчала, не зная, что ответить. Между тем, толстуха обнаружила меня лежащим на ковре и бросилась поднимать.
– Ай-ай-ай, как же это тебя угораздило, месье? Надо же так упасть! Об ковер запнулся, что ли?
– Именно так, Герда, он запнулся о ковер. Я потому тебя и звала. А теперь прошу вас оставить меня в покое, я хочу отдохнуть. Одна!
В голосе этой тщедушной старухи звучала такая стальная воля, что мы с Гердой покорно очистили помещение.
Укрывшись на втором этаже, я начал корить себя: зачем мне понадобилось приводить Эмму в такую ярость? Прежде я считал ее лгуньей, но не помешанной. Однако ее бурная реакция доказывала, что она верит в собственные бредни. И вот теперь, по моей вине, страдает больше, чем прежде. Как же быть?
Герда наведалась ко мне под тем предлогом, что хочет подать чай; на самом деле ей ужасно хотелось разузнать подробности сцены, которую она застала лишь в конце.
– Что ты ей наговорил? Она прямо вся кипит от злости.
– Я сказал, что не очень-то верю ее вчерашнему рассказу…
– Ах вон как… ну тогда понятно…
– И еще я добавил, что эта история меня увлекла и не важно, если она ее придумала. За это она меня и ударила!
– Ой-ой-ой!
– Я даже не подозревал, что она так искренне верит в свои измышления. Это уже за гранью душевного равновесия. Мне казалось, что она либо лгунья, либо мифоманка; я и предположить не мог, что она…
– Сумасшедшая?
– Ну, это слишком сильно…
– Не хочу тебя огорчать, месье, но ты должен понять, что у тети Эммы и впрямь с головой не все в порядке. Вот ты сам пишешь романы, – разве ты думаешь, что там все правда? Нет, не думаешь! Поэтому я и говорю, что тетя моя свихнулась. Да что там, об этом вся наша родня знает… Дядя Ян всегда это говорил. И тетя Эльетта тоже!