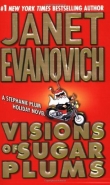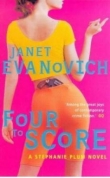Текст книги "Мечтательница из Остенде"
Автор книги: Эрик-Эмманюэль Шмитт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– А что же о вас говорили, мадам Ван А.?
– О… ничего определенного…
Наступила пауза.
– Ничего. Абсолютно ничего.
И она пожала плечами.
– Герда вам ничего не рассказывала?
– О чем?
– Об этом «ничего». Ведь родственники считают, что моя жизнь прошла впустую. Ну, признайтесь…
– Э-э-э…
– Вот видите, она и вам уже наболтала, что моя жизнь пуста. А ведь она была удивительно насыщенной, моя жизнь. И это «ничто» – чистая выдумка.
Я подошел к ней:
– Вы не хотите мне рассказать?
– Нет. Я обещала.
– Простите, не понял.
– Я обещала хранить тайну.
– Кому? И в чем?
– Ответить – значило бы частично выдать мою тайну…
Эта женщина сбивала меня с толку: под внешностью замшелой старой девы кипели бешеный, закаленный неутолимой яростью темперамент и отточенный ум, мечущий слова, точно кинжалы.
Она повернулась ко мне:
– Так вот, знайте, что я была любима. Мало кто был любим так, как я. И я любила сама. Так же страстно. Да, да, так же… если это возможно…
И ее глаза затуманились слезами.
Я положил руку ей на плечо, стараясь ободрить:
– Никому не возбраняется рассказывать историю любви.
– А мне нельзя. Потому что это затрагивает слишком важные персоны.
И она ударила кулаками по коленям, словно приказывала молчать кому-то, кто порывался заговорить.
– Кроме того, стоило ли всю жизнь хранить тайну, а теперь вдруг взять и раскрыть ее? К чему? Чтобы все мои многолетние усилия пропали втуне?
Ее узловатые пальцы вцепились в колеса инвалидного кресла, с неожиданной силой толкнули их, и она, покинув гостиную, заперлась в своей спальне.
Выйдя из виллы «Цирцея», я столкнулся на тротуаре с Гердой, которая сортировала мусор, перед тем как разложить его по разным бакам.
– Вы уверены, что ваша тетушка так и не узнала страстной любви?
– Да я побожусь, что нет! Над ней частенько из-за этого подшучивали. Сам подумай – случись такое, она давным-давно выложила бы нам все, просто чтоб душу облегчить!
Она с оглушительным треском сплющила три пластиковые бутылки и скатала их в крошечные тугие комки.
– А вот я сильно сомневаюсь, Герда, есть у меня подозрение, что это не так.
– Ну вот, сразу видать, что ты зарабатываешь на жизнь дурацкими выдумками, ей-богу! Тоже мне напридумывал!
Ее короткие руки разорвали плотный картон легко, как папиросную бумагу. Внезапно она застыла, глядя на пару чаек, паривших над нашими головами.
– Ладно, коли уж ты стоишь на своем, я вспомнила про дядю Яна. Да, про него. Он очень любил тетю Эмму. И однажды сказал мне по секрету странную вещь: все мужчины, которые увивались за тетей Эммой, потом бежали от нее, как от чумной.
– Почему?
– Она их отпугивала, говорила всякие гадости.
– Она – и гадости?
– Так он мне сказал, дядя Ян. Да вы и сами видите: никто ее не захотел.
– Если разобраться в том, что сообщил вам дядя Ян, то скорее это она никого не захотела.
Озадаченная таким поворотом, племянница замолчала.
Я продолжал:
– Если она была так же требовательна к мужчинам, как к писателям, то понятно, отчего ни один из них не нашел у нее снисхождения. И раз уж ей не попадались мужчины на ее вкус, она делала все, чтобы отвадить других. Иными словами, ваша тетушка просто желала сохранить независимость!
– Может, и так, – неохотно согласилась племянница.
– И кто знает, не отталкивала ли она их потому, что хотела сохранить себя для единственного избранника, того, о котором никогда никому не рассказывала?
– Тетя Эмма? Чтоб тетя Эмма вела двойную жизнь? Эта бедолага?
И Герда скептически хмыкнула. Тетка интересовала ее лишь до тех пор, пока считалась «убогой»; она питала к ней покровительственную привязанность, смешанную с жалостью, если не с легким презрением, но стоило Герде заподозрить, что за поведением старухи кроется расчетливость или богатство, как она тотчас потеряла бы к ней всякий интерес. Тайны ее ничуть не волновали, а объяснения принимались только с условием, что будут просты и понятны. Герда принадлежала к числу людей, для которых понимать что-либо означает стоять обеими ногами на земле, а всякие романтические изыски – звук пустой.
Мне хотелось слоняться по Остенде весь день, однако капризный климат сократил мою прогулку. Мало того что задул противный холодный ветер, мешавший мне собраться с мыслями, – низкие темные тучи в конце концов пролились тяжелым холодным дождем.
Пару часов спустя я прибежал на виллу, чтобы укрыться от непогоды, но не успел переступить порог, как Герда бросилась ко мне с паническим криком:
– Тетя в больнице, у ней сердце схватило!
Мне стало совестно за себя: когда я ушел от Эммы, она была так взвинчена, что это волнение, скорее всего, и вызвало сердечный приступ.
– Что говорят врачи?
– Я дожидалась тебя, чтобы поехать в больницу. Вот сейчас и отправлюсь.
– Хотите, я пойду с вами?
– Еще чего, ведь это она захворала, а не я. И потом, где ты возьмешь велосипед? Больница – это не ближний свет. Жди здесь, так оно будет лучше. Я скоро вернусь.
Воспользовавшись ее отсутствием, я обследовал гостиную. Мне хотелось заглушить тревогу, и я стал изучать содержимое книжных полок. Там стояли признанные классики мировой литературы, но были также собрания сочинений авторов, познавших короткий период славы, который сменился полным забвением со стороны читающей публики. Вид этих книг навел меня на размышления об эфемерности успеха, о преходящем характере любой известности. Подобная перспектива терзала мое воображение. Да, сегодня у меня есть читатели, но останутся ли они со мной завтра? Писатели по недомыслию считают, что они избегнут забвения после смерти, оставив после себя нечто, но как долго просуществует это нечто? Если я чувствую себя способным говорить с читателем XXI века, то много ли мне известно о читателе XXIII-го? Да и вообще, не самонадеянна ли такая постановка вопроса? И не лучше ли раз и навсегда отказаться от погони за славой, от притязаний на бессмертие? Жить настоящим, только настоящим и радоваться тому, что есть, а не уповать на будущее.
Не сознавая, что эти размышления, по аналогии, лишь усугубляют мое беспокойство о состоянии Эммы, я погрузился в какую-то прострацию, заставившую меня позабыть о времени.
И вздрогнул, когда Герда закричала во весь голос, с треском захлопнув за собой входную дверь:
– Ничего серьезного! Она уже очнулась. Скоро оклемается. Так что в этот раз пронесло.
– Ну, слава богу! Значит, это была ложная тревога?
– Да, врачи еще подержат ее там какое-то время, чтобы понаблюдать, а потом вернут мне.
Я разглядывал топорную фигуру Герды, ее могучие плечи, широкие бедра, усеянное рыжими веснушками лицо, короткие руки.
– Вы очень привязаны к своей тетушке?
Она пожала плечами и ответила так, словно это было очевидно:
– Да ведь у нее, бедолаги, только я одна и есть!
С этими словами она повернулась и ушла в кухню греметь своими кастрюлями.
Последующие дни не принесли ничего хорошего. Герда отмеривала мне, через час по чайной ложке, скупые новости о своей тетке, которая все еще лежала в больнице. А затем, поскольку Эмма Ван А. больше не защищала город своим тщедушным телом, в Остенде нахлынули туристы.
Пасхальные праздники всегда знаменуют собой – чего я раньше не знал – начало отпускного сезона на курортах Северного моря, и начиная со Страстной пятницы городские улицы, магазины и пляжи заполнились приезжими, говорящими на всевозможных языках – английском, немецком, итальянском, испанском, турецком, французском, – правда, нидерландский все же преобладал. В город целыми полчищами прибывали супружеские пары и семьи с детьми; я никогда еще не видел столько колясочек в одном месте: казалось, побережье служит заповедником для взращивания младенцев; пляж был забит тысячами тел, хотя термометр показывал всего семнадцать градусов, а ветер продолжал холодить кожу. Мужчины, более смелые, чем женщины, подставляли торсы бледному солнцу; они обнажали их в стремлении продемонстрировать скорее собственную отвагу, нежели красоту, и тем самым принять участие в соревновании самцов, не касавшемся самок; однако им хватало храбрости лишь на то, чтобы раздеться до пояса, предусмотрительно оставив на себе длинные штаны или шорты. Меня, всегда проводившего летний сезон на Средиземном море, больше всего удивлял цвет их кожи – белый или красный, – бронзовый загар был здесь редкостью. Никто из представителей этой северной популяции не загорал как положено: здесь либо оставались иссиня-бледными, либо обжаривались на солнце докрасна, пока кожа не слезала клочьями. Одни лишь молодые турки выделялись своими золотисто-коричневыми телами среди белых и багровых, но это их явно стесняло, и они старались держаться кучно.
Невозможно было спокойно гулять в этом хаосе, пробираясь между отдыхающими, между собаками, которых не допускали на пляж и которые все равно рвались туда, натягивая поводки, между арендованными велосипедами, застревавшими в густой толпе, и педальными автомобильчиками, которые не продвигались вовсе, – я рассматривал все это как наглое вторжение. Странное дело: по какому праву я употребил именно это слово? С какой стати позволил себе считать приезжих варварами, если сам пожаловал сюда всего несколько дней назад? Неужели тот факт, что я поселился в доме Эммы Ван А., превратил меня в горячего патриота Остенде? Ладно, пусть будет так. Мне казалось, что вместе с моей хозяйкой у меня отняли и мой Остенде.
Вот почему я с огромной радостью увидел подъезжавшую к вилле «Цирцея» машину «скорой помощи», которая доставила Эмму домой.
Санитары внесли ее в холл вместе с инвалидным креслом, Герда налетела на тетку с разговорами, и мне показалось, что старая дама тяготится этой болтовней: она то и дело поглядывала на меня, как бы прося остаться, не уходить.
Когда Герда отправилась на кухню готовить чай, Эмма Ван А. повернулась ко мне. В ней чувствовалась какая-то перемена, словно она приняла важное решение.
Я подошел ближе.
– Как вам лежалось в больнице?
– Да ничего особенного. Впрочем, тяжелее всего было слушать, как Герда звякает спицами у моего изголовья. Не правда ли, трогательно? Когда у Герды выдается свободная минутка, она, вместо того чтобы взять книгу, вышивает, орудует спицами – мучает шерсть, так я это называю. Терпеть не могу «рукастых» женщин. Да и мужчины их не выносят. Хотя, знаете ли, на севере Ирландии, на Аранских островах, живут крестьянки, которые тоже любят вязать. Их мужья-рыбаки либо совсем не возвращаются, либо возвращаются вместе с обломками своих лодок, разбухшие от воды, изъеденные солью, и тогда жены признают их только по рисунку вязки свитеров![5]5
В аранских узорах, вязанных крючком и спицами, встречаются затейливые элементы кельтских орнаментов, и у каждой вязальщицы есть свой «личный» узор.
[Закрыть] Вот что случается с вязальщицами: они притягивают к себе одни только трупы!.. Мне необходимо с вами поговорить.
– Я понимаю, мадам. Вы хотите, чтобы я переехал куда-нибудь на время вашего выздоровления?
– Нет, напротив. Я хочу, чтобы вы жили здесь, подле меня, так как мне нужно побеседовать с вами.
– Я готов.
– Не хотите ли поужинать вместе со мной? Гердина стряпня ничуть не лучше, чем ее кофе, но я попрошу приготовить одно из двух блюд, которые ей удаются лучше прочих.
– С удовольствием разделю вашу трапезу. Я очень рад, что вы выздоровели.
– О нет, я не выздоровела. Это чертово сердце в конце концов не выдержит и сдастся. Вот поэтому-то мне и нужно с вами переговорить.
Я с нетерпением ждал этого ужина. Все предыдущие дни я сам себе боялся признаться, как мне не хватает моей мечтательницы, и теперь чувствовал, что она готова к откровениям.
В восемь вечера, едва Герда оседлала свой велосипед и уехала домой, а мы приступили к закускам, Эмма обратилась ко мне с вопросом:
– Вам когда-нибудь приходилось сжигать письма?
– Да.
– И что вы при этом чувствовали?
– Ярость оттого, что вынужден это делать.
Ее глаза блеснули, – казалось, мой ответ придал ей храбрости.
– Вот именно. Однажды, тридцать лет назад, мне тоже пришлось бросить в огонь слова и фотографии, относившиеся к человеку, которого я любила. Я смотрела, как сгорают в камине осязаемые следы моей судьбы, но, даже если и плакала, принося эту жертву, она не затронула моих сокровенных чувств: со мной навсегда оставались воспоминания, и я твердила себе: никто никогда не сможет сжечь мои воспоминания!
Она печально взглянула на меня.
– Как же я заблуждалась! В прошлый четверг, после этого третьего приступа, я поняла, что болезнь мало-помалу сжигает и мои воспоминания. А смерть завершит эту работу. Так вот, лежа там, на больничной койке, я и решила, что должна с вами поговорить. И что вам я расскажу все.
– Почему именно мне?
– Потому что вы пишете.
– Но вы меня не читали.
– Да, но вы пишете.
– Значит, вы хотите, чтобы я записал то, что вы мне поведаете?
– Конечно нет.
– Тогда зачем же?
– Вы пишете… это значит, что вы питаете интерес к другим людям. А мне как раз это и необходимо – немного интереса.
Я с улыбкой коснулся ее руки:
– В таком случае я тот, кто вам нужен.
Она тоже улыбнулась, чуть смущенная моей фамильярностью, слегка откашлялась, провела ногтем по краю тарелки и, опустив глаза, начала свой рассказ.
«Однажды утром, больше пятидесяти лет назад, я проснулась с твердой уверенностью, что нынче со мной должно случиться нечто важное. Что это было – предчувствие или воспоминание, весть из будущего или полузабытое ночное видение? В любом случае судьба воспользовалась моим сном и глухим шепотом предрекла мне некое событие.
Вы знаете, как глупо ведет себя человек, услышавший подобное пророчество: ему не терпится угадать, что произойдет, и он самим этим ожиданием нарушает ход вещей. Еще за утренним завтраком я построила множество приятных гипотез: мой отец вернется из Африки, где он постоянно жил; почтальон принесет мне письмо от издателя с согласием опубликовать мои полудетские стихи; я снова встречусь с самым близким другом детства…
Увы, наступивший день развеял мои иллюзии. Почтальон так и не явился. Никто не позвонил в дверь. И пароход, прибывший из Конго, не доставил в порт моего отца.
В конце концов я сама начала смеяться над своими утренними надеждами и назвала себя дурочкой. В середине дня, почти смирившись с мыслью о невезении, я вышла прогуляться вдоль берега, взяв с собой Бобби, моего тогдашнего спаниеля; но даже там помимо воли то и дело вглядывалась в горизонт, продолжая надеяться на чудо… Дул сильный ветер, и поэтому море и пляж были пусты.
Я медленно брела вперед, решив заглушить свое разочарование усталостью. Мой пес, чувствуя, что прогулка будет долгой, нашел старый мячик и принес его мне, чтобы поиграть.
Он помчался к дюне, куда я забросила его игрушку, но внезапно отпрыгнул назад, как будто его укусили, и залился лаем.
Я попыталась успокоить Бобби, осмотрела его лапы, проверяя, не ужалил ли его кто-нибудь, но он продолжал лаять; наконец мне это надоело, я оставила пса в покое и сама пошла за мячиком.
И тут из-за кустов показался человек.
Он был совершенно голый.
Заметив мое удивление, он сильной рукой вырвал из земли пучок травы и прикрыл ею низ живота.
– Мадемуазель, умоляю вас, не бойтесь меня.
Я и не думала пугаться, меня занимало совершенно другое, а именно: он выглядел таким сильным, таким мужественным, таким неотразимо привлекательным, что у меня даже дух перехватило.
Незнакомец умоляюще простер ко мне руку, словно хотел показать, что не питает враждебных намерений.
– Пожалуйста… не могли бы вы мне помочь?
Я заметила, что его рука дрожит.
– Я… я потерял свою одежду…
Значит, он дрожал не от страха, а от холода.
– Вы замерзли? – спросила я.
– Да… немного.
Эта литота ясно свидетельствовала о хорошем воспитании.
– Хотите, я раздобуду вам какую-нибудь одежду?
– О, пожалуйста, очень вас прошу…
Но мне тут же стало ясно, что это займет слишком много времени.
– Видите ли, для этого понадобится часа два – час туда, час обратно, за это время вы просто окоченеете. Тем более что ветер усиливается и скоро стемнеет.
Поэтому, не медля дольше, я распахнула накидку, которую носила вместо пальто.
– Вот что, наденьте это и идите за мной. Так будет проще всего.
– Но… но… вы же сами замерзнете.
– Ничего страшного, на мне блузка и свитер, а вы совсем раздеты. И потом, я вовсе не хочу, чтобы меня увидели на пляже рядом с голым мужчиной. Значит, либо вы возьмете эту накидку, либо останетесь здесь.
– Я лучше потерплю.
– Как же вы доверчивы! – со смехом сказала я, внезапно осознав весь комизм ситуации. – А что, если я уйду домой и не вернусь?
– Нет, вы на это не способны!
– Откуда вы знаете? Разве вам никто не рассказывал, как я обычно обращаюсь с голыми мужчинами, которых нахожу в кустах?
Он рассмеялся в свой черед.
– Ну хорошо. Давайте вашу накидку и… спасибо вам!
Я подошла к незнакомцу и сама накинула ее ему на плечи, – мне не хотелось, чтобы он поднял руки, оголив тем самым живот.
Он со вздохом облегчения закутался в эту шерстяную одежку, хотя она была явно мала для его могучего тела.
– Меня зовут Вильгельм, – объявил он, как будто теперь считал уместным перейти к знакомству.
– Эмма, – ответила я. – Но давайте не будем тратить время на церемонии, а скорее пойдем ко мне домой, пока эта стужа не превратила нас в айсберги. Вы согласны?
И мы двинулись в путь, борясь со встречным ветром.
Нет ничего противнее ходьбы, когда намечаешь себе определенную цель. Гораздо приятнее брести куда глаза глядят, так можно гулять до бесконечности.
К счастью, наша странная пара никого не повстречала по дороге. Мы оба молчали; моя робость возрастала с каждой минутой, я едва осмеливалась смотреть на своего спутника, боясь, как бы ветер не приподнял накидку, – ведь тогда мой взгляд покажется нескромным. Моя походка вдруг стала скованной, спина напряглась, шея онемела от усилия держаться прямо.
Наконец мы добрались до виллы „Цирцея“, и я закутала его в пледы, лежавшие в гостиной, а сама бросилась на кухню греть воду. Я всегда была неумехой, горе-хозяйкой, но сейчас изо всех сил старалась показать себя с лучшей стороны. Я уже начала выкладывать на блюдо бисквиты, как вдруг меня обожгла мысль, что я впустила в дом совершенно незнакомого человека, да еще именно в тот день, когда на вилле нет никого из прислуги; впрочем, я сразу же устыдилась своей низкой подозрительности и торопливо вернулась в библиотеку, неся на подносе исходящий горячим паром чай.
Он ждал меня, сидя в углу дивана, улыбаясь и все еще подрагивая от озноба.
– О, благодарю!
Я снова увидела его лицо с четкими чертами, светлые глаза, длинные золотистые вьющиеся волосы, пухлые губы, гладкую сильную мускулистую шею. Из-под пледа высовывалась его нога, и я заметила, какая она гладкая, точеная, без единого волоска, словно из мрамора. В моей гостиной нежданно-негаданно очутилась статуя античного героя, юный красавец-грек Антиной, которому поклонялся император Адриан и который некогда бросился в лазурные воды Средиземного моря, чтобы сегодня утром вынырнуть из волн Северного живым и невредимым. Я вздрогнула при этой мысли.
Он неверно расценил мою реакцию.
– Вы промерзли из-за меня! Это я виноват.
– Нет-нет, я очень быстро согреваюсь. Постойте-ка, сейчас я растоплю камин.
– Хотите, я вам помогу?
– Руки прочь! Пока вы не придумаете, как ходить в этих пледах, не рискуя оскорбить мою стыдливость, я вам рекомендую смирно сидеть на диване.
Я плохо умела разводить огонь, но на сей раз успешно справилась с этой задачей; через несколько минут буйные языки пламени уже охватили поленья, а я тем временем разливала чай.
– Я должен кое-что объяснить вам, – сказал он, с наслаждением сделав первый глоток.
– Вы ничего мне не должны, и я терпеть не могу объяснений.
– Тогда скажите сами: что же, по-вашему, со мной случилось?
– Понятия не имею. Если так, сразу, то вот мое предположение: вы родились нынче утром и, подобно Афродите, вышли из морской пены.
– А еще?
– Вы сидели вместе с другими рабами в трюме корабля, увозившего вас в Америку; судно было атаковано пиратами и затонуло на остендском рейде, но вам удалось каким-то чудом избавиться от цепей и вплавь добраться до берега.
– А каким же образом я попал в рабство?
– Это ужасное недоразумение. Судебная ошибка.
– Ага, я вижу, что вы на моей стороне!
– Конечно.
Развеселившись, он указал на тысячи книг вокруг нас:
– Вы их читаете?
– Да, несколько лет назад я освоила алфавит и теперь вовсю этим пользуюсь.
– Нет, вряд ли алфавит наделил вас такой буйной фантазией…
– О, меня столько раз корили моей фантазией. Так, словно это недостаток. А вы что о ней думаете?
– Она меня просто восхищает, – протянул он с улыбкой, которая меня смутила.
Я вдруг утратила дар речи. Мое воодушевление уступило место беспокойству. Что я делаю, сидя в своем доме одна, вернее, наедине с незнакомцем, обнаруженным в голом виде среди кустов? Логика подсказывала мне, что его следует бояться. По правде говоря, в глубине души я и впрямь испытывала ощущение надвигавшейся опасности.
Я попыталась внести ясность в ситуацию:
– Сколько же времени вы скрывались там, в дюнах, поджидая прохожих?
– Много часов. До вас я уже окликнул двух гулявших дам. Но они сбежали так быстро, что я не успел объяснить им, в чем дело. Я их ужасно испугал.
– Может, не вы, а ваш… наряд?
– Ну разумеется, мой наряд. Однако это самое простое, что я смог придумать.
И мы оба от души расхохотались.
– Я сам во всем виноват, – продолжал он. – Вот уже несколько недель я живу здесь, неподалеку, с моей семьей, и нынче утром мне захотелось поплавать. Я поставил машину за дюнами, хорошенько заприметил то место, затем, увидев, что на пляже нет ни одной живой души, сложил одежду на песок, прижал ее камнем и долго плавал. Но, вернувшись на берег, не нашел ни камня, ни одежды, ни машины.
– Улетучились? Или украдены?
– Знаете, я вовсе не уверен, что вышел в том же месте, где входил в воду, – я не очень-то наблюдателен. Да и как можно отличить одну песчаную дюну от другой?!
– Или одну скалу от другой.
– Вот именно! Потому-то я и не стал просить вас поискать мой автомобиль за дюнами, ведь я представления не имею, где он может быть.
– Вы очень легкомысленны!
– О, я так захотел поплавать в море обнаженным, что не смог побороть искушение. Морской простор звал меня.
– Я вас понимаю.
И верно, я хорошо понимала его. Мне казалось, что он так же одинок, как я, и потому природа оказывает на него такое же пьянящее воздействие. Но тут у меня зародилось одно подозрение.
– А вы были намерены вернуться на сушу?
– Вначале – да. А потом, когда плыл по течению, – нет. Мне хотелось, чтобы это продолжалось вечно.
Он пристально взглянул на меня и медленно произнес:
– Но я не самоубийца, если вы это имели в виду.
– Именно это.
– Я люблю заигрывать с опасностью, в таких случаях я прямо-таки дрожу от азарта, и когда-нибудь, наверное, совершу что-то ужасно безрассудное, но не испытываю никакого желания умереть.
– Скорее, желание жить?
– Именно так.
– И бежать от чего-то…
Эти слова явно застигли его врасплох, и он плотнее закутался в плед, словно хотел отгородиться от моей, смутившей его, проницательности.
– Кто вы? – спросил он.
– А вы как думаете?
– Моя спасительница, – прошептал он с улыбкой.
– И все? А ну-ка, давайте проверим, наделены ли и вы даром фантазии.
– О, боюсь, что я освоил лишь алфавит, а с фантазией у меня плохо.
– Впрочем, разве это важно, кто мы на самом деле? Вот вы для меня – прекрасная живая статуя, которую я нашла на пляже, отогрела и сейчас одену во что-нибудь, дабы поскорее вернуть вашей жене.
Он нахмурился:
– Почему вы говорите о моей жене? Я не женат.
– Простите, недавно вы упомянули о своей…
– …семье. Я живу здесь с родными – родителями, дядями, кузенами.
До чего же я глупа! Я сболтнула, что он прекрасен, лишь потому, что считала его женатым, и теперь сгорала от стыда, как будто сама явилась перед ним неприлично обнаженной. Он внимательно разглядывал меня, склонив голову набок:
– А вы… разве ваш муж не здесь?
– Нет. Сейчас – нет.
Он явно ожидал более подробного ответа. Я же поспешила отойти к камину и начала ворошить горевшие поленья, пытаясь собраться с мыслями… Я понимала, что этот человек безумно нравится мне, и чувствовала, как меня охватывает смятение. Теперь я уже не хотела, чтобы он ушел, но в то же время никак не могла решиться сказать ему, что живу одна в доме. Вдруг он этим воспользуется… А собственно, чем этим? Соблазнит меня? Что ж, я не против. Обворует? Если вспомнить о его „костюме Адама“, то он скорее жертва воровства, нежели вор. Нападет на меня? Нет, не похоже, он не производил впечатления агрессивной личности.
Обернувшись к нему, я пошла напролом:
– Скажите, вы опасны?
– Смотря для кого… Для рыбы, для зайцев и фазанов – несомненно, поскольку занимаюсь и рыбной ловлей, и охотой. Но для всех остальных…
– Ненавижу охотников.
– Значит, вы ненавидите меня.
Он с улыбкой бросал мне вызов. Я снова уселась перед ним.
– Я заставлю вас изменить свое мнение…
– Мы знаем друг друга всего несколько минут, а вы уже намерены изменить меня?
– Мы совсем друг друга не знаем. – Запахнув поплотнее плед, он негромко продолжал: – Хочу ответить на ваш вопрос: нет, вам не стоит меня бояться. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы вытащили меня из этой глупой переделки и храбро впустили к себе в дом. Но я не хотел бы злоупотреблять вашим гостеприимством… Возможно ли позвонить отсюда, чтобы за мной приехали?
– Конечно. Но не хотите ли сперва принять горячую ванну? Это вас согреет…
– Я не смел просить вас об этом.
Мы встали.
– И еще… если бы у вас нашлась какая-нибудь одежда…
– Одежда?
– Ну да, рубашка, брюки… Можете не сомневаться, я, разумеется, верну их вам постиранными и выглаженными.
– Видите ли… у меня здесь нет мужской одежды.
– А ваш супруг?
– Видите ли… у меня нет и супруга.
Воцарилось молчание. Он улыбнулся. Я тоже. Потом упала в кресло, бессильно, как тряпичная кукла.
– Очень сожалею, что у меня нет мужа, чтобы выручить вас, до сих пор мне никогда не приходило в голову, что от мужа может быть какая-то польза.
Он со смехом опять присел на диван:
– А ведь мужья бывают очень даже полезны.
– О, я заранее знаю, что мне не понравится то, что вы собираетесь сказать! Но все равно, говорите… Так какую же пользу мог бы принести мне муж? Не стесняйтесь, начинайте…
– Например, составлять вам компанию.
– Для этого у меня есть книги.
– Сопровождать вас на пляж.
– Я хожу туда с моим спаниелем Бобби.
– Открывать вам дверь и пропускать вперед, когда вы куда-нибудь входите.
– Я прекрасно справляюсь с дверями сама, и мне не нужен муж, который пропускает вперед других. Нет, этого мало; чем же еще он мог бы мне услужить?
– Ну, например, заключил бы вас в объятия и стал целовать в шею, в губы.
– Вот это уже лучше. А потом?
– А потом он отвел бы вас в спальню и сделал счастливой.
– Даже так?
– Он бы любил вас.
– И это ему удалось бы?
– Мне кажется, вас совсем нетрудно полюбить.
– Почему?
– Потому что вы очень милая.
И тут мы невольно, бессознательно придвинулись друг к другу.
– А разве так уж необходимо выйти замуж, чтобы испытать все это? Разве эту роль не может выполнить возлюбленный?
– Да… – почти неслышно прошептал он.
Внезапно его лицо окаменело. Он откинулся назад, туго стянул на плечах плед, вскочил с места, окинул тревожным взглядом стены, заставленные книгами, и произнес совсем другим голосом, твердо и раздельно:
– Мадемуазель, мне очень стыдно за свое неприличное поведение. Вы так очаровательны, что я забыл о ситуации, заставляющей вас слушать, а меня толкнувшей на недопустимые высказывания. Прошу простить мне эти выходки. Не могли бы вы провести меня в вашу ванную?
Его голос звучал с новой, властной силой, и я подчинилась не раздумывая.
Впустив его в ванную, я пообещала, что одежда будет ждать на табурете у двери, и бросилась в свою комнату.
Торопливо распахивая шкафы и выдвигая ящики комодов, я вспоминала всю эту сцену. Что же со мною приключилось? Я вела себя как авантюристка, льстила ему, поощряла, распаляла… да, прямо-таки вынудила его к ухаживаниям… Во мне проснулось страстное желание понравиться, оно пронизывало все мои слова, все жесты и взгляды, побуждая превратить нашу беседу во флирт. Сама того не желая, я установила между нами атмосферу эротического притяжения, вошла в образ доступной женщины и позволила ему проявить недопустимую вольность в обращении со мной; к счастью, в последний миг он вспомнил о приличиях и отреагировал должным образом.
Содержимое шкафов привело меня в полное уныние. Мало того что я не нашла в них никакой мужской одежды, но и все остальное решительно не подходило моему гостю по размерам. Вдруг мне пришло в голову подняться наверх, в комнату моей служанки Маргит, которая отличалась высоким ростом и дородной коренастой фигурой; пользуясь ее отсутствием, можно было позаимствовать что-нибудь из ее вещей.
Вспотев от волнения, я вытащила из ее сундука самую широкую одежду, какая нашлась, спустилась вниз и крикнула сквозь дверь ванной:
– Мне стыдно признаться, но это просто ужасно: я могу предложить вам только халат моей служанки.
– Сойдет и халат.
– Вы так говорите, потому что еще не видели его. Я жду вас в гостиной.
Когда он спустился по лестнице, облаченный в этот просторный наряд из белого ситца, с кружевцами на вороте и обшлагах, мы оба расхохотались. Он-то смеялся над своим нелепым видом, я же больше от смущения, ибо эта женская одежда, в силу контраста, подчеркивала его мужественный облик. Меня волновали его большие руки, длинные ноги.
– Могу ли я позвонить?
– Да, телефон вон там.
– Что мне сказать шоферу?
Удивившись тому, что он собирается говорить с шофером, а не с кем-то из родных, я не сразу поняла вопрос и ответила невпопад:
– Скажите, что ему будут здесь рады, а также угостят чаем.
Вильгельма одолел такой смех, что ему пришлось сесть на ступеньку лестницы. Я пришла в восторг оттого, что мои слова развеселили его, хотя и не понимала причины. Слегка успокоившись, он объяснил:
– Простите, мой вопрос означал совсем другое: какой адрес я должен назвать шоферу, чтобы он за мной приехал?
– Вилла „Цирцея“, дом два, улица Рододендронов, Остенде.
Стремясь взять реванш и доказать, что меня тоже хорошо воспитали, я оставила его у телефона и удалилась в кухню, где начала греметь посудой, чтобы он не думал, будто я подслушиваю его разговор, более того, даже стала что-то насвистывать под звон чайников, ложек и чашек.
– Вы готовите чай так звучно, что вам позавидовал бы симфонический оркестр.
Вздрогнув от неожиданности, я повернулась и обнаружила своего гостя на пороге кухни.
– Вы дозвонились родным? Успокоили их?
– Они и не думали волноваться.
Мы вернулись в гостиную с чайником и второй порцией бисквитов.
– Скажите, Эмма, а вы сами пишете?