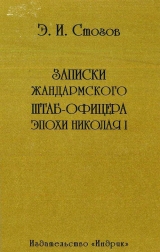
Текст книги "Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I"
Автор книги: Эразм Стогов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Дело весьма серьезное – стоять перед государем с князем Волконским. Я набросился на Дубельта, почему не предупредил меня, я взял бы с собою факты для опровержения. Дубельт смеется и говорит: «Ты и так отгрызешься, мы тебя знаем, камчадала». Им шутки, а меня не могло не тревожить: не равна борьба подполковника с вельможами! Помню, я такое чувствовал волнение, что не ложился спать, выпил 4 графина холодной воды, и к утру написал ответы.
[Донос в литературном отношении – был совершенство! Тут были вставлены будто бы оригинальные слова крестьян с недомолвками. Рассказы с улыбками откупщиков и купцов, уподобления и частые заключения князя Волконского к моему обвинению. В целом донос был моим обвинением, хотя голословным и до пресыщения наполненный бесстыдной ложью, но на то и литературная ловкость, чтобы белое показать черным. Память у меня и теперь еще не пропала, а тогда мне было нетрудно без документов опровергнуть. Я весь донос разделил на много коротких пунктов. Этим способом потерялась красота уподоблений и связь красноречия. Отвечая по пунктам, я решился быть резким и даже дерзким. Несколько раз напоминал князю, что я такой же, как и он, дворянин и что честью своей дорожу, думаю, больше, чем он дорожит своею честью. Несколько раз напоминал ему, как он, неосторожно говоря так голословно и оскорбительно о мне, что тем дает мне право отвечать оскорбительнее слов, сказанных им, но я удержусь, думаю, что грубая ложь – не доказательство. Досталось и Перовскому! Я решился идти на отчаянную – быть или не быть!
Помню заключение моего объяснения. Разбивши на всех пунктах донос, я обращаюсь с вопросом: «Скажите, князь, – был бунт удельных крестьян? Полагаю, вы должны ответить – был! А если был бунт, то были и причины к тому! Какие причины? Вы их знаете, князь – от князя Лобанова-Ростовского!»
Дубельт, прочитав, требовал, чтобы я написал вежливее, что так не пишут. Я отказался и стоял на том, что, кроме службы, я с Волконским на равных правах. На начинающего Бог!]
Государь изволил жить в Петергофе; долги показались мне часы ожидания. [Справедливый, нелицеприятный, настоящий русский царь изволил написать: ] «Теперь мне дело ясно, Стогов прав». Подполковник, эта мелкая инфузория перед недосягаемой светлостью – получил защиту! [Ежедневно молюсь за упокой души моего незабвенного царя!]
[Когда возвратился из Симбирска князь Лобанов-Ростовский и обвинил удельных, тогда Перовский подал в отставку, но просьба ему была возвращена. Теперь, прочитав резолюцию государя, Перовский подал опять просьбу в отставку. Государь на просьбе изволил написать: «Так мерзостей не поправляют», и просьба возвращена. Мое торжество полное!]
Бывают условия в жизни неизбежные; миновать, может быть, условия связей вельмож, обоюдных уступок – невозможно. Для этих связей, уступок мы, маленькие люди, делаемся необходимою жертвою.
Возвратясь, не успел я отдохнуть, получаю перевод в Саратов. Меня не перевод оскорбил, а оскорбило невнимание, почему не спросили моего согласия, хотя из вежливости. Я подал прошение в отставку. Прошение возвращено, и Дубельт пишет: «Ты рогожку дерешь, граф не хочет и слышать о твоей отставке, приказал спросить: чего ты хочешь?» – Ничего, в Саратов не поеду, я вам не мальчик дался. Тогда высочайшим приказом назначен я в Киев к генерал-губернатору, управлять военною частию. Я – просьбу в отставку. Получаю просьбу обратно и письмо от графа, написанное бриллиантами; пишет, что родственник его, Бибиков, просит его выбрать из корпуса жандармов в помощь ему штаб-офицера. Гордясь такою честью для корпуса, шеф, просматривая список, (будто) всякий раз останавливался на моей фамилии; уверен, что это назначение разовьет мои способности и проч. – мастера писать! В заключение просит принять должность на один год и если не понравится, то корпус жандармов за мою службу считает долгом предоставить мне избрать место по желанию.
Я очень хорошо понимал, что удельным необходимо нужно было отделаться от меня, житья им не было; Перовскому выговоры не нравились, и я – жертва проделки Перовского чрез князя Волконского.
После такого письма я согласился ехать в Киев, но с тем, чтобы утвердили мне две тысячи столовых и дали бы две тысячи на подъем – и то и другое исполнили с первою почтою.
Я закончил мою службу в жандармах предсказанием, что в Симбирской губернии, по деревням, если не будет бунта, то выразится неудовольствие поджогами; чтобы приняли заранее меры – озлобление очень велико.
Через Киев проезжал чиновник III-го отделения и передал мне, что когда начались поджоги в Симбирской губернии по деревням и когда бросили в огонь исправника и еще кого-то, тогда в III-м отделении вспомнили обо мне, а архивариус принес мое последнее сказание. Пророчество мое поскорей спрятали.
Из 40-летней моей службы 15 лет в Киеве была самая неприятная служба. Я пользовался большою властию в трех губерниях. Государь поручал мне дела лично, помимо генерал-губернатора, всегда милостиво разговаривал со мною. Последний раз, в 1850 году, на вопрос мой о здоровье, [государь][244]244
В публикации 1878 г.: «император Николай Павлович».
[Закрыть] изволил спросить:
– А ты, старый драбант (я был уже седой), все еще служишь?
– Устарел, ваше величество, хочу в отставку.
– Погоди, вместе пойдем.
Отчего неприятна и грустна была служба в Киеве? [Теперь рано еще говорить. Оставлю записку, напечатает будущая «Старина».]
Приложения
I. Женитьба Э. И. Стогова. Полюбовное размежевание
Если обратиться к переходу моему в жандармы, то одною из важных причин было мое желание жениться. Сделавшись членом симбирского общества и чувствуя себя хорошо и твердо стоящим, я, хотя и плясал, но не забывал искать невесты. Симбирск отличается хорошими личиками барышень. Войск в Симбирской губернии никогда не было никаких, молодежь большею частию на службе, невест хоть лопатой греби. В самом городе составленный мною список показал 126 невест великодушных, т. е. имеющих приданого более 100 душ; за малым исключением, я мог жениться на любой. Жениться – надобно поразмыслить, а как стал размышлять: та – не нравится, другая – имеет дурных братьев, третья – имеет родителей, которых уважать не могу, и т. д. Нет мне невесты в городе. Была мне другом Марья Петровна Прожек, урожденная Белякова; она постоянно советовала мне жениться. Я решился собрать сведения о девицах по деревням. Нашелся чудак, ни с кем не знакомый, в Симбирске не бывал, поручик артиллерии в отставке; у него жена, три сына и две дочери-невесты, чудак – никому в жизни не поклонился. Загряжский пробовал было потребовать его в город, он отвечал, я не мальчик разъезжать, что нужно губернатору, то пусть пишет, я грамотный, и не поехал. Чудак, но ни одно сословие не сказало о нем дурного слова: купцы говорили – честный барин, помещики – чудак, но честный; мужики – называли отцом родным, чиновники – боялись затронуть его; богатые называли его скупцом, бедные – благодетелем. Любви к нему не выражалось, но и не ходило о нем ни одного анекдота. Чудак этот был Егор Николаевич Мотовилов. О дочерях – ничего нельзя было узнать, их никто не видал, но городовые и горничные говорили, что старшую больно хвалят, дворня вся любит ее. На других деревенских семействах незачем было останавливаться. Однажды высказал мое любопытство Марии Петровне; она хохотала, говорила, что она соседка в 20-ти верстах, но не знакома, потому что никто не знаком. Я просил ее съездить и посмотреть, не годится ли мне старшая дочь. Мария Петровна поехала и на другой день писала: «Если судьба назначила тебе иметь жену, то такому тирану нет другой жены, как бедная, кроткая Анюта!»[245]245
Имеется в виду А. Е. Стогова.
[Закрыть] На другой день я был в Цильне – это верст 60 от Симбирска.
Приехал я часу в 5-м после обеда. Дом небольшой, деревенский, прост даже для очень небогатого помещика; внутри дома еще проще, стены не оклеены, не окрашены, мебель самая простая, домодельная, обтянутая кожею и жесткая, как камень. В зале, у стены кровать, на которой лежал пожилой человек, посреди комнаты небольшой стол, у которого сидела благообразная старушка и поп. Я отрекомендовался, говоря, что еду на следствие, но заехал напиться чаю. Больной старик встал и сказал, что он поручик Мотовилов, а старушка – жена его. На старике тулупчик и брюки были разорваны. Никакой церемонии, при встрече со мною никакой суеты не было. Старик сел на кровать и молчал, зато я говорил, как шарманка. Лакей, тут же в зале, начал готовить чай, и он же разливал. Коснулся я хозяйства и насилу вызвал старика на кой-какой ответ, он говорил неохотно и как-то странно.
– Да, бацка, наше дело хозяйничать, а ваше служить, каждому до своих дел.
Вошли две девицы.
– Это две мои дочери, – сказал старик, – вот старшая Анюта, эта младшая Александра.
Девочки в корсетах, в ситцевых поношенных платьях, молча сели. Надобно знать, что владею способностью по голосу женщины, не видавши ее, заключить об ее характере и почти безошибочно. Не обращая внимания на девиц и поддерживая кое-как разговор со стариком, я хотел слышать голос старшей. Сестры были так непохожи между собою, будто разного семейства: старшая – блондинка, круглого лица, младшая – брюнетка с продолговатым лицом. За чаем что-то девицы отвечали матери; мне было довольно, чтобы заключить все хорошее о старшей.
Наступила темная октябрьская ночь, надобно было ночевать, старик без церемонии сказал:
– А вы ночуйте за рекой, там живет мой брат, да его нет дома, я прикажу вас проводить.
Из всего я увидел, что старик независимый и даже гордый человек. Уехал я ночевать к другому Мотовилову, меня там приняли очень вежливо. Прощаясь со стариком, я напросился на утренний чай. Этот чудак старик имел более 1000 душ, отлично устроенных и незаложенных. В 5 часов меня разбудили и звали пить чай к старику. Я нашел все семейство в той же комнате, дочерей в корсетах и причесанных, а старика, сидевшего около стола у окна, в том же костюме. Я уселся по другую сторону стола. Мимо окна прогоняли превосходных лошадей, коров, мериносов, и старик, указывая на стада, рассказывал мне о своем хозяйстве.
– Да, бацка, – сказал он, вздохнув, – слава Богу, все хорошо, только не дает Бог здоровья. Я знаю, что долго не проживу, старуха скоро отправится за мною, сыновья у меня отделены, вот только не подумал я о дочерях, их жалко оставить, – без родителей им будет трудно жить.
– Кто жил для детей, – сказал я, – тот исполнил святую обязанность, и Бог не оставляет такие семейства. Впрочем, что же вам беспокоиться: дочери ваши пользуются прекрасною репутациею, никто не скажет о них ничего, кроме хорошего.
– Все оно так, – отвечал старик, – может быть, вы говорите и правду, но ныне времена тяжелые, одним молодым девицам жить трудно, есть у меня сын женатый, да сестры мужа не жилицы при невестке. Вот как подумаю о дочерях, так мне и жалко их.
– Я не понимаю, Егор Николаич, почему так тревожно положение ваших дочерей, отдайте за меня старшую. Мы все смертны; если Богу угодно, то я вас похороню, тогда младшая будет жить у сестры, а со временем и ее судьба устроится.
Старик серьезно посмотрел на меня и, сделав сердитые глаза, сказал:
– Шутить так неприлично, вам не дано повода к тому.
– Ни ваше положение, ни мое звание, – сказал я, – не дают мне права шутить. Я не из тех людей, чтобы дозволить себе подобную шутку, скажу прямо, я нарочно к вам приехал, чтобы просить руку вашей старшей дочери, и повторяю мою просьбу.
– Да вы не могли знать моей дочери?
– Извините, я жандарм, я обязан знать все и знаю.
– Но я должен вам сказать, что мы вас не знаем.
– Вот это правда: предоставляю вам узнать о мне, а я вам доложу, что я превосходный человек во всех отношениях, и вы не найдете недостатков во мне.
– Ну, бацка, аржаная каша сама себя хвалит, – и старик рассмеялся, что мне и нужно было.
– Ну, так как же, Егор Николаич, какой ваш будет ответ?
– Послушайте, бацка, нам надобно подумать да узнать, что вы за человек.
– Вот и это можно; только если я имею не много ума, то я надую вас отлично, лучше верьте, что я прекрасный человек.
– Правда, нынешний народ хитер, трудно узнать человека, но все же надобно подумать и узнать.
– Итак, прощайте, я еду обратно в Симбирск, а вам хочу сказать: как родители, можете располагать рукою дочери и если откажете, то я, может быть, более буду уважать вас, этому верьте.
Перед отъездом я спросил, когда получу ответ. Старик обещал прислать.
В Симбирске никто и предполагать не мог о моем намерении.
Через четыре дня является ко мне лакей Мотовиловых, Тит.
– Что скажешь? – спросил я.
– Егор Николаевич и Прасковья Федосеевна приказали кланяться и просить вас пожаловать к ним в Цильну.
– Более ничего?
– Ничего-с.
– Ступай.
Это было рано утром, почтовые лошади, тарантас, и я опять к чаю в Цильне. Тот же час, в той же комнате, те же лица (кроме попа) и так же одеты, тот же лакей делал чай. Говорил опять только я почти один. Прошло два часа, старик ни слова не говорит о своем согласии или отказе. Не любя проволочки в делах, я сам начал:
– Егор Николаич, если вы припомните, я просил руки вашей старшей дочери; вы за мной прислали, вот уже два часа я здесь, но не слышу вашего слова.
– Мы с Прасковьей Федосеевной думали, старались узнать о вас, да ведь один Бог вас узнает. Но вот, видите ли, вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит, но вас все хвалят, видно, и вправду вы хороший человек, а если так, то Бог вас благословит.
Я подошел к старику, поцеловал его руку и уверял его, что я такой хороший человек, что чем более меня узнает, тем более полюбит. Старик смеялся.
– А ты, бацка, все-таки себя хвалишь, – говорил он.
– Да кто же меня похвалит, если я сам не скажу о себе правды.
После этого я подошел к старухе и просил ее дать свое согласие. У этой добродетельнейшей из женщин и лучшей из матерей показались слезы на глазах.
– Мы вас не знаем, – сказала она взволнованным голосом, – я никогда не решилась бы отдать дочь неизвестному человеку, но 40 лет говоря моему мужу «да», всегда видела в том добро, не хочу и теперь сказать «нет», надеясь на Бога, что дочь моя будет счастлива.
– Пожалуйте вашу руку и позвольте назвать вас матерью. А что ваша дочь будет счастлива, в том не сомневайтесь, во-первых, потому, что я превосходный человек, а во-вторых, потому, что я сам хочу быть счастливым, а без счастия жены нет счастия для мужа. Будьте уверены, что вы полюбите меня не менее своих родных детей.
Старуха усмехнулась.
– Ну, батюшка, – сказала она, – хвалить-то себя ты мастер.
Потом подошел я к невесте.
– С родителями вашими уладил, – сказал я, – остается дело за вами.
– Я вас совсем не знаю, – отвечала она.
– Да где же вам и знать; не только молоденькую вас, но я и ваших родителей сумею обмануть. Не в том дело, а вот в чем: я до сих пор был один из счастливейших людей, хочу жениться не для того, чтобы быть несчастливым; счастие состоит в согласии супругов, а это не всегда от них зависит. Вы слабые создания, а мы – сила; для уравнения Бог дал вам то, чего мы не имеем – женщина наделена от Бога особым чувством – инстинкта. Ни с того, ни с сего девушке не нравится в мужчине: голос, походка, манера – это называется антипатией; но мужчина, не красивый собою, привлекает внимание девушки каждым своим движением и ей нравится; это называется симпатия. Я глубоко верую в эти чувства. Мы друг в друга не влюблены, то можем рассудить хладнокровно. Нам не с стариками жить, если в вас есть ко мне малейшее чувство антипатии, заклинаю вас – скажите откровенно, потому что чувство антипатии я не волен изменить, тогда я буду несчастлив, и все несчастие падет на вас бедную. Вот, пожалуйста, посмотрите, я буду ходить, голос мой вы слышали, наружность видите, подумайте и скажите, нет ли во мне чего-нибудь противного?
И я начал ходить по комнате; старики молчали.
– Скажите, заклинаю вас, – спрашиваю я, остановившись перед невестою, – нет ли во мне чего-нибудь противного?
– Нет, – отвечает она.
– В таком случае пойдемте к образу, перекреститесь.
И только она перекрестилась, как я быстро поцеловал ее и сказал: теперь и с вами кончено, теперь вы моя невеста. Ночевал я опять за рекой, поутру в 5 часов пил чай и был уже не чужой в семье. Старик был болен, и я упросил его переехать ко мне в город. Он согласился. Это был такой человек, что, сказавши раз «да», слова своего не переменит, а сказавши «нет», тоже не изменит до смерти.
После я узнал, что этот по наружности чудак был замечательно умный и даже начитанный, но гордый и самостоятельный.
В городе никому и на ум не приходило, что я жених. Скоро старик переехал ко мне, и это обратило общее внимание. Пошли толки по всему Симбирску; предположений, пересудов, догадок и не сосчитать, а я никому ни одного слова. Странное отношение мое было с обществом, я был знаком со всем городом, бывал в семействах по-старому, спросить меня совестились, а я молчал. Раз идя по улице, встречаю своего корпусного товарища – Андрюшу Сомова. Он очень давно оставил флот, был в комиссариате и теперь в отставке. Он был помещик Саратовской губернии, жене его принадлежало 50 душ. Он приехал в Симбирск продать их, нашел плохого покупщика и просил меня помочь ему в этом деле.
– Каково это имение? – спросил я будущего тестя.
Старик знал все имения и сказал: «Очень хорошо». Я рассказал старику о желании Сомова продать, а что я хочу его купить.
– На что тебе? – спросил старик.
– Да вот видите ли, есть такой обычай дарить невесту: шалями, бриллиантами и проч. По-моему, это деньги пропащие, только хвастовство, а я хочу подарить моей невесте – деревню, это будет громко; но когда женюсь, то мой подарок придет к моим рукам без убытка.
– А как ты подаришь деревню невесте, а мы тебе откажем? – сказал старик.
– Тогда скажу, слава Богу, что я развязался с подлецами; потеря денег еще не важное дело, наживу вновь.
Старик рассмеялся и сказал:
– Видно, тебя голой рукой не возьмешь, ты порядочный плут; видно, ты знаешь, когда старик сказал «да», то никто этого не переменит. Бог тебя благословит, покупай, о подарках рассуждаешь умно. Что просят за имение?
– Шестьдесят тысяч рублей.
– Покупай, не торгуйся, имение, купленное дорого, выгоднее проданного, вот на продажу нет тебе моего благословения.
Чрез полчаса с Сомовым было дело кончено.
Я должен рассказать о положении детей Мотовилова. У него было три сына, старший Николай кончил курс в университете. Отец, презирая гражданскую службу, велел сыну поступить в военную; он скоро сделался старшим адъютантом в дивизии генерал-лейтенанта Дувинга[246]246
Вероятно, имеется в виду Александр Андреевич Дувинг. Рассказ Стогова относится к 1830-м гг. В «Списке генералитету по старшинству на 1834 год» (СПб., 1835) упоминается единственный генерал с такой фамилией.
[Закрыть], который был немец, но женат на русской – Обручевой. У них было много детей, но все были в институтах и корпусах на казенном содержании, а дома была одна дочь Анна. Николай Мотовилов влюбился в дочь генерала; родители Анны были согласны, но отец Николая не давал согласия на том основании, что ненавидел немцев. Николай не ослушался отца, но три года просил позволения жениться. Наконец, мать Николая в добрый час упросила мужа, тот согласился, но с условием – не видать Дувингов.
Прошел год, у Николая родился сын Георгий. Семейному сыну надо помогать. Старик Мотовилов приказал сыну выйти в отставку, что Николай и исполнил. Приехал он с женою в Цильну, старик принял сына и невестку ласково и, хотя дом в Цильне тесен, но поместились. Жена Николая, любящая опрятность, по два и по три раза в день купала крошку сына. Это старику надоело.
Он отправился к помещику Бабкину и предложил ему продать свое имение Скорлятку, в котором считалось 100 душ, с условием продать все, что есть. Бабкину предлагалось надеть только шинель и шапку и выехать из имения. Не только белье, но одежду и все запасы: чая, сахара, кофе, часы в доме, серебро, посуду – все оставить покупателю. Бабкин запросил 80 000 рублей; старик не торговался и заплатил. Приехав домой с купчею, старик Мотовилов вручил ее сыну Николаю и дал ему еще 5000 рублей на первые потребности, а невестке ласково и шутя сказал:
– Ну, матушка, будешь довольна, там воды сколько хочешь, можешь купать своего сына.
Между прочим, покупка имения Воецкого у Сомова состоялась, у меня недоставало 10 000 рублей, но я знал, что 10 000 рублей мои деньги лежат в банке и билет хранится у отца; пока я написал к отцу о билете и просил благословения на брак, старик дал мне 10 000 р. на вексель и все дразнил меня, что он поступит со мною, как с должником, строго. Видимо, старик хотел подарить эти деньги. Для совершения купчей на имя Анюты потребовалось ее присутствие в Симбирске. В то время казалось неприличным ехать невесте в дом жениха и жить там, но старик приказал, мать и дочь прожили у меня три дня. Старик становился плох, того и гляди скончается, тогда траур и свадьба затянулась бы. Доктора по просьбе моей, можно сказать, искусственно тянули жизнь старика: ему постоянно делали ванны из бульона с вином, давали сильные возбуждающие средства внутрь.
Наконец, возвратился курьер с дозволением на брак. Я в тот же день поскакал в Цильну, посаженой матерью[247]247
По народному обычаю женщина, заменяющая на свадьбе мать.
[Закрыть] моею была мой друг, Марья Петровна, а отцом я схватил в Симбирске отставного лейтенанта, старика Бестужева, шафером – отставного прапорщика Мякишева. Со стороны Анюты был посаженый отец дядя Ахматов, а шаферами братья. Старик благословил меня. На другой день свадьба была совершена без гостей и без шампанского; мне стоила она 15 руб[лей] ассигнациями].
Я не говорил ни слова в городе, что я женат; все ожидали моего объявления и приличных праздников, но ничего подобного не было. Анюта слышала прежде, что молодая обязана делать визиты знакомым мужа и своим. Я видел, что она неохотно собирается делать визиты, но на вопрос мой ответила, что исполнит все, что должно, хотя это ей неприятно.
– Так зачем же, мой друг, – сказал я, – делать неприятное?
– Да говорят, что это должно, – отвечала она.
– Послушай, Анюта, однажды навсегда: мы поженились для себя, а не для других, то и должно делать только то, что нам приятно. Визиты – это требование чужих нам людей, – тебе не хочется, ну, и не делай, поедешь тогда, когда захочешь и к кому захочешь, вот мой сказ.
Анюта радостно спросила:
– А если я ни к кому не поеду, вы сердиться не будете?
– Сердиться ни на что не буду и говорю тебе просто: делай, что тебе хочется, и все будет хорошо.
Для скромной Анюты это был праздник; она казалась совершенно счастливою. Однажды я спросил ее: любит ли она меня?
– Как это странно, – отвечала она, – чтобы я могла любить чужого человека; но я уважаю вас, уважаю ваши правила и характер, а, право, любить не могу.
– Как же ты решилась идти замуж за меня, не любя?
– Я повиновалась родителям, но очень боялась вас и думала: послушаюсь родителей и скоро умру.
Спустя месяца два-три я снова спросил Анюту, любит ли она меня? Она отвечала, что любит, но, конечно, не столько, как своих братьев, ведь я чужой, а братья – родные, и, ласкаясь, говорила, что, вероятно, я так буду справедлив, что никогда не потребую, чтобы она любила меня столько же, сколько братьев. Я находил все это разумным, справедливым и естественным. Анюта была очень умна от природы, училась кой-чему и даже хорошо, но в своей затворнической жизни совершенно была чужда жизни практической. Это воспитание должен был дополнить я.
Между тем с Кавказа приехал в годовой отпуск капитан Гельмерт. Так как в Симбирске я был старший, то все военные приезжие являлись ко мне. После смерти моей тещи через три месяца приносит ко мне денщик Гельмерта письмо от него. Как я ни бился, серьезно говоря, всего разобрать не мог, однако понял, что он просит руки Саши, сестры Анюты. Я сказал денщику, чтобы он просил барина ко мне, что письма его прочитать не могу. На другой день утром явился Гельмерт, а я между прочим собрал о нем кой-какие сведения и все в пользу его. Посадив его, я спросил, что ему угодно? Он долго мялся, конфузился, наконец высказал свое желание жениться на Саше. Я поблагодарил, но весьма серьезно сказал:
– Мы – военные, и открывать между нам вещь обыкновенная. Я честный человек и на честное ваше предложение сочту грехом не сказать вам правды; но дайте мне честное слово, что кроме нас никто о том не узнает. Моя сестра Саша может нравиться – в этом я не сомневаюсь, но, узнав ее недостатки, благоразумие указывает удалиться от нее, она имеет несчастие употреблять вина весьма неумеренно, и страсть эта усиливается. Вы теперь знаете, от какой беды охраняет вас моя искренность, но надеюсь, что все это останется между нами. Прощайте, невест много, желаю вам счастия.
Бедный Гельмерт откланялся.
Я Сашу очень любил, она вполне была добрая, кроткая и невинная сердцем девочка, тоже была привязана ко мне, часто говорила, что любит меня более всех своих братьев. Я дал слово покойникам устроить ее судьбу. Собирая подробные сведения о Гельмерте, я узнал, что это был простой, но совершенно добрый человек. Он был сын доктора, служил долго на Кавказе, имел много крестов и персидские на шее – льва и солнца. Где он видел Сашу, я не знал, а видела ли она Гельмерта? Скорее нет. После свидания я ни слова не сказал о предложении его, даже Анюте. Через неделю приходит он опять с предложением и признался, что он много думал, не спал ночи, молился, но не может найти покоя, – все видит Александру Егоровну.
– Если судьба назначила мне, – говорит он, – погибнуть в этой женитьбе, то все равно, погибну и не женившись.
Я продолжал дурачиться, уверяя его, что он ищет беды. Он не красно говорил, но видимо страдал, и текли слезы по бледным щекам, так он похудел.
– Где вы могли видеть мою сестру?
– В церкви.
– Говорили с ней?
– Никогда, ни слова.
– Знает ли она вас?
– Полагаю, нет.
– Послушайте меня, не делайте глупости, успокойтесь и уезжайте на Кавказ, но, впрочем, для удостоверения вашего, я вас обманываю, приходите сегодня обедать в 2 часа.
Я тихонько сказал Анюте и просил ее до времени не говорить сестре. Перед обедом я сказал Саше, что у нас будет обедать нужный мне человек, и просил ее почаще наливать ему вина. Явился Гельмерт, расфранченный по-армейски, от каждой части тела пахло разными духами. За обедом только подмигну Саше, она за бутылку, а я, как будто боясь, чтобы она не налила себе, бутылку отнимал и передавал гостю, а ему подмигивал, давая знать, вишь как хватается за бутылку. Так повторилось раз шесть за обедом. По выходе из-за стола я успел шепнуть гостю:
– Видели, какая страсть у девушки, сколько мне заботы, чтобы при чужих не напивалась.
Гельмерт только вздыхал. Уселись в гостиной пить кофе, я шепнул Анюте, чтобы она незаметно вышла, а сам пошел за трубкой, но вместо того подсмотрел в притворенную дверь. Смотрю, мой капитан подъехал к Саше, что-то тихо говорит, и он, злодей, уже два раза поцеловал руку. Дал я им время болтать и при третьем поцелуе руки быстро растворил дверь и сердитым голосом крикнул:
– Это что значит? Что за интимные объяснения? Г[осподин] капитан, извольте сказать, что вы шептались с моей сестрой?
Смешался бедный, заикаясь и труся, признался, что просил ее руки.
– Ну, а ты, сударыня, бесстыдница, что ему отвечала?
– Я, братец, сказала, что если вы согласны, то и я буду согласна.
Входит Анюта, я рассказал о бесстыдстве Саши и спросил у Анюты, что она об этом думает? Анюта отвечала: если Саша желает быть женою Федора Федорыча, он ей нравится, тогда нам препятствовать не должно.
Я расхохотался и сказал:
– Сколько я ни старался вас поссорить и развести, но, видно, назначил Бог соединиться вам; ну, вы жених, а ты невеста, извольте целоваться.
Капитан расцвел, целует руки и болтает. Оказалось, что они несколько раз виделись в монастырской церкви, но не говорили ни слова. Саша после мне призналась, что она очень любила смотреть на него. Братьев на этот раз не было ни одного, траура мы никто не носили, откладывать свадьбу причин не было. Свадьба была такая же скромная, как моя. Как опекун, я сдал Гельмерту деньги Саши и имение. Впоследствии Гельмерт вышел золотой человек и сделал Сашу совершенно счастливою. Он считается честнейшим человеком в своем уезде, об этом мне говорил губернатор в 1848 году.
Между тем, я получил предписание, что по многим неисправностям в Саратовской губернии я перевожусь в Саратов. Я понял, что это была интрига Перовского, не возлюбившего меня после бунта удельных крестьян. Я в ту же минуту написал об отставке и послал к графу, а Дубельту написал: «Вам не угодно было спросить меня, желаю ли я в Саратов, а я доложу вам, что я не мальчик и не желаю быть игрушкой. Не нужен и не годен я в Симбирске, то увольте меня из службы, а в Саратов я не поеду».
Дубельт отвечал: «Горячка Иваныч, граф посылает тебя в Саратов, как лучшего своего помощника, этого желал государь. Ты, Горячка Иваныч, не хочешь – оставайся в Симбирске и уничтожь свою просьбу, которую граф не принял». Опять моя взяла. В то время Бибиков был назначен киевским генерал-губернатором. Он считался родней гр[афу] Бенкендорфу и вот какой: старший брат Бибикова, Николай, умер бездетен, на вдове его женился гр[аф] Бенкендорф, тоже скоро овдовел, не имея детей. Кажется, нет родства, но считались родными. Бибиков обратился к Бенкендорфу с просьбою выбрать из своего корпуса штаб-офицера, способного занять должность правителя канцелярии. На этот раз опять пало на меня. Прописывая просьбу Бибикова, делающую честь корпусу, граф писал: «Желая исполнить просьбу Бибикова и просматривая несколько раз список штаб-офицеров корпуса, я всякий раз останавливался на вашей фамилии. Зная ваши способности, уверен, что в новой должности разовьется ваша деятельность»; к этому он прибавлял: «Корпус жандармов столько обязан вам, что если не понравится вам новая обязанность, то, по прошествии года, предоставляется вам занять место в корпусе по вашему выбору». Отказаться было неприлично. Я изъявил согласие, написал письмо и закончил его так: «В Киеве столовых 1000 р. Я не приму этой должности без 2000 р. и прошу дать мне на переезд 2000 р.». С первою же почтою все было исполнено, и мне не оставалось ничего делать, как поехать в Киев.
Прощай, мой милый Симбирск, прощай, моя вторая родина. Симбирск много дал мне счастливых дней, дал мне милую и ангела душою жену. Прощай, моя лихая деятельность. Я был на своем месте и по способностям, и по характеру. Я был любим всем обществом, не делал зла, [я] прекращал злоупотребления тихо, без шуму и старался исправлять, а не губить.
После родной моей службы во флоте служба в Симбирске была мне по душе, по сердцу и по уму. Успехи служебные в Симбирске меня радовали, а успехов было много. Я много имел успехов в Киеве, но уже не радовался; поэзия моя осталась в Симбирске и не посетила меня.







