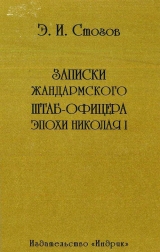
Текст книги "Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I"
Автор книги: Эразм Стогов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Здесь, кстати, похвастаю (но право, не хвастаю) – несколько представлений я изорвал, а ордена, какие имею, получил тогда, когда начальник хотел досадить мне. Когда-нибудь расскажу, это был не секрет.]
Проводил я князя до границы губернии, и не дала мне судьба повидаться с ним; был я в переписке с князем, хотя редко.
[После рассказывал мне Дубельт, что князь много хлопотал о моем кредите в Корпусе жандармов.]
Пока я хлопотал с лашманами, неудовольствие росло против Жиркевича. Один Жиркевич не замечал того, и это потому, что он не сознавал своей вины к обществу, он не мог быть другим, каким он был. Я продолжал писать, воздавая хвалу честному его трудолюбию, безукоризненной нравственности, высоким служебным достоинствам, но вредным для Симбирска. Любить Жиркевича трудно, но не уважать нельзя.
Получено известие, что государь посетит Симбирск. Не описывать же мне, как готовился город к приезду государя: суета, хлопоты, белят, метут – всегда и везде один порядок. Разве расскажу весьма важный случай удивительной находчивости частного пристава. В Симбирске жили две старые девицы, сестры Ивана Ивановича Дмитриева, поэта и министра. К этим старухам и приступа не было для полиции; на всякое требование полиции – один ответ: «Да что ты, батюшка, никак с ума сошел; разве не знаешь, что у меня брат министр!» Полиция ретировалась. Деревянный дом на Покровской улице, чуть ли не ровесник Симбирску, девственно существовал со своего создания; улица – одна из главных, на пути проезда государя, полиция претендовала побелить дом. Частный пристав[220]220
Частный пристав – чиновник, возглавлявший одну из территориальных полицейских единиц – «частей», на которые с конца XVIII в. делился город.
[Закрыть] лично предъявлял требование и встретил неопровержимый аргумент: «Мой брат министр». Частный пристав хотя и был ошеломлен, но важность обстоятельств выжала его находчивость; он, подумавши, отвечал:
– Оно, конечно, у вас братец министр, я и уважаю, но и у меня дяденька царь Соломон[221]221
Соломон – царь Иудейско-Израильского царства в XX в. до н. э., которому библейская традиция приписывает авторство нескольких произведений, вошедших в Ветхий Завет.
[Закрыть], а потому побелить извольте.
Этим доводом так озадачились старухи, что покорились и выбелили дом.
Коснувшись почтенных старух, каюсь в своем плутовстве. У этих старушек-девиц воспитывалось по племяннице, девицы прехорошенькие и уже в возрасте невест. Старухи страстно любили своих красавиц, не надышатся на них, утеха остальных дней старух, жизнь которых была с красивою юностью; о замужестве племянниц не могло быть и в помышлении, девицы жили в очаровательных замках, знакомых старухи не имели, потому что – брат министр. В нашем маловерующем и развратном веке побеждают и Черномора и Бабу-Ягу. Приехали в отпуск два гусара (ох, эти гусары!); говорят, будто девицы и не видали гусар, а племянницы ушли от милых и дорогих тетенек с незнакомыми, ушли в один претемный вечер. Объяснить этот непонятный казус для всех была задача, но я легко и здраво разрешил колдовством. Хотя я знал, где венчались гусары, но когда сестры министра потребовали поймать преступных гусар, я рассвирепел. Да, помилуйте: я начальник нравственной полиции и в моем присутствии смеют совершать такие скандалы. Я немедля разделил команду на два отряда и на попонках послал по двум дорогам (шагом, вместо проездки), с приказанием привести живых или мертвых – вот как строго! А колдуны-то венчались возле дома, в церкви Покрова. Что делать, сплутовал и признаюсь. Сестры министра в справедливом гневе отказали в наследстве преступным племянницам и не пускали на глаза, грозно сердились целую неделю. С шалунами-гусарами совершилась метаморфоза: шалуны превратились в благородных, добрых помещиков и в уважаемых членов общества. [Говорят, за признание – половина прощения, надеюсь!]
За три дня до приезда государя народ из далеких деревень: татары, чуваши, мордва, русские на четыре версты заняли почтовую дорогу по обеим сторонам, тут и ночевали.
Государь приехал перед сумерками[222]222
В «Записках» Жиркевича отмечено, что император приехал в Симбирск 22 августа 1836 г.
[Закрыть], занял дом губернатора. [Граф Бенкендорф при встрече со мною обнял меня, называл по фамилии, назвал меня лучшим своим помощником и проч.] С приездом государя весь народ города и дороги наполнил большую площадь перед домом губернатора и около собора. Жандармы, полиция были спрятаны в соседних домах, но тишина и благонравие толпы были образцовые во все время. На другой день утром назначен прием.
Вот память мне изменила – в день приезда государя или перед тем получен приказ об увольнении Жиркевича? Не помню. О себе скажу, что я усердно готовился и хотел быть умным, голову наполнил статистикою губернии до точности, чуть я не мог отвечать, сколько в губернии тараканов; пути сообщения, торговля, промыслы – все как на ладони. Но вышло, что я оказался… вот увидите. Я знал, что мой шеф не щеголял памятью[223]223
Стогов пересказывает анекдот, имевший достаточно широкое распространение. Приводя этот случай в своих «Записках», известный поэт и государственный деятель кн. П. А. Вяземский относит его не к А. X. Бенкендорфу, а к его отцу – Христофору Ивановичу Бенкендорфу.
[Закрыть]; в мое время в Питере, делая визит французскому посланнику и не имея с собой карточки, приказал швейцару записать, а на вопрос: как прикажете? – граф забыл свою фамилию, да уже граф Орлов ехавши крикнул: «Бенкендорф!» Граф поскорее вернулся, твердя свою фамилию, и записался. Для представления я написал записочку своей фамилии и адъютанта. Граф благодарил. Дворян было столько, сколько могла вместить большая зала; дворяне помещались около стены с окнами, а служащие у противной стороны.
Государь вышел к дворянам и весело сказал:
– Ого, вижу, что я приехал в черноземную губернию, такой рост не везде встречается!
Нарочно или случайно, с головы ряда стояли человек 18 ростом выше государя. Представлять дворян должен был губернский предводитель. Мой друг, Бестужев, был в генеральском мундире. Лакей догадался список дворян положить в задний карман мундира. У моего друга так была развита некоторая часть тела, что при всем усилии руки предводителя не доставали кармана. Я с удовольствием готов был помочь страдательному положению друга, но сам стоял во фронте. Государь, улыбаясь, ожидал, а список так и остался в кармане. Жиркевич был в зале, как любитель, в виц-мундире. Я должен заметить, что Жиркевич был, против обыкновения, оживлен и был как дома. Видя страдательное и безвыходное положение губернского предводителя, Жиркевич подскочил и сказал государю:
– Я попробую представить вашему величеству.
Пошел по ряду, называя фамилии. Правда, он называл Ивана Петром, а Кузьму Степаном, но шел смело, не останавливаясь. Государь остановился перед бодрым стариком Петром Петровичем Бабкиным и сказал:
– Вашего мундира и я не знаю, скажите, какой это мундир?
– Вечной памяти матушки Екатерины, капитана Преображенского полка.
Государь поклонился и сказал:
– Славного вы роста.
– Я, государь, выше был, но осел.
– Как это?
– У меня обе ноги прострелены.
Государь с милостивою улыбкою поклонился.
Как попало Жиркевич кончил представление, а капризный список так и не явился на свет. Государь был очень милостив и весел; обратясь к дворянам, сказал:
– Господа, скажите, кто у вас был лучшим и любимым губернатором?
Все в один голос: «Жмакин!»
Государь обернулся к Бенкендорфу и сказал:
– Вот видишь, граф Александр, можно быть взяточником и любимым.
Государь подошел к нашей стороне, я стоял на фланге. Граф Бенкендорф, представляя меня, сказал:
– Жандармский штаб-офицер, в Симбирской губернии находящийся, (смотря на эполеты) подполковник… подполковник…
Вижу, что граф данную мною записку мнет в правой руке, но забыл и фамилию, и бумажку. Государь улыбнулся и милостиво сказал:
– Вы Стогов?
Я поклонился.
Государь изволил спросить:
– Сколько лет вы здесь служите?
Я был готов отвечать на самые трудные и сложные вопросы и, как камчадал, не предполагал, что государи так просто спрашивают; хорошо помню, первая цифра пролетела сквозь голову – 8, за ней 80, 800, никак не поймаю мысль, стою и молчу, чувствую – кровь приливает к голове, стою и молчу, как… умник. Государь очень милостиво, с его невыразимо привлекательной улыбкой тихо сказал:
– Ну, что ж вы молчите? Вы здесь служите три года, я помню вас и доволен вами, продолжайте служить.
Я только кланялся, но можно вообразить, как я был недоволен собою. При привычной находчивости моряка вдруг на меня нашел столбняк. Я бы объяснил причину, но боюсь быть еще глупее. Чиновников представлял Жиркевич; на левом фланге стояли удельные; государь не позволил представить их и сказал:
– Идите, я из вас – единицы – сделаю четыре нуля.
По окончании представлений государь, обращаясь к Жиркевичу, сказал: «Как тебе не идет статское платье», а к графу Адлербергу: «Надень на него военный мундир». Потом сказал Жиркевичу: «Я даю тебе славную губернию, Витебскую, там у меня лучшие два элемента: жиды и поляки, поляки и жиды».
Слушая это, я чувствовал себя награжденным.
После представления назначено быть в соборе. Граф Бенкендорф приказал мне очистить собор: «Государь не любит, чтобы очень много было».
Государя все хотели видеть; мужчины представлялись, понятно, дамы избрали для себя церковь. Очистить церковь, полную дам, выгнать сливки симбирской интеллигенции – дам, от покровительства которых зависит мое спокойствие, мое существование, моя сила, мой успех, мое счастие! Прогнавши дам, остается повеситься. Велят очистить церковь – пренеприятная задача, от которой – хоть в Волгу. Говоря о тесноте, выражаются: некуда упасть яблоку, а я уверяю, в церкви дамы, дамы и только дамы, да так плотно, что и булавке упасть некуда.
Насилу я пробрался в алтарь; там архиепископ с причтом[224]224
Имеется в виду Анатолий (Максимович) бывший Симбирским и Сызранским архиепископом в 1832–1842 гг.
[Закрыть] в облачении. Я как можно громче сказал:
– Владыко, государь не будет в соборе, он изволит слушать обедню у Николая (кажется, так, маленькая церковь близко дома губернатора).
Архиепископ сказал: «Ну, братия, так пойдем, собирайтесь, да не забудьте чего-нибудь».
Как услышали дамы мои слова, так и бросились из собора, чтобы захватить места у Николы. Я тихонько приказал архиерею остаться, церковь запереть и поставил трех часовых – не пускать, так и выпутался. После [много имел выгод] во время службы: пускал дам, оказывая дружеское покровительство.
После церкви – развод. Я очертил верно симбирский баталион. Корпусной Капцевич заранее присылал по ночам из разных баталионов для показа государю. Перед представлением я составил записку о ловкости Капцевича и подал шефу. Государь сделал смотр. Жандармы на лошадях и полиция едва сдерживали народ. Бенкендорф, Адлерберг, флигель-адъютанты, я – человек семь – стояли кучкою, в стороне, к середине площади. Кончив ученье, государь скомандовал:
– Рязанцы, орловцы, нижегородцы… вперед!
Вышли, молодец к молодцу.
Государь выбрал всех в гвардию, а окружному генерал-майору Мандрыке сказал: «Отправить всех на счет Капцевича, а с ним я рассчитаюсь». [Знакомый мне Мандрыка недоумевал, кто мог доложить, тогда как делалось секретно. Просил меня узнать.]
На другой день чрез Бенкендорфа дворяне просили расквартировать один корпус войск. Государь весело сказал:
– Вам женихов надо? Хорошо, подумаю.
На третий день сказал:
– Как ни рассчитывал, не могу, слишком далеко от границ.
Когда государь приказал подать экипаж, народ прорвал цепь и, придя в исступленный восторг, наполнил плотно пространство между государем и экипажем; нас так сдавили, что мы едва не задыхались; у ног Бенкендорфа разрешилась женщина. Бенкендорф, уже привычный к восторгам народа, но и тот испуганно сказал: «Да что же это будет, это сумасшествие». Я сказал: «Пока не сядет государь, ничего не поможет». Долго пробирался государь к экипажу и тот к государю; народ, действительно, как безумный, не помнил себя, молился на государя, ложился к ногам, но только государь сел в экипаж и поехал, мы остались одни. За экипажем все бежало; обгоняли и крестились, шапки, полушубки валялись на земле, восторг был невыразимый. Замечу, после многих я спрашивал, для чего все бешено бросились к государю по окончании смотра? Единогласно отвечали: все слышали, как государь крикнул: «Народ мой, ко мне!» – чего, конечно, не было.
Помню, один раз при выезде государя из дома какая-то женщина побежала перед лошадьми, платок с головы сняла, машет им и кричит ура! Вдруг споткнулась и упала почти под ноги лошадей и давай кричать караул. Бенкендорф бросился к кучеру и осадили лошадей. Государь очень смеялся. От «ура» до «караул» – один шаг.
Замечу, во все время пребывания государя я не видал ни одного пьяного.
Государь пробыл в Симбирске трое суток; дворяне не забудут милостивого и ласкового внимания государя. В городе остались памятники: прекрасный спуск к Волге, площадь около собора превратилась в гулянье с кустарниками и дорожками, но всего не рассказать и не припомню.
Государь уехал, помещики разъехались хозяйничать и охотиться, все затихло, одни удельные чувствовали себя нулем с минусом. Жиркевич с большим чувством простился со мною; не знаю, догадывался ли он, что я стоял за него горою, между нами не было слова. Как приехал он невидимкою, так незаметно и уехал.
Пока не приедет новый губернатор, я что-нибудь расскажу, а рассказов – без конца.
Симбирская губерния хлебная, нищих в Симбирске почти не было. Вдруг быстро стали наполняться улицы, церкви – нищими. Причин не было, урожаи обильные, а нищих все прибавляется. Одной старухе я часто подавал копейку, и однажды спросил:
– На что тебе, старая, деньги: вон котомка полна хлеба?
– Как же, мой родненький, нам без денег нельзя.
– Зачем?
– Как зачем? Как не заплачу, то либо выгонят, либо в тюрьму угожу.
– Что ты врешь, старая, грешишь: кто с тебя возьмет?
– Как кто возьмет, не заплати-ка я 40 копеек в неделю, то ты, батюшка, только бы и видал меня; не вру я, все платят, другие и больше меня.
– Кому же ты платишь, старая карга?
– Да вон тому полицмерскому, все платят и я плачу.
– Да вас много, он не упомнит.
– Какое не упомнит, на то у него книжка, там каждый на счету.
Это обратило мое внимание, я распорядился – украсть книжку у «полицмерского».
Новый полицмейстер, не помню фамилии, был ротмистр по кавалерии, по наружности щеголь. Книжка у меня в руках – прелюбопытная. Несколько сот нищих (сколько – забыл) записаны по именам, многие отмечены, чем искалечены, всякий по степени лет, калечества оценен еженедельной податью; были и такие, что платили 80 коп.: это без обеих ног. Аккуратность замечательная: кто не доплатил 3 копейки, отметка на поле: доплатить в такой-то день.
Я написал шефу, что обязанность всякого русского патриота выдвигать на пользу государства гения, могущего принести пользу государству. Случайно я открыл в симбирском полицмейстере удивительную финансовую способность, гениальную голову, могущую обогатить казну без отягощения общества. Описав всю проделку и приложив, как факт, книжку, просил покровительства ему и взять его из Симбирска, где гениальность его не может иметь полного развития.
Полицмейстер вытребован в Питер, улетучился, и далее не слыхал о нем. Вот и такие бывают артисты.
Саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал на охоту из Саратова в поле с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотою; так за зайцами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов остался зимовать в Симбирске. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт – быстро стал необходимым членом общества, познакомился и я с ним. Однажды Петр Иванович приходит ко мне. Весьма ловко, искренне и прилично объясняет, что он очень любит играть в карты, но ничего не любит делать тайно: пришел просить позволения играть. Я подумал: не позволю – будут играть скрытно, ловить их – низко, я согласился дозволить, но с условием: по окончании игры каждое утро сообщать мне, чем кончилась игра, и если я признаю, что нужно возвратить проигравшему, то исполнить, в чем и прошу дать мне честное слово. Богданов протянул руку и дал честное слово; я добавил, что если буду обманут раз, то условие прекращается. Богданов подтвердил. Кто будет играть? Он назвал 8 человек, людей богатых, молодых, независимых. Я не находил препятствия.
Однажды приходит утром и говорит: вчера Кроткий проиграл 30 тысяч. Кроткому было только 18 лет, сын богатых родителей, но не отделен; отец в больших связях в Питере, много наделает шума; как несовершеннолетнему, я просил деньги возвратить. В тот же вечер проиграли ему обратно. Обыграли ремонтера[225]225
Ремонтер – офицер, занимающийся закупкой лошадей, т. е. «ремонтом», восполнением убыли лошадей в войсках.
[Закрыть], тоже возвратили. Я видел пользу в дозволении. Игроки были молодежь, люди образованные, веселые, шалуны, необходимые в обществе.
На Троицу бывает большая ярмарка в Корсуне[226]226
Уездный город в Симбирской губернии.
[Закрыть], куда выводилось до двух тысяч заводских лошадей. Я – комендант ярмарки. Богданов с своею партиею игроков просят позволения покутить три дня. «Господа, могут быть жалобы, моя обязанность, мой долг быть справедливым и строгим». – «Ну, ручаемся чем угодно, жалоб не будет, мы не дети». – «Ну, смотрите, чтобы не было худо, кутите». Слышу, действительно кутят, но никто не жалуется; конечно, главную роль играли красавицы. На третью ночь меня будят: пожар! Ярмарка вся составлена из плетня, лавки крыты лубом и рогожами, вся ярмарка вспыхнет как порох. Бегу, и что же я нашел: кутилам недостало вина; француз, торгующий винами, запер магазин и лег спать. Кутилы поодаль дом обложили соломой, человек 100 поставили с водою кругом соломы, ночь была совершенно тиха; солому зажгли и отворили ставни у окон француза; тот, увидав пожар, торопился спасать и выкидывал ящики с вином, что и нужно было кутилам. Солома к приходу моему была потушена. Француз не жаловался, а я прекратил кутеж.
Один близкий мне человек, – не назову его, он еще здравствует, – страстно любил играть и проигрывал постоянно. Я взял слово с Богданова не играть с ним. Этот близкий мне человек гостил у меня. Я был в гостях; дают мне знать, что гость мой два раза приезжал за деньгами и подгулявши. Я отправился к Богданову; помню, он жил в Кирпичном переулке, отдельный новый дом в три окна. Сквозь ставни огня не видно и не слышно, суконные шторы, ворота на запоре. Тишина. Забор очень высок; я своему кучеру приказал нагнуться и с плеч прыгнул через забор. На дворе много саней, но ни одного кучера; я отпер ворота, а кучеру приказал стоять у крыльца. В прихожей куча шуб и никого. В зале, со стаканом шампанского, старый грешник, проигравшийся коновод; в боковой комнатке, с свечою и с книгою под мышкою, маклер. Старый грешник хотел сказать: «Полк…», я пригрозил. Вхожу в другую комнату, Богданов мечет банк, кругом стола человек шесть. Только увидал меня Богданов, задрожали руки и карты рассыпались; остальные господа нагнулись под стол и что-то ищут. Я только сказал: «Вы, Петр Иванович, нарушили свое слово», собрал со стола все деньги, засунул пьяненькому моему гостю в карман, взял его под руку и пошел с ним вон. В комнатах была страшная жара. Я рассчитывал на быстрый удар. Моя шуба была в санях, я моего гостя, без шапки, завернул в свою шубу. Богданов вышел с товарищами и на морозе опомнились: «Да позвольте, полковник, так нельзя». Пошел! Слышу, гонятся за мною с бубенчиками. Улицы глухие, без фонарей, я велел пустить в карьер до фонарей. Уложил гостя спать, а сам явился, где был в гостях. Никто и не заметил моего отсутствия.
На другой день, утром, является Богданов, бледный, сконфуженный. [Я закричал: «Дайте ему в зубы, чтобы дым пошел!»]
– Полковник, чем же это кончится?
– Что такое, мой друг?
– Да что, вы были вчера вечером?
– Это у Петра Антоновича Ахматова? Там играли в фанты.
– Я говорю не об Ахматове, а что вы были у нас.
– Милый друг, если ты не пьян, то вчера перепил и бредишь. Я от Ахматова не отлучался, засвидетельствует тебе все общество.
– Да помилуйте, мы не сумасшедшие. Я пришел спросить, чем вам угодно кончить?
– Что такое кончить, я не понимаю?
Долго я тарантил, дурачил его; когда он стал просить прощения и извинялся тем, что они два раза прогоняли того, с кем я не приказал играть, но он побожился, что вы дозволили ему играть. Тогда я объяснил Богданову, что никто не должен знать, что я был у них, в противном случае я обязан исполнить свой долг, а вы знаете какой?
– Знаем, в тюрьму, но на этот раз простите.
– Охотно прощаю, но кажется, я захватил деньги? (тысячи две).
– Что о деньгах, мы ему еще бы вдвое дали, только бы он не приходил к нам.
– Ну, Петр Иванович, на этот раз дело кончено, будьте осторожны.
– Полковник, я почитаю и все любим вас, умоляю, не приезжайте так неожиданно и одни; впрочем, мы приняли меры.
– Какие меры ни принимайте, но нарушите условие – я буду у вас.
– Не советую и умоляю: не являйтесь одни, как вчера.
– Это почему?
– Нам исход один, мы за себя не отвечаем.
– Ха, ха, ха, что вы говорите, а у кого вчера le main[227]227
Рука (франц.).
[Закрыть] дроже и рассыпались карты? А что такое господа искали под столом? Вы все струсили.
– Клянусь вам, полковник, мы гнались вчера за вами, решившись на крайнюю меру.
– Все вы врете, вы видели меня без сабли, а не видали двух двуствольных пистолетов, спрятанных в карманах, да у кучера ножик в аршин (все я соврал). Куда вам!
Я простил, и игроки более не нарушали моего условия. Богданов после был губернским предводителем в Саратове; он сам рассказывал мне, что за соло в кадрили мать давала ему 10 тысяч; у старухи был большой кованый сундук, полный денег. Недавно я получил письмо из Саратова, что уже лет десять, как Богданов умер, проигравшись. Обыкновенная доля игроков!
[Как видите, рассказов без конца, прошу заметить: я не вывел на сцену ни одной дамы. Впрочем, симбирские дамы тогда, как, вероятно, и теперь, безупречны и святой жизни, следовательно, о них и рассказывать нечего, кроме засвидетельствовать мою глубокую благодарность и беспредельное почитание за отрадные воспоминания лучшего периода моей жизни. Пять лет не прошли, а промелькнули как сладостная улыбка на молодых устах красавицы! Не помню дамы, девицы, к которой не сохранилось бы мое поклонение.
Пустился я в рассказы былей, таких рассказов, пожалуй, на несколько томов. Старая голова не совсем охладела, все еще увлекается.]
Не помню точно времени, привезли в Симбирск из Тифлиса царевну Тамару[228]228
Жиркевич сообщает о ней следующее: «Здесь в Симбирске есть некто княжна Тамара, фрейлина ее императорского величества, сосланная сюда из Грузии на жительство лет 6 тому назад по поводу открытого в Тифлисе заговора грузинских князей».
[Закрыть] под мой строгий надзор. Не подумайте, что эта Тамара подобна Тамаре Лермонтова, нет, непохожа. Длинная, узкая в плечах и вся ровная до конца ног, лицо длинное, чисто армянское, лет под 50. Привезли плачущую, и сколько раз ни навещал ее, видел плачущую и всегда в одной позе: с своею служанкою сидят на полу и разбирают спутанный разноцветный шелк. Нельзя было не бывать у ней, а идти – наказание: не люблю плачущую женщину, еще бы хорошенькую, да и то ненадолго, молоденькие слезы не горьки. Не буду утверждать, долго ли надоедали мне слезы Тамары, но в приезд государя я решился хлопотать сбыть с рук плаксу. Составил пречувствительную записку и молил графа Бенкендорфа доложить государю о помиловании Тамары; это было вечером, граф отвечал: «Убирайся, спать хочу, поди к Адлербергу, он ходатай за всех [девок]». Я к добрейшему из добрых, графу Адлербергу; подав записку, стал неотступно просить его. Трудно верить, но прошу не сомневаться: прося графа Адлерберга, у меня капнуло слез пяток, право так! Граф с участием спросил: «Вы такое близкое принимаете участие?» Я не сказал, что она мне надоела. Благодетельный граф тотчас пошел к государю и вынес помилование Тамары. Я приказал разбудить ее и объявил ей радость. Не буду рассказывать о сцене ее благодарности, право, и тут ничего не было приятного. Через 4 дня отправил царевну с жандармом с Тифлис, там выехали 20 карет встречать ее. Ну и дай Бог ей здоровья.
Пишет Дубельт: «Под твой надзор назначен бывший Волынский губернский предводитель, граф Петр Мошинский. Облегчи его положение, что от тебя зависит».
Является Мошинский, небольшого роста, с самым добрым и скромным выражением в лице; мне казалось, что его забила судьба, но нет, он таков от рождения; ему лет 35, плешив, хорошо образован. Сослан был в Тобольск за 14-е декабря. В первый же час я спросил его, чего он хочет? Он не вдруг отвечал: «Я не знаю, чего я могу желать». – «Какое ваше самое большое желание?» Он после признался мне, что ему очень забавно казалось, что какой-то подполковник так самонадеянно спрашивает, но отвечал: «Мое желание одно – сблизиться с женою и дочерью». – «Ну, вот, видите ли, я через 4 месяца подвину вас к вашей семье, но с условием: вы должны всякий день непременно являться ко мне, дабы я не лгавши мог сказать, что я всякий день вижу вас. Я не всегда свободен, но вот вам комната, книги и трубка. Исполните вы, исполню и я».
Редкую почту не писал я о Мошинском и писал правду: что он вполне раскаялся, искренно предан государю и России, сознает глубоко безумие поляков и проч. Прогрессивные мои донесения выходили ладны, и я собирался повести атаку – выслать Мошинского на юг. Вдруг курьер: граф пишет, чтобы я употребил все искусство осторожно, но непременно убедить Мошинского подписать прилагаемую бумагу. Читаю. Это не более, не менее – согласие Мошинского на развод со своею женою. Граф оканчивает, что он надеется на мою деликатность и участие к положению Мошинского.
Я даже не вдруг сообразил, что мне делать. Мошинский только и мечтал о счастии увидаться со своею семьею, а я должен – осторожно, деликатно, с участием, поднести для его подписи развод с любимою им женою! Прежде всего я мысленно проклял всех полек (теперь пригляделся и не проклинаю). Не стану рассказывать, как я хитрил, подготовляя бедного Мошинского, но конец концов тот: несчастный, чтобы подписать, падал два раза в обморок, подписал и заболел. Желая сколько-нибудь вознаградить Мошинского, я каждую почту просил о переводе Мошинского на юг, добыл и послал свидетельство доктора, что необходим для него теплее климат. Ровно через три месяца со дня прибытия ко мне Мошинского он переведен в Чернигов, куда и выехала к нему дочь. [Он не переставал удивляться моему могуществу, но после не то еще увидел.]
С этого времени я забыл о Мошинском. Я – в Киеве. В 1839 году ко мне на квартиру явился какой-то поляк и объясняет, что меня очень любит Петр Мошинский.
– Где теперь Петр Мошинский?
– Он с дочерью в Чернигове.
– Что же вам от меня нужно?
– Я еду к Мошинскому, желаю быть управляющим в одной из его деревень, прошу от вас рекомендательного письма.
– Письма вам не дам, потому что вас не знаю; поезжайте, скажите Петру, что я его люблю и что мы скоро увидимся, он даст вам место и без письма.
Перевести Мошинского в Киев мне было не трудно: тогда более сотни поляков разослали по заговору Канарского. Мне не трудно было убедить Бибикова для примирения с дворянами представить о пользе перевода Мошинского в Киев. Дозволено. Мошинский бросился ко мне на шею и со слезами радости называл меня своим благодетельным провидением. Дочь его – предоброе дитя. Явился граф Шенбок; мне крайне не нравился, но какие-то старинные фамильные связи – дочь Мошинского вышла за Шенбока, который сделал ее несчастною, промотал ее одиннадцать тысяч душ крестьян и бросил ее, бедную!
Перед свадьбой я же хлопотал и писал представление о помиловании Мошинского. По симбирской привычке Мошинский аккуратно, всякое утро приходил пить кофе. Когда пришло помилование, он пришел ко мне утром и объявил, что уезжает, обнял меня и просил принять на память дружбы наследственный от бабушки фермуар[229]229
Фермуар – застежка из драгоценных камней на нагрудном или каком-либо другом ювелирном изделии; недлинное ожерелье, охватывающее шею.
[Закрыть] и несколько десятков тысяч рублей. Бриллианты блестящие меня не пленяли, но в средине был невиданный, огромный восточный густой изумруд. Любовь моя к этому камню, должно быть, родилась со мною; я полюбовался изумрудом, поцеловал Петра Мошинского и возвратил ему фермуар. Просьбы его, даже слезы, доказательства, что это не деньги, – ничего не помогло. Более я не видался с Мошинским. Получил от него письмо, он начинает: «Родился графом, крестился графом, однако я графом никогда не был». Вот до чего обрусел человек: поляк и не хочет быть графом!
Присланы ко мне под надзор с десяток поляков по мятежу 1830 года[230]230
Восстание 1830–1831 гг. на территории Царства Польского, входившего в состав России на правах автономии.
[Закрыть]: два доктора, один очень хорошо учился, он и теперь живет недалеко от меня, фамилия его Станкевич; присылает ко мне поклоны, но сам не едет, может быть, и я не поехал бы на его месте. Поляки были очень смирны, был и ксендз. Было бы что и рассказать о них, но когда-нибудь после.
[Да вот забыл рассказать о дуэли. Сидим мы вечером у Бестужевых. Губернатор Загряжский говорит: «Я расскажу вам одну мою глупость». Я сидел довольно далеко и шутя сказал: «Только одну?» Поутру просит меня Загряжский к себе. Прихожу, Загряжский принимает эффектную позу и говорит: «Вы вчера меня оскорбили». – «Чем?» – «Сказали, что я могу не одну глупость рассказать». – «Разве это неправда, разве мало вы рассказываете мне своих глупостей?» – «Я не позволю оскорблять себя». – «Очень жалею, если вы приняли шутку за оскорбление». – «Я прошу удовлетворения». – «Что это значит?» – «Я вызываю вас на дуэль!» – «Вот видите ли, я моряк, а как существует флот, дуэли ни одной не было, мы презирали этот способ удовлетворения, но по вашему гвардейскому кодексу вызываемый избирает оружие, я изберу шпагу, потому что я первый боец». Губернатор и жандарм на дуэли – это потеха для публики и огорчение государю; то лучше выйти в отставку и драться. Тут же был и граф Толстой.
Кто удостоился прочесть о характере Загряжского, тот, конечно, видит, что эт[о] была старинная гвардейская замашка Загряжского, серьезного и быть не могло, но я спросил, чего ему хочется? Загряжский желал, чтобы я извинился. «Жалею, что я сделал вам ненамеренную неприятность. Может быть, еще чего-нибудь хотите?» – «Доволен». Тем и кончилась затея Загряжского. После несколько раз я шутил над ним, припоминая глупую его шутку.]
Приехал новый губернатор, Иван Петрович Хомутов[231]231
И. П. Хомутов был симбирским губернатором в 1836–1838 гг.
[Закрыть]. Он приехал шумно, весело; ко всем визиты, к нему все – противоположность Жиркевичу.
Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество.
Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова[232]232
Скорее всего, она была дочерью В. А. Озерова.
[Закрыть] – это нужно заметить. Детей у них не было.
Хомутов был полковником в известном елисаветинском деле[233]233
Елисаветинское дело – сражение в ходе русско-иранской войны 1826–1828 гг., состоявшееся 13–14 сентября 1826 г. и завершившееся разгромом иранской армии. За это сражение Паскевич был награжден золотою саблей с бриллиантами и надписью «За поражение персиян под Елисаветполем».
Елисаветполь – до присоединения к России – Ганжа, столица Ганжинского ханства.
[Закрыть] – Паскевич доносил о позиции, но, говоря о левом фланге, писал, что «он слаб, но там у меня храбрый полковник Хомутов и я спокоен». Хомутов хранит рескрипт[234]234
Рескрипт – именной акт, адресованный монархом какому-либо лицу.
[Закрыть]: «Храброму полковнику Хомутову с товарищами» и проч. Хомутов известен был в армии тем, что ни разу не поклонился ядру. И это нужно заметить!
С губернатором Хомутовым, кажется, в две минуты я стал другом – прелюбезный человек. Перед приездом Хомутова в Симбирске образовалась шайка воров, сначала мелочных, а потом смелых до дерзости. Я шел с Хомутовым в первые дни его губернаторства вечером и рассказывал ему о деятельности воров; он сказал громко и самонадеянно: «Я всех их уничтожу». Я предупредил, что неравно кто-нибудь лежит за забором и сделают что-нибудь в насмешку ему. Поутру получаю от него записку: «Пожалуйста, не рассказывайте, подлецы украли из прихожей мою шубу; если можно, помогите найти». Шуба еще до света была разрезана на несколько частей и вывезена в разные заставы.







