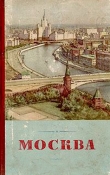Текст книги "Столица"
Автор книги: Эптон Билл Синклер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава шестнадцатая
Вернувшись в город, Монтэгю ревностно принялся за прерванные занятия, а Элис каждый свободный от светских обязанностей час посвящала наблюдению за тем, как подвигается шитье нового платья, в котором ей предстояло поддержать честь фамилии на открывающем сезон балу миссис Дэвон. До этого великого события оставалась неделя, и общество ожидало его с таким же нетерпением, с каким дети ждут рождества. Приглашены были все, кого знал Монтэгю, и все собирались, за исключением тех, кто в это время случайно был в трауре. Отвергнутые вознаграждали себя сплетнями, вкладывая в них всю горечь своей досады и зависти.
В этот знаменательный вечер двери особняка миссис Дэвон открылись спозаранку, но лишь немногие приехали раньше полуночи. Вся фешенебельная публика считала обязательным побывать сначала в опере, а кроме того, в тот же день в нескольких домах состоялись большие званные обеды. Счастливы были те, кому после столь обильной еды и питья не напомнила о себе печень, ибо в час ночи у миссис Дэвон подавался первый солидный ужин, а в четыре часа – второй. Для приготовления этих трапез в дом Дэвонов задолго до бала вселилась дюжина дополнительных поваров: гордость миссис Дэвон не допускала, чтобы угощенье для ее гостей закупалось на стороне, у какого-нибудь поставщика готовых блюд.
Монтэгю так и не удалось разгадать, что же представляет собой удивительное явление светской жизни, известное под именем миссис Дэвон. Он приехал на ее бал и получил там ровно столько удовольствия, сколько его можно получить, толкаясь в толпе приглашенных; и, если не считать, что раза два он ввязывался в случайные разговоры с многочисленными сыщиками, которых он принимал за гостей, то все обошлось более или менее благополучно. И все время, пока его к кому-то подводили и с кем-то знакомили или кого-то заставляли вертеть в танце, он с удовольствием озирался вокруг. Широкая лестница, холл и все гостиные были превращены в тропический сад с пальмами, вьющимися виноградными лозами, азалиями, розами и громадными вазами, полными красных понсеттий, сквозь которые просвечивали сотни сверкающих огней. (Передавали, что этот бал истощил цветочные запасы страны вплоть до самой Атланты.)
Дойдя до парадной приемной, гость наконец оказывался перед маленькой старой леди, стоявшей в беседке из ниспадающих орхидей. На старушке было одеяние цвета королевского пурпура, обшитое каймой из серебряной парчи и с твердым поясом, вытканным из жемчуга. Если верить газетам, то на одном из балов миссис Дэвон стоимость бриллиантов присутствующих дам доходила до двадцати миллионов долларов.
Непривычного человека просто ошеломлял весь этот блеск. Котильон танцевали двести кавалеров и двести дам в роскошных нарядах, и это зрелище было столь очаровательно, что казалось, будто перед твоими глазами проходит волшебная сказка или сцена из какого-нибудь рыцарского романа. Во время танца четыре раза раздавали сувениры. Безделушки и драгоценности сыпались дождем, как по мановению магического жезла. Сама миссис Дэвон вскоре удалилась, но музыка продолжала греметь и гости веселились почти до утра, и все это время залы и гостиные обширного особняка были так забиты народом, что едва можно было повернуться.
И лишь по возращении домой гостю приходило на ум, что все это великолепие, все затраченные на него усилия оставили по себе лишь мимолетное воспоминание! Правда, это утверждение скоропалительно. Ведь минувший праздник являлся одним из тысяч ему подобных – простым образцом, которому все непременно старались следовать, устраивая у себя какое-нибудь торжество. Это был как бы удар гонга, объявлявший миру, что «сезон» начался, что шлюзы расточительности открылись и теперь поток увеселений хлынет неудержимой волной. Начиная с этого дня пойдут непрерывные празднества и иные любители в один вечер смогут присутствовать на трех банкетах, ибо в свете повелось посещать в порядке развлечения обед и два ужина. Остальные часы дня заполнялись приемами, чаями и концертами, но, какое бы из этих бесчисленных сборищ вы ни выбрали,– вы неизменно оставались в кругу все тех же лиц, с которыми встретились у миссис Дэвон. А между тем вне этого круга в городе существовали еще десятки тысяч чающих в него попасть и не меньшее количество подражателей; и в других городах также жили тысячи праздных женщин, озабоченных лишь тем, как бы поискусней перенять тон столицы. Трудно охватить мыслью размеры этого океана расточительности; это было нечто притупляющее чувства и оглушающее, как рев Ниагары.
Ближние такого образа жизни сказывалось не только на тех, кто его ввел в обычай; его результаты можно было проследить на облике всей страны. Бесконечное множество торговцев и промышленников поставляли «свету» ходовой товар, измышляя всяческие способы, чтобы заставить людей покупать побольше. Они изобретали так называемые «моды» – незначительные, но завлекательные новшества в покрое и тканях, благодаря которым всякая вещь очень быстро устаревала. Когда-то было только два «сезона», теперь их стало четыре, и при помощи нарядных витрин и бесчисленных реклам публику заманивали в рас-ставленные ей сети. «Желтая» пресса отводила целые страницы описаниям того, «как одеваются 400», и некоторые журналы, насчитывавшие по многу миллионов читателей, занимались исключительно распространением этих сведений. Везде, во всех классах общества, мужчины и женщины истощали свои умы и сердца и напрягали все силы, чтобы угнаться за призраком моды; из-за этого призрака массы народа прозябали в нищете и молодежь – надежда человечества – предавалась обманчивым иллюзиям. В деревнях жены бедных фермеров, чтобы выглядеть «помодней», переделывали свои чепчики, городские служанки рядились в шубы из поддельного котика, а приказчицы и швеи продавали себя в публичные дома ради лишней ленточки и дешевых украшений.
Нормальное влечение к красоте извращалось жаждой наживы. В столице единственным мерилом превосходства были деньги, а обладание деньгами являлось свидетельством власти, и всякое, самое естественное желание мужчин и женщин мерилось только деньгами. Стремление к прекрасному, гостеприимство, наслаждение музыкой и танцами, любовь – все превратилось в повод для демонстрации богатства. У мужчин было одно занятие – нахватать побольше денег; но их праздным женам уже решительно нечего было делать в жизни, кроме как наперегонки щеголять безумным мотовством. Это привело к тому, что женщина, которая умела особенно эффектно расточать богатства и тем самым являлась наиболее совершенным орудием поглощения труда и жизней других,– именно такая женщина и заслуживала всеобщее признание и оказывалась в центре внимания.
Самой поразительной чертой столичного общества был его абсолютный, слепой материализм. Ожидания Монтэгю, когда он ехал в столицу, имели своим источником, европейскую литературу; в «большом свете» он рассчитывал встретить дипломатов и государственных деятелей, ученых и исследователей, философов, поэтов, художников. Но о таких людях в обществе даже и слышать не приходилось. Интересоваться интеллектуальными вопросами считалось признаком эксцентричности, и можно было неделями вращаться среди людей «большого света» и ни разу не встретить человека, которым владела бы хоть какая-нибудь идея. Если светские люди брались за книгу, это был приторно-слащавый романчик; если они шли в театр – это была оперетта. Единственный продукт интеллекта, которым общество могло похвалиться как своим собственным, были грязные, скандальные листки, служившие главным образом средством шантажа. Время от времени какая-нибудь честолюбивая юная матрона из числа «избранных» пыталась завести у себя нечто вроде «салона» на манер Старого света, и некоторое время ей действительно удавалось собирать вокруг себя компанию пошлых остряков. Но истинные труженики ума большей частью держались в стороне, и «общество» состояло лишь из ничтожной кучки людей, прославившихся быстротой обогащения; они собирались друг у друга во дворцах, наедались до отвала, играли в карты и сплетничали, искусственно окружая себя ореолом таинственности и величия.
Мало-помалу Монтэгю пришел к выводу, что, может быть, их и не приходится в этом винить. Не они сделали богатство основной и конечной целью своего существования, а таков был весь жизненный уклад страны, частицу которой они составляли. Не их вина, что им досталось большое могущество, а употребить его им было не на что; не их вина, что их сыновья и дочери являлись в мир на все готовое, не имея ни нужды, ни возможности делать что-либо полезное.
Особенно жалким казалось Монтэгю это «второе», выходящее на сцену поколение, жизнь которого была уже заранее насквозь пропитана отравой. Какое бы зло они ни делали миру, оно никогда не сравнится с тем злом, которое мир причинил этому поколению, дозволив его представителям сорить незаработанными деньгами. Они с рождения были оторваны от действительности и не имели даже элементарного понятия о жизни. Сильные, здоровые физически, они не знали, на что употребить свою жизненную энергию. В этом-то и заключалась истинная причина всей этой оргии разнузданности или «вихря света», как его называют,– сумасшедшая погоня за новыми развлечениями, за чем-нибудь поострее, чтобы возбудить чувства людей, которых не интересовало уже ничто на свете. Потому-то они и строили дворцы, и сорили деньгами, задавая умопомрачительные балы и банкеты, и носились по стране в своих автомобилях и путешествовали по свету на паровых яхтах и в собственных поездах.
Однако все попытки рассеяться не давали результатов, и эти люди могли извлечь из своих тщетных усилий лишь тот единственный урок, что притупленные нервы уже ничем не расшевелить. Тому, кто наблюдал «общество», больше всего бросалась в глаза царящая в нем невыразимая, смертельная скука. Какая-нибудь бедная продавщица со жгучей завистью читала описания торжественных празднеств, а женщины, принимавшие участие в этих празднествах, изнывали от скуки, скрывая зевоту за осыпанным драгоценностями веером. Типичным примером пресыщенности была для Монтэгю устроенная миссис Билли Олдэн прогулка на яхте по Нилу: ее гости зевали в лицо сфинксам, играли в бридж в тени пирамид и считали крокодилов, предлагая «ради большей остроты ощущений» броситься в самую их гущу!
Люди не могли прервать увеселений просто потому, что боялись одиночества. Они кочевали с места на место, следуя, как стадо баранов, за любым вожаком, посулившим им новое развлечение. Можно было заполнить целый том перечнем их «забав». Каждую неделю изобреталось что-нибудь новое, если не самими членами общества, то «желтыми» журналами. Одна дама, например, вставила себе в зубы бриллианты; другая ездила в коляске, запряженной парой зебр. В Ныо-Порте, говорят, устраивались обезьяньи обеды и обеды, па которые приглашенные являлись в пижамах; в Нью-Йорке пировали сидя верхом на лошадях и танцевали в костюмах, изображающих овощи. Ходили слухи об альбомах и веерах для собирания автографов, о говорящих воронах, каких-то редкостных орхидеях и жарком из оленьего мяса; вошли в моду ручные браслеты для мужчин и женские ножные браслеты; шкатулки для грима по десяти—двадцати тысяч долларов за каждую; фантастические и отвратительные домашние любимцы– хамелеоны, ящерицы и королевские удавы; одна молодая женщина носила на шее в виде ожерелья кошачью змею, а некий джентльмен пристрастился хлебать коньяк ложкой, другой – втягивать его через нос; кто-то накрывал стол скатертями, сплетенными из роз, а еще кто-то носил костюм из ароматной фланели по шестнадцати долларов за ярд, один затеял в августе катанье на коньках, другой учредил класс для изучения Платона, третий устраивал теннисные состязания в купальных костюмах, четвертый играл после обеда в чехарду; были люди, испросившие себе у папы разрешение иметь собственную часовню и личного духовника; а иные забавлялись «походными» обедами – то есть объезжали по очереди все рестораны: коктэйль пили и закусывали у Шерри; суп ели, запивая его мадерой, у Дельмонико; черепахами и амонтильядо угощались у Уолдорфа и так далее.
В результате этого неистового прожигания жизни здоровье людей быстро разрушалось и для его восстановления придумывалось множество нелепейших способов. Одному предписывали не есть ничего, кроме шпината, другой, напротив, питался какой угодно травой. Этот тридцать два раза должен был пережевывать ложку супа; тот ел каждые два часа, а еще кто-нибудь – всего раз в неделю. Одни вставали рано утром и расхаживали босиком по траве, другие скакали на четвереньках по полу, чтобы спустить жир; существовало «лечение отдыхом», «лечение водой», «лечение «новой мыслью», «лечение метафизическое», а также с помощью «христианской науки». Для комнатной верховой езды была изобретена автоматическая лошадь со специальным счетчиком, отмечавшим пройденное расстояние. Монтэгю был знаком с обладателем электрической машины, стоившей тридцать тысяч долларов, которая, ухватив его за руки и за ноги, заставляла его проделывать гимнастические упражнения, пока он безвольно отдавался ее действию. Одна приятельница рассказывала Монтэгю, что она катается на электрическом верблюде!
Куда бы вы ни поехали, вам везде встречались все новые и новые субъекты, находившие невиданные доселе и самые невероятные способы тратить деньги. Один, например, богач, купил церковь и переделал ее в театр, он нанял профессиональных актеров и уговаривал своих друзей приехать посмотреть, как он играет в одной из пьес Шекспира. Была дама, во что бы то ни стало желавшая одеваться по картинам великих мастеров, украшая свои наряды гирляндами из роз и вишневых листьев, венками из лавра или плюща, причем ее собачки тоже были одеты в костюмы соответствующих эпох и стилей! Вот джентльмен, который ежедневно платит по шесть долларов за цветок красной гвоздики в четыре дюйма диаметром; вот молодая девица – она ходит в шляпке, отделанной свежими вьюнками, а ее бальное платье украшено роем прикрепленных к нему шелковой ниточкой трепещущих бабочек; а вот и другая: у этой шляпа сплетена из серебра и украшена сорокадюймовыми страусовыми перьями, сделанными из тончайших серебряных нитей. Некий джентльмен нанял однажды роту солдат и заставил их целый день производить в своем саду учение, чтобы утоптать площадку для танцев; а еще один соорудил за тридцать тысяч долларов помещение для бала, на котором должна была впервые явиться в свет его дочь, и на следующий же день сровнял его с землей. Кому-то вздумалось разводить в Северной Каролине гремучих змей и тысячами выпускать их на волю, в результате чего все люди, жившие в имении одного из Уоллингов, обратились в повальное бегство. Кто-то выстроил яхту с образцовой фермой и пекарней на борту, с французской прачечной и духовым оркестром. У кого-то была гоночная яхта, обошедшаяся в миллион долларов с моторными лодками на борту, взводом вооруженных стрелков, китайцами-прачками и двумя врачами, которые пользовали ее полоумного хозяина. Наконец кто-то еще приобрел за три четверти миллиона древний замок на Рейне, столько же потратил на его реставрацию и, наняв толпу слуг, нарядил их в костюмы четырнадцатого столетия. Был и такой, у которого хранилась стоившая пять миллионов долларов коллекция произведений искусств; она была скрыта от всех взоров, и никто никогда не мог ею полюбоваться.
Всего губительнее эти безумства отражались на молодых представителях светского общества. Одни гробили себя и своих приятелей, гоняя автомобили со скоростью ста двадцати миль в час. Другие увлекались состязаниями на моторных лодках—легких, как скорлупки, и узких, как лезвие ножа, рассекавших воду с быстротой сорока миль в час. Иные нанимали профессиональных боксеров и предоставляли им себя для нокаутов. Другие тешились собачьей или медвежьей борьбой и боксерскими матчами между кенгуру. Монтэгю зазвали однажды в дом молодого человека, который всю жизнь посвятил охоте на диких зверей во всех уголках земли и пускался не раз в кругосветные путешествия только ради того, чтобы прибавить лишний экземпляр к коллекции своих трофеев. Прослышав, что барон Ротшильд предлагает тысячу фунтов за бонго – огромное травоядное животное, не виданное еще ни одним белым человеком,– он целый год провел в центре Африки в сопровождении отряда из ста тридцати туземцев и привез оттуда головы сорока пород различных диких зверей, в том числе и бонго, которого барон так никогда и не увидел! Познакомился Монтэгю и с человеком, организовавшим на свои средства клуб воздухоплавателей и осуществившим две прогулки в облака, длившиеся по двадцать четыре часа. (Кстати, этот вид спорта был последним криком моды – в Таксидо устраивались состязания между воздушными шарами и автомобилями, и Монтэгю встретил молодую даму, хваставшую, что она поднималась в воздух пять раз.) В обществе был известен один юный миллионер, который терпеливо преподавал в воскресной школе, окруженный множеством репортеров; и другой, который основал ряд распространявшихся по всей стране газет и объявил войну своему классу. Были и такие, что шли работать в колонии для бедных и ратовали за русских революционеров, были даже называвшие себя социалистами! Это чудачество казалось Монтэгю особенно странным, и, встретив однажды за вечерним чаем одного из таких парней, он с недоумением глядел на него, вспоминая человека, разглагольствовавшего на улице в день его приезда в Нью-Йорк.
Так обстояли дела со «вторым» поколением. И как ни страшно было думать об этом, а уже подрастало и третье, готовившееся занять свое место на арене жизни. Богатства накоплялись теперь быстрее, чем когда-либо, и трудно было предвидеть, до чего это третье поколение дойдет. Пока что в обществе еще сохранилось небольшое число мужчин и женщин, зарабатывавших деньги своим трудом и понимавших, каких усилий и напряжения это стоит; но все они умрут или будут забыты к тому времени, когда вступит в свои права третье поколение; между ним и действительностью не останется тогда ни одного связующего звена!
Этот факт заставлял каждого мыслящего человека пристально приглядываться к детям богачей. Иные из них еще в колыбели унаследовали десятки миллионов долларов; время от времени кому-нибудь из них дарили ко дню рождения дом, стоивший миллион долларов. Когда такое дитя появлялось на свет, газеты посвящали целые страницы описаниям его «приданого»– детских платьиц по сто долларов каждое, кружевных платочков по пять долларов штучка и туалетных приборов с крошечными золотыми щеточками и пудреницами; тут же помещались и фотографии драгоценного чада, лежащего в «Моисеевской корзине» и укрытого редкостными, красивейшими валансьенскими кружевами.
Ребенок рос в атмосфере роскоши и поблажек; в шесть лет он уже покрикивал на слуг, в двенадцать– говорил сальности и курил папиросы. Его баловали, им любовались, восхищались и выставляли его напоказ, разодев, как французскую куклу; снобизм и человеконенавистничество он впитывал в себя вместе с воздухом, которым дышал. В богатых домах можно было видеть еще не достигших десятилетнего возраста детей, которые только и говорили, что о ценах на вещи да о том, насколько их соседи ниже их по социальному положению. Для этих детей не существовало ничего не доступного. Они разъезжали по окрестностям в маленьких собственных автомобилях; у них были кровные арабские пони и кукольные дома, обставленные игрушечной мебелью в стиле Людовика XVI; дома эти освещались крошечными электрическими лампочками, а полы в них были устланы ковриками, осыпанными драгоценными камнями. У миссис Кэролайн Смит Монтэгю представили' бледного, анемичной наружности юнца лет тринадцати, который, обедая в торжественном одиночестве, когда остальных членов семьи не было дома, требовал, чтобы ему прислуживали все лакеи; его злосчастная тетка навлекла на свою голову бурю отборных ругательств тем, что запретила буфетчику подавать в детскую шампанское перед завтраком.
У Монтэгю остался в памяти один короткий разговор, характеризующий отношение общества к вопросам воспитания детей. Майор Винэбл однажды шутя заметил, что нынешние дети слишком много понимают для своего возраста и поэтому дамам следует в их присутствии быть осторожнее. На это миссис Виви Паттон с неожиданной серьезностью ответила: «Право не знаю... вы находите, что у детей есть нравственное чувство? У моих по крайней мере его нет совсем».
И обворожительная миссис Виви открыла ряд печальных истин относительно своих детей. Они —прирожденные дикари, и этим все сказано. Они делают решительно все, что им заблагорассудится, и никто не может с ними сладить. Майор возразил: нынче все на свете делают что кому заблагорассудится, и положить этому предел, по-видимому, невозможно; разговор принял шутливый оборот, и собеседники перешли к другим темам. Но Монтэгю молчал, обдумывая слышанное и задавая себе вопрос, что станется с миром, когда он попадет под власть поколения балованных детей и окончательно примет догму: делай, что тебе заблагорассудится.
Сначала все эти люди просто поступали не думая, как им подсказывало минутное желание, теперь же – Монтэгю это видел ясно – привычка настолько укоренилась, что сделалась своего рода жизненной философией. Возник новый культ, адепты которого намеревались перестроить мир на собственный лад, по принципу абсолютного своеволия. Благодаря тому что приверженцы новомодного течения располагали богатством и, следовательно, могли подчинить своим вкусам таланты всего мира, течение это выдвинуло своеобразное технически совершенное искусство, а также литературу, изящную, утонченную и волнующую. В Европе такая литература существо-вала уже столетие, в Англии—на протяжении одного или двух поколений. А теперь она появилась и в Америке!
Монтэгю немало позабавился, заглянув в недра этой культуры на одном из «художественных вечеров» миссис Виви Паттон, куда он получил приглашение. Миссис Виви была связана с некиим кружком людей, занимавшихся предметами интеллектуального порядка. В него входило несколько любителей богемы и несколько «гениальных» личностей.
– Если вы собираетесь издеваться или вам будет неприятно, то лучше не приезжайте,– сказала она,– потому что у меня будет Стрэскона.
Монтэгю к этому времени уже насмотрелся всякого и считал себя способным вытерпеть что угодно. Он поехал и застал миссис Виви в обществе ее графа (мистер Виви, очевидно, не был приглашен) и одного молодого поэта, певца сатанизма, произведения которого вызывали тогда в городе громкие толки. Это был высокий стройный юноша с бледным лицом, меланхолическими черными глазами и длинными черными волосами, ниспадавшими ему на уши; он сидел в «восточном» уголке гостиной; в руках его были перевязанные алой лентой, исписанные бисерным почерком листки нежно-ароматной «художественной» бумаги. Возле него сидела девица в белом платье, и пока он читал по рукописи свои неопубликованные (за невозможностью их опубликовать) стихи, она держала перед ним зажженную свечу.
В промежутках между чтением молодой поэт говорил. Говорил он о себе и о своей работе, ради чего, наверное, сюда и приехал. Его слова текли, словно стремительный ручей —неиссякаемый, прозрачный, сверкающий; не задерживаясь ни на чем, они едва касались предмета– неуловимые и быстрые, как игра света на воде. Монтэгю силился проследить его мысль, но скоро все завертелось у него в голове, и он оставил свои попытки. Впоследствии, вспоминая об этом, он сам над собой смеялся, ибо мысли Стрэскона не имели в себе ничего определенного, основанного на истине; это был беспорядочный набор афоризмов, кое-как склеенных вместе, чтобы ошеломить слушателя, упражнения в парадоксах, имеющие не большее отношение к жизни, чем имеет к ней фейерверк. Он брал общую сумму накопленного человечеством нравственного опыта, выворачивал его наизнанку и, все перемешав, как перемешивают в калейдоскопе осколки разноцветного стекла, подносил слушателям. А те, чуть дыша, восторженно шептали: «О, как это сатанично!»
Лозунгом этой школы поэтов было утверждение, что нет ни добра, ни зла, но что все существующее – «интересно». Послушав Стрэскона с полчаса, вы совершенно теряли голову и решительно отказывались верить, что когда-либо имели хоть какую-нибудь добродетель; в мире, где все так шатко, было бы самонадеянностью воображать, будто знаешь, что такое добродетель. Человек способен быть только тем, что он есть; а раз это так, не означает ли это, что он должен поступать, как ему заблагорассудится?
Чувствовалось, что дерзость оратора вызывает в собравшихся трепет восхищения, а хуже всего было то, что просто со смехом отмахнуться от всего этого было невозможно, ибо мальчик был несомненно поэтом – в его стихах были огонь, и страсть, и мелодичность. Ему исполнилось всего лишь двадцать лет, но за свою краткую, как полет метеора, жизнь он овладел всей гаммой людских переживаний, постиг все тончайшие движения человеческой души в прошлом, настоящем и даже будущем. О чем бы ни упомянули в его присутствии – его разуму все было доступно: и религиозный восторг святых и исступленный экстаз мучеников – да, он понимал и это; но он погружался также и в бездны порока и блуждал по самым темным закоулкам преисподней. Все это было очень интересно—в свое время конечно; теперь же он томится по новым категориям чувств – ну хотя бы по неразделенной любви, которая довела бы его до безумия.
Именно в этом месте Монтэгю окончательно потерял надежду доискаться какого-нибудь смысла в речах юного поэта и занялся изучением внешней структуры его словоизвержений. Стрэскона с презрением отвергал существование нравственного начала, но на деле целиком от него зависел: рецепт, по которому он стряпал свои афоризмы, заключался в том, чтобы, взяв нечто, внушающее уважение моральному чувству других людей, отождествить это с чем-либо таким, что их моральное чувство с отвращением отвергает. Примером подобной манипуляции мог послужить его рассказ об одном из членов его кружка– родственнике известного епископа. Однажды, отчитывая сего юнца за распутную жизнь, почтенный священнослужитель попрекнул его в своем наставлении тем, что он живет, прикрываясь добрым именем отца; ответ последовал уничтожающий: «Может быть, и худо жить, прикрываясь добрым именем отца, но все же это лучше, чем жить, прикрываясь добрым именем бога». Замечание весьма коварное, над которым стоило призадуматься. Бог ведь умер, а достойный епископ и не знает этого! Так пусть же он обзаведется новым богом, еще не имеющим репутации, пойдет с его проповедью в мир и заработает его именем кусок хлеба!
Потом Стрэскона обратился к литературе. Он отдал дань «цветам зла» и «песням пред рассветом»; но больше всего, по его словам, он был обязан «божественному Оскару». Этот английский поэт, умевший принять любую позу и не чуждый известных пороков, был осужден законом и брошен в тюрьму; а так как закон всегда жесток и несправедлив и всякий, по кому он ударит, благодаря этому становится мучеником и героем, то и вокруг памяти «Оскара» создался настоящий культ. Все нынешние поэты подражали его стилю и образу жизни; таким образом, на самые гнусные извращения накидывался покров романтизма, им давались длинные греческие и латинские имена, и о них рассуждали со всем парадом учености как о возрождении эллинских идеалов. Молодые люди из кружка Стрэскона называли друг друга «мой возлюбленный»; а если кто-либо выражал при этом недоумение, на него смотрели не то чтобы с презрением—испытывать презрение считалось неэстетичным – а так, чуть приподняв бровь, что означало высшую степень иронии.
Нельзя, конечно, забывать, что эти молодые люди все же были поэтами, и поэзия защищала их от их же собственных доктрин. Не сама жизнь увлекала их, а создание красивых стихов о ней; некоторые из этих поэтов жили беззаботными аскетами на чердаках, перелагая свои «сатанинские» эмоции в звучные строфы. Но, с другой стороны, на каждого поэта приходились тысячи не поэтов, а самых простых людей, для которых жизнь была реальностью. И эти люди, взяв на веру их проповедь, губили свою жизнь и с помощью волшебных чар поэзии, ее дивных мелодий и божественного огня губили жизнь всякого, кто входил с ними в соприкосновение. Новое поколение юношей и девушек черпало духовную пищу в стихах Бодлера и Уайльда и со всем жаром юности бросалось в расставленные для них торговцами порока ловушки. Сердце обливалось кровью при виде этих детей с раскрасневшимися от возбуждения щеками и пылающим взором, которые, цепляясь за подол Музы, искали поэзию в публичных домах и притонах.