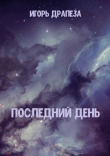Текст книги "Замужество Сильвии"
Автор книги: Эптон Билл Синклер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Все женщины из рода Кассельменов были знакомы с этим искусством и широко пользовались им. Вот, например, тетя Ненни: когда она щелкала своим бичом, милый старый лев, епископ, подпрыгивал, точно от выстрела. Весь свет знал историю о том, как однажды на званом банкете он поднялся и сказал:
– Леди и джентльмены, я собирался произнести сегодня речь перед вами, но так как среди приглашенных я вижу свою жену, то прошу извинить меня.
Все захохотали, а тетя Ненни пришла в ярость. Но бедный славный епископ Чайльтон сказал святую правду – он не мог расправить крылья своего красноречия в присутствии своей «лучшей половины».
Но и с майором Кассельменом дело обстояло не лучше, хотя внешне носило несколько иной характер. Мать Сильвии позволила себе растолстеть, что являлось, с точки зрения Леди Ди, опасным признаком доверия к мужчине-животному. Но майор был на пятнадцать лет старше своей жены, а у нее было слабое сердце, чем она держала его в страхе. Время от времени своеволие юного отпрыска семьи Кассельмен становилось просто нестерпимым, и тогда отец хватал мальчика за шиворот, перекидывал его через колено и устраивал маленькую экзекуцию. Крики сына долетали до «мисс Маргарет», и она тотчас же устремлялась к нему на выручку.
– Майор Кассельмен, как вы смеете бить одного из моих детей?!
Она вырывала мальчика из рук отца и, приняв грозный и высокомерный вид, удалялась в свои апартаменты, где и запиралась вместе с ребенком. После этого бедный майор целыми часами бродил по дому, как неприкаянный, страдая от одиночества. Иногда он робко стучал в двери своей повелительницы.
– Душечка! Душечка! Ты еще сердишься на меня?
– Майор Кассельмен, – доносился оттуда полный достоинства ответ, – не будете ли вы добры предоставить мне в доме одну комнату, где бы я могла уединиться?
Но я боюсь, как бы у читателя не создалось превратного представления о Сильвии, и потому спешу оговориться. Дело в том, что моя юная приятельница, несмотря на такую осведомленность в теоретических вопросах пола, обнаруживала наряду с этим поразительное неведение относительно той роли, которую женщина играет в повседневной жизни. Я попробовала заговорить с ней о том виде экономического рабства, который еще сильнее, чем эксплуатация детского труда, возмущает нравственное чувство всякой женщины. Но, к моему величайшему удивлению, эта женщина после целого года замужества не знала, что такое проституция. Впрочем, на этот счет у нее имелись кое-какие подозрения, и она робко спросила меня:
– Неужели правда, что близость, составляющая сущность брака, становится предметом торга?
Узнав от меня правду, она пришла в такой ужас, что разговаривать дальше об экономической стороне вопроса стало невозможным. Как могла я утверждать, что женщину толкала на этот шаг нищета? Женщина с чистым сердцем скорее согласится умереть с голоду, нежели продаст мужчине свое тело. Быть может, мне следовало быть терпеливее, но я не могу спокойно говорить об этих вещах.
– Дорогая моя миссис ван Тьювер, – сказала я, – об этих вещах говорится много ерунды. Но лишь в редких случаях женщина имеет возможность свободного выбора. Большей частью цена ее бывает определена уже заранее.
– Я не понимаю, – сказала она.
– Не знаю, как обстояло дело с вами, – ответила я, – но относительно себя скажу, что я вышла замуж, потому что была несчастна и желала иметь свой угол. И если говорить правду, то большинство женщин выходит замуж только поэтому.
– Но какое же это может иметь отношение к тому?.. – воскликнула она, искренно отказываясь понять меня.
– А в чем же вы видите разницу? Разве только в том, что порядочные женщины выходят замуж, получают постоянное содержание, а проститутка отдается за разовую плату?
Я заметила, что мои слова неприятно поразили ее, и сказала:
– Вы не можете понять этого, потому что никогда не знали нужды, а поэтому не имеете права судить тех, кто испытал ее. Однако вы, несомненно, встречали светских женщин, которые выходили замуж ради денег, и, конечно, согласитесь со мной, что это та же проституция.
Она вдруг как-то притихла, и я поняла, что я наделала. Вы, пожалуй, найдете, что мне следовало устыдиться. Но когда видишь столько горя и несправедливостей, сколько видела их я, поневоле перестанешь считаться с утонченной чувствительностью и щепетильностью праздных богачей. Я рассказала ей несколько случаев из жизни, по которым она могла судить, что значит в наше время нищета для женщины.
Сильвия продолжала молчать, и я спросила ее, как она ухитрилась сохранить подобное неведение. Ведь попадалось же ей, несомненно, в книгах слово «проституция», и она не могла не слышать намеков на «полусвет».
– Конечно, – сказала она, – мне приходилось встречать на скачках в Новом Орлеане подозрительного вида женщин. Я сидела неподалеку от них в ресторанах и догадывалась по возбуждению моей матери и по взглядам, которые она бросала на них, что это дурные женщины. Но, видите ли, я совсем не понимала, что это значит. У меня было только смутное чувство, что под этим кроется что-то ужасное.
Я улыбнулась.
– Значит, Леди Ди не раскрыла перед вами всех возможностей ее системы «очарования»?
– Да, – ответила Сильвия, – очевидно, она не все сказала мне.
Она молча смотрела на меня, стараясь собраться с духом, чтобы продолжать этот разговор. Наконец, набравшись мужества, она воскликнула:
– По-моему, это очень неправильно. Девушек не следует воспитывать в таком неведении. Они должны знать, что означают подобные вещи. Подумайте, ведь я понятия не имела, в чем состоит суть брака!
– Неужели? – спросила я.
– Всю свою жизнь я думала о браке. Меня приучили думать об этом при встрече с каждым подходящим мужчиной. Но в моем представлении это означало, что я буду иметь свой дом, то есть такое место, где я смогу принимать гостей. Я рисовала себе, как буду кататься со своим мужем и устраивать обеды для его друзей. Я знала, что должна буду позволять ему целовать себя, но ничего больше… У меня мелькали какие-то смутные мысли, но я не останавливалась на них. Меня учили ни над чем не задумываться и отгонять все фривольные мысли, которые могли возникнуть в моей голове. И я продолжала мечтать о том, какие платья я стану носить и как я стану встречать своего мужа, когда он будет возвращаться домой по вечерам.
– Но разве вам не приходила в голову мысль о детях?
– Да… но я думала о детях вообще. О том, каковы они будут, как будут говорить и как я буду любить их. Не знаю, все ли молодые девушки нашего круга так же умственно ограниченны?
В голосе Сильвии слышалось волнение, и я читала в ее глазах гораздо больше, чем она могла думать. Я была близка к разрешению загадки, так долго смущавшей меня. И мне хотелось взять ее руки в свои и сказать ей: «Ведь вы никогда не вышли бы за него, если бы понимали, что это значит».
Сильвия держалась того мнения, что ее должны были просветить насчет этих вопросов. Задумавшись над тем, кто бы мог это сделать, она не могла ни на ком остановится.
– А ваша мать? – спросила я.
Но Сильвия только рассмеялась, несмотря на серьезное настроение.
– Бедная милая мама! Когда меня собирали в пансион, она отвела меня в сторону и принялась внушать мне, чтобы я не слушала пошлой болтовни девочек. Она дала мне понять, что я должна избегать подобных разговоров, и я добросовестно старалась избегать их. Я уверена, что даже теперь она охотнее дала бы отрезать себе язык, чем заговорила бы со мной о подобных вещах.
– Я беседовала об этом с моими детьми, – вставила я.
– И вы не чувствовали смущения?
– Вначале немного. Мне приходилось преодолевать некоторую неловкость. Но воспоминание о трагедии, разыгравшейся однажды на моих глазах, придавало мне мужество.
Я рассказала ей случай с моим племянником, робким впечатлительным юношей, который часто приходил искать у меня утешения. Я любила его не меньше своих родных детей. Когда ему минуло семнадцать лет, он сделался вдруг угрюмым и раздражительным. Однажды он убежал из дома и пропадал больше шести месяцев, но потом вернулся и был прощен. Однако это не изменило к лучшему его настроение. Однажды вечером он явился ко мне, и я сделала все, чтобы вызвать его на откровенность. Но он молчал. Через несколько часов после его ухода я нашла письмо, которое он засунул под скатерть. Пробежав его глазами, я стремительно выбежала из дома, вскочила на лошадь и помчалась, как безумная, к моему деверю. Но было уже поздно. Бедный мальчик застрелился. Он взял в свою комнату ружье, вставил дуло в рот, а на курок нажал ногой. В письме он объяснил мне, в чем было дело. Он сошелся в городе с одной женщиной и заразился от нее сифилисом. Он попробовал лечиться, но попал в руки шарлатана, который вытянул из него все деньги и только сильнее расшатал его здоровье. Тогда несчастный юноша с отчаяния и стыда прострелил себе голову.
Я остановилась, неуверенная в том, что Сильвия поняла мой рассказ.
– А вы знаете, что такое сифилис? – спросила я.
– Кажется… я слышала о какой-то дурной болезни, – ответила она.
– Это очень дурная болезнь. Но если вы подразумеваете под этим словом, что только дурные люди болеют ею, то я должна сказать вам, что почти все мужчины подвергают себя риску получить ее. Однако они достаточно жестоки, чтобы презирать тех, кого настигла эта беда. Мой бедный племянник был совершенно несведущим юношей. Я, к сожалению слишком поздно узнала об этом от его отца. В мальчике пробудился инстинкт, о котором он абсолютно ничего не знал. Приятели растолковали ему, в чем дело, и он последовал их указаниям. А затем наступил ужас и стыд. Тяжелым душевным состоянием юноши воспользовался невежественный негодяй, который выгнал его, как только тот остался без гроша. И вот он вернулся домой, затаив в сердце ужасную тайну. Я представила себе, как он бродил вокруг моего дома, стараясь набраться мужества, чтобы довериться мне, как он колебался и, наконец, остановился на своем страшном решении.
Я умолкла, потому что до сих пор не могу вспоминать об этой драме без слез. Я не могу даже держать у себя в комнате его портрет, ибо при взгляде на это милое лицо меня начинают преследовать упреки совести.
– Вы поймите, – сказала я Сильвии, – что я никогда не могла забыть этого урока. Я поклялась над трупом несчастного мальчика, что, коль скоро это будет зависеть от меня, ни один юноша и ни одна девушка не выйдут в свет такими несведущими, как мой бедный племянник. Я стала читать книги по этому вопросу, и одно время бала настоящим фанатиком своей идеи. Я разговаривала об этом со стариками и с молодыми; всюду, где я показывалась, я нарушала установленные запреты; правда, многих это шокировало, но зато я знала, что многим и многим я приношу пользу.
Все это, разумеется, было непостижимо для Сильвии. Какой характерный контраст по сравнению с рассказанной мною драмой представлял собой единственный случай из области венерических болезней, который был известен ей. Она рассказала мне, как познакомила свою приятельницу Гарриет Аткинсон с молодым отпрыском одной старинной и знатной семьи в Чарльстоне. После свадьбы здоровье ее подруги сразу сильно пошатнулось. Теперь она была уже настоящим инвалидом, жила в одиночестве в старой полуразрушенной усадьбе, не видя никого, кроме черных слуг, и призывала смерть, которая одна могла принести ей избавление.
– Конечно, я не знаю, но, может быть… может быть, это была та болезнь, о которой вы говорите. Никто из моих близких не решился бы сказать мне это. Впрочем, я не поручусь вам, что они сами знали что-нибудь. Случилось это перед самой моей свадьбой, и вы поймете, конечно, какое тяжелое впечатление произвело на меня такое несчастье. В это же время я случайно прочла кое-что в одном журнале, и мне пришло в голову, что… что, может быть, мой жених… что, пожалуй, кому-нибудь следовало бы расспросить его, вы понимаете…
Она умолкла, щеки ее запылали при воспоминании о бывшем волнении, к которому теперь присоединилось новое чувство. Существуют ведь болезни души, точно так же как болезни тела, и одна из них называется ложная стыдливость.
– Я понимаю, – успокоила я ее. – Вы, безусловно, имели полное право побеспокоиться об этом.
– Я попробовала заговорить об этом с тетей Вариной, затем написала дяде Базилю и попросила его написать, в свою очередь, Дугласу. Сначала он ответил отказом и решился исполнить мою просьбу лишь после того, как я пригрозила ему, что обращусь к отцу.
– Что же вы узнали?
– Что? Мой дядя написал, и Дуглас очень любезно ответил ему, что он прекрасно понимает мою тревогу, но что все в порядке, и мне нечего беспокоиться. Я никогда не думала, что стану рассказывать кому-нибудь об этом инциденте.
– Множество людей рассказывали мне подобные вещи, – ответила я, чтобы успокоить ее, затем после паузы добавила: – Но объясните мне, как вы могли связывать мысль об этой болезни с замужеством, не зная, в чем состоит суть брака?
Сильвия ответила, глядя на меня широко раскрытыми невинными глазами:
– Я понятия не имела о том, каким образом эта болезнь передается. Я думала, что ею можно заразиться через поцелуи…
Меня снова поразила мысль о том, как ужасен этот предрассудок, называемый ложной стыдливостью. Разве можно представить себе что-либо губительнее запрета, налагаемого на подобные вопросы? Здесь ставится на карту все будущее: здоровье – умственное и физическое – и само существование нации. Какой злой враг мог внушить нам, что мы чувствовали себя преступниками, когда заговариваем на эту тему?
Наша близость все увеличивалась, и наконец настал день, когда Сильвия рассказала мне о своем замужестве. Она согласилась выйти за Дугласа, потому что потеряла Франка Ширли, и сердце ее было разбито. Она не представляла себе, что сможет когда-нибудь полюбить другого человека.
Не зная, что такое брак, она без большой борьбы подчинилась уговорам семьи, имея в виду лишь ее благо. Родные говорили ей, что любовь придет потом, а Дуглас умолял дать ему возможность заслужить эту любовь. Сильвия представила себе, сколько добра она сможет сделать на деньги мужа как для своих близких, так и для тех, кого она очень неопределенно называла «бедные». И вот теперь она все больше убеждалась, что способна сделать для них лишь очень немногое.
– Я не могу назвать своего мужа скупым, – сказала она. – Напротив, стоит мне только намекнуть ему, и я немедленно получаю все, что захочу. У меня есть дома в самых разнообразных углах Америки: он дал мне carte blanche открывать счета в любом городе обоих полушарий. Если кому-нибудь из моих родных нужны деньги, я получаю их без всяких затруднений. Но если я прошу у него деньги для личных расходов, то он сейчас же спрашивает, что я буду с ними делать, и тут я натыкаюсь на каменную стену его убеждений.
Вначале столкновение с этой стеной только изумляло и огорчало Сильвию. Но с помощью Веблена и моей особы она поняла, в чем дело. Дуглас ван Тьювер тратил деньги по определенной системе: траты, которые шли на поддержание его общественного положения или усиливали престиж, мощь и славу имени ван Тьювера, делались легко и охотно. Деньги же, истраченные на всякие другие цели, считались выброшенными на ветер, а к таким расходам относилось все то, что носило идейный характер. И когда глава дома узнавал, что деньги его выбрасываются зря, он бывал недоволен.
– Только выйдя за него замуж, я поняла, какую праздную жизнь он ведет, – рассказывала она. – У нас дома все мужчины несут какие-нибудь обязанности. Одни управляют своими плантациями, другие занимают выборные должности. Но Дуглас никогда не делает ничего такого, что можно было бы назвать полезным.
Его состояние было вложено в недвижимое имущество нью-йоркского городского управления, как объяснила мне Сильвия. Там у него была небольшая контора, которую обслуживала целая армия клерков и агентов. Этот аппарат создали и наладили его предки, и от них он по наследству перешел к Дугласу. Все его обязанности сводились к тому, чтобы заходить туда на часок-другой раз в неделю, когда он бывал в городе, или подписывать пачку документов, когда он находился в отсутствии. Жизнь свою он проводил в обществе людей, которых общественный строй освободил от всяких обязанностей точно так же, как и его. И все они выработав себе в целом ряде поколений новые своеобразные обязательства, жили вне всякой связи с действительностью. В такую-то жизнь вступила благодаря замужеству Сильвия. Словно поток подхватил ее и унес от берегов. Пока она плыла, не размышляя, все шло хорошо, но стоило ей только почувствовать желание уцепиться за что-нибудь и остановиться, как течение с силой отрывало ее и мчало дальше, грозя утопить.
Постепенно мне удалось благодаря Сильвии заглянуть в тот странный мир, где протекала ее жизнь. Муж ее, по-видимому, находил мало удовольствия в этом существовании.
– Он считает обязательным для себя делать все то, что принято делать в его кругу, – говорила Сильвия. – Он больше всего боится выделиться. Я указала ему, что поступая так, как принято поступать в его кругу, он больше обращает на себя внимания, но он ответил мне, что всем еще более бросится в глаза, если она станет поступать иначе.
Мне понадобилось немало времени, чтобы как следует познакомиться с Сильвией, потому что мир, в котором она жила, постоянно заявлял на нее претензии. Как только она сообщала мне по телефону, что у нее есть свободные полчаса, я тотчас же спешила к ней. Обычно я заставала ее за переодеванием, она отсылала свою горничную, и мы беседовали до тех пор, пока она не опаздывала на какой-нибудь званый обед или вечер. А это было далеко не безразлично, потому что кто-нибудь мог почувствовать себя обиженным. Она всегда была, что называется, на иголках из страха совершить какой-нибудь промах. Впечатление получалось такое, точно в светском кругу все только и следят друг за другом. Существовала целая, точно разработанная наука о том, как следует обходиться с людьми, с которыми приходится встречаться, чтобы они не почувствовали себя оскорбленными, или, наоборот, обиделись бы, смотря по обстоятельствам.
Чтобы наслаждаться подобной жизнью, необходимо было верить в то, что она имеет смысл. Дуглас ван Тьювер верил; это была его религия, единственная, которую он исповедовал. Как верующий он был безупречен, но церковь являлась для него частью общественной рутины. Он гордился Сильвией и, по-видимому, с удовольствием показывался с ней. И Сильвия покорно бывала с ним повсюду, потому что она была его женой, а жены светских людей только для этого и существуют.
Она старалась, как могла, быть счастливой и убеждала себя, что она в самом деле счастлива. Однако она сознавала, что женщина, которая счастлива по-настоящему, не станет убеждать себя в этом.
С ранней юности она познала опьянение успехом и насладилась им. Я живо припоминаю рассказы о том, как сильно действовало на нее сознание собственной прелести. Это было самое страшное искушение, какое только может испытывать женщина.
– Входя в блестящую залу, я чувствовала, как по толпе пробегает трепет восторга. Во мне пробуждалось вдруг сознание собственного физического совершенства, оно окружало меня, точно сияние. Я вздыхала всей грудью и чувствовала, как волна ликующей радости пробегает по моим жилам. Я говорила себе: «Ты победительница! Приказывай, повелевай. Чело твое украшает венец женственности и красоты. Ты всемогуща, и весь мир принадлежит тебе».
Когда она произносила эти слова, голос ее трепетал от восторга. Я глядела на нее – о да, она была прекрасна! Па челе ее действительно сиял чудеснейший из всех венцов.
– Я видела других прекрасных женщин, – продолжала она и в голосе ее зазвучали гневные нотки. – Я видела, как они употребляют власть, которую дает им красота. Они удовлетворяют свое тщеславие тем, что обращают мужчин в рабов своих прихотей. Они швыряют деньги на пустые капризы, а кругом них распространяется ужасная язва нищеты. Я обращалась к отцу: «Папа, почему на свете так много бедняков? Почему у нас есть слуги, почему они должны работать на меня, а я ничего не делаю для них?» Он пытался втолковать мне, что таков закон общества. Мама говорила мне, что это воля Божья: «Бедные да будут с вами», «Слуги да повинуются своим господам» и так далее. Но библейские тексты не могли успокоить моих сомнений, и я по-прежнему продолжала чувствовать на себе какую-то вину. А теперь, когда я обращаюсь с теми же вопросами к Дугласу, он раздражается. Он учился в университете и имеет в запасе кучу ученых фраз, поэтому он говорит мне, что это «борьба за существование», «устранение непригодных» и т. д. Я возражаю ему, что мы сами сперва делаем людей непригодными, а потом устраняем их. Он не может понять, почему я не хочу соглашаться с тем, что говорят ученые люди, почему я продолжаю допытываться и терзаюсь этими вопросами.
Она замолкла и прибавила немного погодя:
– Мне кажется, он боится, как бы я не узнала чего-то, что он хотел бы скрыть от меня. Он заставил меня обещать, что я не увижусь больше с миссис Фросингэм. – Она засмеялась. – О вас я ничего не сказала ему.
Я, разумеется, выразила надежду, что она сохранит нашу тайну.
Все это время я усиленно работала в нашем комитете по охране детского труда. Мы готовились вынести на текущую сессию парламента чрезвычайно важный билль по этому вопросу, и я употребляла все силы на то, чтобы подготовить для него почву в обществе. Я произносила речи всюду, где могла найти слушателей, писала письма в газеты и рассылала по спискам соответствующую литературу. Я ломала себе голову, отыскивая новые пути для агитации, и в такие минуты невольно обращалась мыслью к Сильвии. Как много она могла бы сделать для нас, если бы захотела!
Я никому не давала пощады в этом отношении и меньше всего самой себе. Вы поймете поэтому, что мне нелегко было устранить ее от этой работы. Мое знакомство с Сильвией ни для кого не было тайной, и все в нашем комитете ждали от него каких-нибудь результатов.
– А как насчет миссис ван Тьювер? – справлялось время от времени мое «начальство».
– Ах, если бы она только согласилась помочь нашему комитету печати! – вздыхала моя стенографистка.
Наконец наш законопроект был внесен в законодательную комиссию, место чрезвычайно опасное для всякого рода биллей. Я отправилась в Албани, чтобы прозондировать почву. Там я встретила полсотни законодателей, из которых не больше полдюжины по-человечески интересовались нашим вопросом. От остальных же легко было впасть в полное уныние. Где была та сила, которая могла расшевелить их, заставить их забыть о своих личных маленьких выгодах и ради общего блага подняться над частными интересами. Где была эта сила? Я вернулась в Нью-Йорк с твердым намерением во что бы то ни стало отыскать эту силу и, поговорив с членами нашего комитета, решилась пожертвовать моей Сильвией, чтобы как-нибудь спасти положение.
Я знала, как мне поступить, чтобы заставить ее принять участие в нашем деле. До сих пор она только слышала речи о социально несправедливости и читала о ней в книгах, но никогда не сталкивалась с этим злом непосредственно лицом к лицу. И вот я убедила ее пожертвовать одним утром и осмотреть самой место труда. Мы отвергли автомобиль вместе с царственными мехами и бархатом. Сильвия надела простой темно-синий костюм и отправилась со мной по подземке, как обыкновенная смертная. Мы осмотрели картонажные фабрики, фабрики искусственных цветов, дома с дешевыми квартирами, где целые семьи по пятнадцать – шестнадцать часов в сутки работают над изготовлением игрушек и все же зарабатывают слишком мало, чтобы вырастить из своих детей здоровых, хорошо развитых мужчин и женщин.
Она была Дантом, а я – Виргилием, и ад, по которому мы блуждали, открывал бесконечную вереницу измученных, мрачных, изможденных лиц женщин, истощенных, отупевших голодных детских лиц. Несколько раз мы останавливались, чтобы побеседовать с кем-нибудь их этих людей. Я знала там одну еврейскую девочку, у которой три сестры заживо сгорели во время пожара мастерской. Сама она выпрыгнула из окна четвертого этажа и каким-то чудом была спасена пожарным, который подхватил ее на руки. Она сказала, что видела человека, который поджигал здание; преступника задержали, но полиция почему-то упустила его. Тут мне пришлось объяснить Сильвии суть той замечательной системы извлечения добавочных доходов, которая известна под названием «Арсон-Траст». По сведениям правительства, пожары ежегодно уничтожают имущество на четверть миллиарда долларов, а владельцы получают огромные страховые суммы. Таким образом, организация пожаров может считаться делом доходным, а поджигатели составляют необходимую составную часть этой организации. Отсюда ясно, почему человеку, по вине которого сгорели три сестры этой девочки, дали возможность сбежать.
Девочка случайно расслышала мои слова, и я увидела, как ее печальные глаза устремились на Сильвию. Быть может, эта прекрасная женщина с нежным голосом казалась ей доброй волшебницей, которая явилась освободить ее бедных сестер от злых чар и наказать злодея. Сильвия отвернулась, и я заметила, что она ищет свой носовой платок. Когда мы ощупью спускались по темной лестнице, она схватила меня за руку и прошептала:
– Какой ужас! Какой ужас!
Впечатление оказалось гораздо сильнее, чем я ожидала. Когда мы возвращались домой, она не только обещала мне сделать все, что сможет, но и заявила, что положит предел безрассудным тратам мужа. Он собирался устроить месяца через два грандиозный костюмированный бал, который должен был явиться настоящим событием сезона, поддержать славу имени ван Тьюверов и дать возможность другим людям выбросить сотни тысяч долларов.
Когда мы возвращались домой в грохочущей подземке, Сильвия сидела возле меня, напряженно выпрямившись. Она была очень взволнованна и уверяла, что если этот бал состоится, то он будет происходить в отсутствие хозяйки.
Я старалась ковать железо, пока оно было горячо, и получила от нее разрешение внести ее имя в наш комитетский список. Затем она обещала мне выкроить свободное время, чтобы принять активное участие в нашей работе.
– В чем заключаются обязанности члена вашего комитета?
– Во-первых, – сказала я, – он должен знакомиться с условиями, в которых работают дети, как мы сделали это сегодня, а затем как можно шире распространять эти сведения.
– А как это делается?
– Да вот, например, сейчас наш билль будет разбираться в законодательной комиссии. Помните, я уже говорила вам, что было бы хорошо, если бы вы выступили там.
– Да, – тихо произнесла она, и я догадалась, что она подумала в эту минуту: «А что скажет он?»
Лишь только имя Сильвии появилось в наших списках и в некоторых изданиях комитета, как события начали быстро развертываться. Дня через два к нам явился репортер. Неужели правда, осведомился он, что миссис ван Тьювер заинтересовалась нашей работой? Не буду ли я так любезна сообщить ему кое-какие подробности, которые публика, разумеется, пожелает знать.
Я подтвердила, что миссис ван Тьювер действительно вступила в наш комитет. Она сочувствовала нашей работе и охотно шла нам навстречу. Вот и все. Согласится ли она дать интервью? Я ответила, что она, наверное, не согласится. В таком случае, быть может, я расскажу ему, как это вышло, что она заинтересовалась вопросом о детском труде?
– Ведь этим вы содействуете агитации в прессе, – дипломатически добавил репортер.
Я вышла в другую комнату и вызвала Сильвию по телефону.
– Настало время для вас принять боевое крещение, – сказала я.
– Но я не хочу, чтобы мое имя появилось в газетах! – воскликнула она. – Ведь не станете же вы советовать мне что-либо подобное.
– Я не вижу возможности избежать этого. Ваше имя уже известно, и если репортер ничего не узнает от нас, то он возьмет нашу литературу, призовет на помощь собственное воображение и опишет ваши подвиги.
– И поместит мой портрет? – в ужасе воскликнула она.
Я не могла сдержать смеха.
– Это вполне возможно.
– О, но как отнесется к этому мой муж? Он, несомненно, скажет: «Говорил я вам, что этим кончится».
Я по собственному горькому опыту знала, как неприятно слышать от мужа подобные вещи. Но это не казалось мне достаточной причиной, чтобы складывать оружие.
– Дайте мне время обдумать это, – сказала Сильвия. – Уговорите его подождать до завтра, а я тем временем успею поговорить с вами.
– Итак, дело было решено. Я, кажется, не солгала Сильвии, сказав ей, что ни один член комитета не станет протестовать, если цели, к которым он стремится, привлекут внимание печати. Все комитеты ставят целью главным образом оказывать влияние на прессу. И она не может ожидать, чтобы издатели и читатели изменили вдруг свою точку зрения на этот предмет.
– Позвольте мне рассказать репортеру о вашей поездке по городу, – посоветовала я. – С этой темы мне легко будет перевести разговор на законопроект, который как раз стремится искоренить все эти ужасы. Вам, разумеется, это не может повредить.
Она согласилась, но с тем условием, чтобы разговор шел не от ее лица.
– И, пожалуйста, не позволяйте им делать из меня романтическую героиню! – воскликнула она. – Мой муж ненавидит это больше всего.
Неужели, подумала я, он сам не находит ее романтичной, когда она, сидя в великолепном экипаже, катается в центральном парке под восторженными взглядами толпы?
Но я не сказала этого и, простившись с ней, вернулась к своему репортеру. Я взяла с него клятву, что он не станет употреблять чересчур ярких красок, описывая Сильвию, и должна сказать, что он сдержал свое слово. Заметка появилась на следующее утро; в очень сдержанном тоне в ней сообщалось, что миссис Дуглас ван Тьювер заинтересовалась реформой детского труда. Автор заметки описал с моих слов несколько мест, которые она посетила, и привел кое-какие факты, особенно поразившие ее. Затем он упомянул о нашем комитете и его работе, о нашем проекте билля и о необходимости употребить всю энергию на то, чтобы добиться голосования билля в текущей сессии. Это был великолепный «бум» для нашего дела, и весь комитет ликовал по поводу этого успеха.
Но неудобство гласности заключается в том, что, как бы энергично вы не сдерживали вашего интервьюера, вам все равно не удастся обуздать тех, кто будет пользоваться его материалом. Репортеры вечерних газет явились за более детальными сведениями и ясно дали понять, что желают узнать подробности относительно самой миссис ван Тьювер. Я отвечала им очень сдержанно и дипломатично обошла многие вопросы, но они сами придумали на них ответы и поместили портрет Сильвии наряду с изображениями других деятелей нашего комитета.