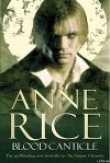Текст книги "Вампир Арман"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Когда же остальных, включая Рикардо, все-таки охватывала дневная дремота – как правило, такое случалось в особенно жаркие летние дни, – я выбирался на улицу и нанимал гондолу. Я лежал на спине и смотрел в небо, пока мы проплывали по каналу в сторону залива, а на обратном пути закрывал глаза и старался расслышать самые тихие вскрики, доносившиеся из погруженных в покой сиесты зданий, шелест водорослей, биение воды о подгнившие фундаменты, плач чаек над головой. Меня не раздражали ни мошки, ни запах, поднимавшийся от поверхности каналов.
Однажды днем я не вернулся домой к назначенному для работы и занятий времени – я забрел в таверну послушать музыкантов и певцов. А в другой раз я попал на представление, которое давали на открытых подмостках посреди церковной площади. Никто не сердился на меня за отлучки. Никому ни о чем не докладывали. Никто не устраивал проверки знаний ни мне, ни другим ученикам.
Иногда я спал целый день и просыпался лишь тогда, когда мне самому того хотелось. Необычайно приятно было, вдруг пробудившись, обнаружить господина за работой – либо в студии, где он, стоя на лесах, писал большую картину, либо рядом с собой, за столом в спальне, самозабвенно погруженного в свои записи.
В любое время суток повсюду в изобилии стояли блюда с едой: блестящие грозди винограда, разрезанные на куски зрелые дыни, восхитительный хлеб из муки мелкого помола со свежайшим маслом. Я ел черные оливки, мягкий сыр и свежий лук-порей из садика на крыше. Молоко в серебряных кувшинах всегда было холодным.
Мастер никогда не ел. Это знали все. Днем он всегда отсутствовал. О Мастере никогда не говорили без почтения. Он умел читать в душах мальчиков. Мастер отличал добро от зла и всегда понимал, когда его обманывают. Наши мальчики были хорошими. Иногда кто-то приглушенным голосом упоминал о плохих мальчиках, которых практически сразу же выгоняли из дома. Но никто даже в мелочах не обсуждал Мастера. Никто не говорил о том, что я сплю в его постели.
В полдень мы все вместе обедали – жареной птицей, нежным барашком или толстыми сочными ломтями говядины.
Учителя приходили одновременно по трое или четверо, чтобы обучать небольшие группы подмастерьев. Кто-то работал, кто-то учился.
Из класса, где зубрили латынь, я мог свободно перейти в класс, где изучали греческий. Иногда я листал сборник эротических сонетов и читал некоторые из них, как умел, пока на помощь не приходил Рикардо. Вокруг него тут же собирались другие ученики, и начиналось бурное веселье, а учителям приходилось ждать, пока все успокоятся.
При таком попустительстве я делал большие успехи. Я быстро учился и с легкостью отвечал практически на любые произвольно заданные Мастером вопросы и в свою очередь задавал свои, те, которые меня волновали в тот или иной момент.
Четыре из семи ночей в неделю Мастер посвящал рисованию, обычно начиная с полуночи и вплоть до своего предрассветного исчезновения. Ничто не в силах было оторвать его от работы.
С поразительной легкостью и ловкостью, как огромная белая обезьяна, он поднимался по лесам и, небрежно уронив с плеч свой алый плащ, выхватывал из рук мальчика приготовленную кисть. Рисовал он так самозабвенно и неистово, что на нас, изумленно следивших за каждым его движением, расплескивалась краска. Он был истинным гением, и всего лишь за несколько часов на холсте оживали потрясающей красоты пейзажи или до мельчайших деталей выписанные группы людей.
Работая, Мастер всегда что-нибудь напевал вслух. Рисуя по памяти или на основе своего воображения портреты великих писателей или героев, он громко называл для нас их имена. Он обращал наше внимание на краски, которыми пользовался, на контуры и линии, на законы перспективы, позволявшие создавать едва ли не осязаемые изображения и помещать их в казавшиеся абсолютно реальными сады, дворцы, залы...
Мальчикам поручалось дорисовать наутро только некоторые детали: цветную драпировку, тон крыльев, крупные части тел персонажей, которым впоследствии – пока масляная краска еще будет оставаться подвижной – Мастер собирался придать бо′льшую выразительность. Сияющие полы дворцов прежних эпох по нанесении им последних штрихов превращались в настоящий мрамор, попираемый покрасневшими круглыми пятками его философов и святых.
Работа непроизвольно затягивала нас. В палаццо оставались десятки незаконченных полотен и фресок, настолько жизненных, что они казались нам вратами в другой мир.
Одареннее всех среди нас был Гаэтано, один из самых младших. Но любой из мальчиков, за исключением меня, мог сравняться с учениками из мастерской любого художника, даже с мальчиками Беллини.
Иногда в палаццо устраивали приемы. Перспектива принимать гостей вместе с Мастером заставляла Бьянку сиять от радости, и она приходила в окружении множества слуг, чтобы исполнить обязанности хозяйки дома. Мужчины и женщины из самых благородных домов Венеции стремились попасть на такие приемы, чтобы увидеть творения Мастера. Его талантом восхищались все. Прислушиваясь в такие дни к разговорам гостей, я выяснил, что Мастер почти ничего не продает, что практически все его работы остаются в стенах палаццо и что он создал собственные варианты самых прославленных сюжетов – от школы Аристотеля до распятия Христа. Христос... Их Христос был кудряв, розовощек и мускулист; их Христос представал в облике самого обычного человека, а иногда походил на Купидона или Зевса...
Тот факт, что я не умел рисовать так же хорошо, как Рикардо и остальные, а потому половину времени довольствовался тем, что держал им горшки, мыл кисти и затирал места, требовавшие исправления, ничуть меня не расстраивал. Я не хотел рисовать. Просто не хотел. При одной мысли о необходимости изобразить что-либо у меня тряслись руки, а в животе все сворачивалось.
Я предпочитал разговоры, шутки, предположения о том, почему наш Мастер не берет заказов, хотя к нему ежедневно приходят письма, приглашающие принять участие в конкурсе на создание той или иной фрески для герцогского дворца или роспись одной из тысячи церквей на острове.
Я часами наблюдал, как холсты превращаются в красочные картины. Я вдыхал запах лаков, пигментов, масел.
Иногда мной овладевала злость, вгонявшая меня в ступор, но вызвана она была отнюдь не отсутствием мастерства.
Меня мучило что-то другое – нечто связанное с фривольными позами нарисованных фигур, с их сияющими розовыми лицами, с кипенными облаками на раскинувшемся над их головами небе, с пушистыми ветвями темных деревьев.
Столь разнузданное изображение природы казалось мне безумием. С тяжелой головой я в одиночестве скитался по набережным, пока не нашел старую церковь, а в ней – позолоченный алтарь с суровыми узкоглазыми святыми, мрачными, осунувшимися, застывшими: наследие Византии, подобное тому, что я увидел в Сан-Марко во время своей первой прогулки по городу. С благоговением смотрел я на эти свидетельства старины, и у меня болела, болела, нестерпимо болела душа. Когда меня нашли мои новые друзья, я лишь тихо выругался и продолжал упрямо стоять на коленях, не подавая вида, что знаю об их появлении. Я заткнул уши, чтобы не слышать их смех. Как они смеют смеяться в пустой церкви, где измученный Христос льет кровавые слезы и кровь черными жуками сочится из его ран?
Иногда я засыпал прямо перед старинными алтарями. Я убегал от своих товарищей. На сырых холодных камнях я чувствовал себя одиноким и счастливым. Я воображал, будто слышу, как под полом журчит вода.
Я нанял гондолу до Торчелло и там отыскал великий старинный собор Санта-Мария Ассунта, прославленный своей мозаикой, – по мнению некоторых, как произведение древнего искусства не менее великолепной, чем мозаики Сан-Марко. Я прокрался под низкие своды, разглядывая древний золотой иконостас и мозаику апсиды. Высоко наверху, в дальнем изгибе апсиды, стояла Дева, Теотокос, Богоматерь. На ее лице застыло строгое, я бы даже сказал – недовольно-мрачное выражение. На левой щеке блестела слеза. В руках она держала младенца Иисуса, а также пеленку, символ Mater Dolorosa.
Несмотря на то что при взгляде на эти образы у меня застывала душа, я чувствовал, что они мне близки. Голова кружилась, а от царящей на острове жары и тишины, повисшей в соборе, сводило живот. Но я оставался на месте. Я бродил перед иконостасом и молился.
Я был уверен, что здесь меня никто не найдет. К закату я окончательно заболел. Я знал, что у меня жар, но забился в самый дальний угол церкви и нашел успокоение, распластавшись ниц на холодном каменном полу. Поднимая голову, я видел перед собой пугающие сцены Страшного Суда – души, приговоренные к аду. Я был уверен, что заслужил эти муки.
За мной пришел мой господин. Как мы оказались в палаццо, я не помню. Такое впечатление, что уже через несколько секунд он уложил меня в постель и мальчики протирали мне лоб прохладной тканью. Меня заставили выпить воды. Кто-то сказал, что у меня лихорадка, а другой голос приказал ему замолчать...
Мастер остался дежурить возле меня. Мне снились плохие сны, но, проснувшись, я не мог их вспомнить. Перед рассветом Мастер поцеловал меня и нежно привлек к себе. Никогда еще я столь сильно не любил холодную, твердую плоть своего господина, как в те минуты, когда, сгорая в лихорадке, обнимал его и из последних сил прижимался щекой к его лицу.
Он дал мне выпить что-то горячее и острое из подогретой чаши, потом поцеловал меня и заставил сделать еще несколько глотков. Мое тело наполнил целительный огонь.
Однако к моменту его возвращения на следующую ночь у меня опять началась лихорадка. Я не столько спал, сколько в каком-то страшном полусне бродил по ужасным темным коридорам и не мог найти ни одного теплого или чистого места. У меня под ногтями появилась земля. В какой-то момент мне привиделась лопата, я испугался, что меня засыплют землей, и заплакал.
Рикардо все время оставался рядом и держал меня за руку, говоря, что скоро наступит ночь и тогда непременно придет Мастер.
– Амадео... – услышал я наконец голос нашего господина. Он поднял меня на руки, совсем как маленького ребенка.
У меня в голове вертелось множество вопросов. Я умру? Куда меня несет Мастер, закутав в бархат и меха? Зачем?
Мы оказались в какой-то венецианской церкви, в окружении новых, современных икон. Горели все свечи. Молились люди. Не спуская с рук, он развернул меня лицом к гигантскому алтарю и велел внимательно на него посмотреть.
Прищурившись, так как у меня болели глаза, я подчинился и увидел наверху Деву, коронуемую ее возлюбленным сыном, царем Иисусом.
– Посмотри, какое у нее милое, живое лицо, – прошептал Мастер. – Она сидит в той же позе, что и люди в этой церкви. А ангелы... Ты только взгляни на них – счастливые мальчики, сбившиеся в стайки вокруг колонн. Посмотри на их умиротворенные и кроткие улыбки. Вот рай, Амадео. Вот добро.
Я обвел высокую картину сонным взглядом.
– Видишь апостола, который шепчется со своим соседом? – тем временем продолжал Мастер. – Он выглядит совершенно естественно – так мог бы вести себя обычный человек на подобной церемонии. А наверху, смотри, Бог Отец с удовлетворением взирает на эту сцену.
Я попытался сформулировать вопросы, объяснить, что такое сочетание плотского и блаженного невозможно, но не смог подобрать достаточно красноречивых слов. Нагота маленьких ангелов была очаровательна и невинна, но я в это не верил. Это ложное верование Венеции, ложное верование Запада, ложь самого дьявола.
– Амадео, – старался убедить меня Мастер, – не бывает добра, основанного на страданиях и жестокости; не бывает добра, построенного на лишениях маленьких детей. Амадео, из любви к Богу повсюду произрастает красота. Посмотри на эти краски: они созданы Богом.
Чувствуя себя в его объятиях в безопасности, обхватив его руками за шею, я постепенно впитал в свое сознание детали огромного алтаря. Я вновь и вновь обводил его взглядом, стараясь не упустить ни одного мелкого штриха.
Я указал пальцем на льва, спокойно сидевшего у ног святого Марка, на лежащую перед святым книгу, страницы которой он листал, – казалось, они действительно переворачиваются... А лев выглядел совершенно домашним и кротким, как дружелюбный пес у очага.
– Это рай, Амадео, – повторил он. – Что бы ни вбило прошлое тебе в душу, забудь об этом.
Я улыбнулся и медленно, ряд за рядом, осмотрел фигуры стоящих святых, а потом тихо рассмеялся и доверительно шепнул господину на ухо:
– Они разговаривают, бормочут, болтают друг с другом, совсем как венецианские сенаторы.
В ответ послышался его приглушенный, сдержанный смех:
– О, я думаю, сенаторы ведут себя пристойнее, Амадео. Я никогда не видел их в таких фривольных позах, но это, как я уже говорил, и есть рай.
– Нет, господин, посмотри туда. Святой держит икону, прекрасную икону. Господин, я должен тебе рассказать...
Я замолчал. Меня бросило в жар, а все тело покрылось капельками пота. Глаза жгло, как огнем, и я ничего не видел.
– Мастер... – Ко мне наконец вновь вернулся голос. – Я в диких степях. Я бегу. Я должен спрятать ее среди деревьев...
Откуда ему было знать, о чем идет речь, – что я говорю об отчаянном побеге в прошлом, связное воспоминание о котором осталось в моей памяти, о побеге через степь со священным свертком в руках, со свертком, который нужно развернуть и укрыть под сенью деревьев.
– Посмотри, господин, икона...
Мне в рот полился мед. Густой и сладкий. Он тек из холодного источника, но это не имело значения. Я узнал этот источник. Мое тело превратилось в кубок, который встряхнули, чтобы взболтать его содержимое и растворить всю горечь, оставив лишь мед и дремотное тепло.
Когда я открыл глаза, то увидел, что вновь лежу на нашей кровати. Жар как рукой сняло. Лихорадка прошла. Я перевернулся и приподнялся, опираясь на подушки.
Мой господин сидел у стола. Он перечитывал то, что, видимо, только что написал. Его светлые волосы были перевязаны лентой. Ничем не скрытое лицо с точеными скулами и гладким узким носом казалось на удивление красивым. Он посмотрел на меня и улыбнулся.
– Не гоняйся за воспоминаниями, – сказал он, словно продолжая разговор, который мы не прерывали, даже пока я спал. – Не ищи их в церкви Торчелло. Не ходи к мозаике Сан-Марко. Со временем все эти пагубные вещи вернутся сами собой.
– Я боюсь вспоминать, – прошептал я.
– Знаю, – ответил он.
– Откуда ты знаешь? – спросил я его. – Это скрыто в моем сердце. Она только моя, эта боль.
Мне было стыдно за свою дерзость, однако, сколько бы я ни раскаивался, моя дерзость проявлялась теперь все чаще и чаще.
– Ты действительно во мне сомневаешься? – спросил он.
– Твои достоинства неизмеримы. Все мы это знаем, но никогда не обсуждаем, и мы с тобой тоже никогда не говорим о них.
– Так почему ты не хочешь довериться мне, вместо того чтобы цепляться за обрывки собственных воспоминаний?
Он поднялся из-за стола и подошел к кровати.
– Пойдем, – сказал он. – Лихорадки больше нет. Следуй за мной.
Он повел меня в одну из многочисленных библиотек в палаццо, в неубранное помещение, где в беспорядке валялись рукописи. Он редко работал в этих комнатах, а точнее, практически никогда. Он оставлял там свои новые приобретения, чтобы мальчики занесли их в каталог, а позже относил то, что считал необходимым, в нашу комнату.
Порывшись на полках, он отыскал нужную папку, большую, потрепанную, из старой желтой кожи, с протершимися углами. Белые пальцы разгладили большой лист пергамента. Он положил его на дубовый письменный стол так, чтобы мне было видно.
Картина, старинная...
Я увидел, что на ней изображена огромная церковь с золотыми куполами, необыкновенно величественная и красивая. На ней горели буквы. Они были мне знакомы, но я не мог заставить себя вспомнить их и тем более произнести вслух.
– Киевская Русь, – сказал вместо меня Мастер.
Киевская Русь...
Мной овладел невыразимый ужас.
– Она разрушена, сожжена! – непроизвольно вырвалось у меня. – Такого места нет! В отличие от Венеции его не существует. Оно разрушено, там царят холод, грязь, безнадежное отчаяние!.. Да, именно эти слова подходят больше всего...
У меня закружилась голова. Я почувствовал, что вижу путь к избавлению от безысходной скорби, но он был холоден, темен и извилист, с множеством поворотов, и в конце концов вел к миру вечной тьмы, где единственное, чем пахнут руки, кожа, одежда, это сырая земля.
Я попятился и убежал от Мастера.
Я промчался по всему палаццо.
Буквально слетев вниз по лестнице, я пронесся по темным комнатам первого этажа, выходившим на канал...
Вернувшись, я нашел его одного в спальне. Он, как всегда, читал – свою любимую в последнее время книгу: «Утешение философией» Боэция – и, когда я вошел, бросил на меня спокойный взгляд.
Я стоял, погруженный в размышления о своих болезненных воспоминаниях.
Я не мог их поймать. Да будет так. Они унеслись в небытие, как листья по аллее, – листья, которые время от времени непрерывным потоком падают, сорванные ветром, мимо окрашенных в зеленый цвет стен из маленьких садиков, устроенных на крышах домов.
– Я не хочу... – пробормотал я.
Существует лишь один Бог во плоти. Мой господин, мой Мастер.
– Когда-нибудь к тебе все вернется, когда у тебя хватит сил этим пользоваться, – сказал он, захлопывая книгу. – А пока... Позволь мне тебя утешить.
О да, к этому я был готов как никогда.
3
Как же долго тянулись без него дни! К наступлению ночи, когда зажигали свечи, я сжимал руки в кулаки. Бывали ночи, когда он вообще не появлялся. Мальчики говорили, что он уехал по делам чрезвычайной важности и что в доме все должно идти так же, как и при нем.
Я спал в его пустой кровати, и никто не задавал мне вопросов. Я обыскивал весь дом в надежде обнаружить хоть какие-то следы его пребывания. Меня мучили сомнения. Я боялся, что он больше никогда не вернется.
Но он всегда возвращался.
Едва заслышав на лестнице знакомые шаги, я бросался в его объятия. Он подхватывал меня, обнимал, целовал и после этого позволял нежно прижаться к его груди. Он словно не ощущал моего веса, хотя с каждым днем я становился, как мне казалось, все выше и тяжелее.
Мне суждено было навсегда остаться тем семнадцатилетним мальчиком, которого ты видишь перед собой. Но я не понимал, как мужчина такого изящного, как он, сложения мог с такой легкостью поднимать меня и держать на руках. Я не пушинка, никогда ею не был. Я сильный.
Больше всего мне нравилось – если приходилось делить его общество с остальными, – когда он читал нам вслух.
Поставив вокруг канделябры, он приглушенным приятным голосом читал «Божественную комедию» Данте, или «Декамерон» Боккаччо, или же – по-французски – «Роман о Розе» и стихи Франсуа Вийона. Он рассказывал о новых языках, которые мы должны понимать наравне с латынью и греческим. Он предупреждал, что литература отныне не ограничивается классическими произведениями.
Мы молча слушали Мастера, сидя на подушках, а иногда прямо на голом мраморе. Некоторые стремились встать как можно ближе к нему.
Иногда Рикардо под аккомпанемент лютни напевал мелодии, которым его научил преподаватель, и даже непристойные песни, услышанные на улицах. Он скорбно пел о любви и заставлял нас плакать. Мастер смотрел на него любящими глазами.
Я не испытывал никакой ревности. Только я делил с господином ложе.
Иногда он даже усаживал Рикардо у двери в спальню, чтобы он нам поиграл. Послушный Рикардо никогда не просил впустить его внутрь.
Когда за нами опускались драпировки, у меня бешено билось сердце. Господин стягивал с меня тунику, иногда даже весело разрывал ее, словно это были жалкие лохмотья.
Я опускался под ним на расшитые атласные покрывала; я раздвигал ноги и ласкал его коленями, немея и дрожа, когда он чуть согнутыми пальцами касался моих губ.
Однажды я лежал в полусне. Воздух стал розовато-золотистым. В комнате было тепло. Я почувствовал, как его губы прижались к моим и внутрь, как змея, проник холодный язык. Мой рот наполнила какая-то жидкость, густой пылающий нектар, такое сильнодействующее зелье, что оно распространилось по всему телу до кончиков пальцев. Я почувствовал, как оно постепенно спускается к самым интимным местам. Я горел как в огне.
– Господин, – прошептал я. – Что это было? Это еще приятнее поцелуев...
Он опустил голову на подушку и отвернулся.
– Дай мне это еще раз, господин, – сказал я.
Он давал, но только в те моменты, когда ему было угодно, по каплям, вместе с красными слезами, которые он иногда позволял мне слизывать с его глаз.
Кажется, так прошел целый год, прежде чем я вернулся как-то вечером домой, раскрасневшись от зимнего воздуха, нарядившись ради него в свои самые изысканные темно-синие одежды, в небесно-голубые чулки и в самые дорогие в мире, отделанные золотом туфли, – целый год, прежде чем я в тот вечер вошел, забросил свою книгу в угол спальни с выражением великой мировой усталости на лице, положил руки на бедра и свирепо посмотрел на него. Он сидел в своем высоком глубоком кресле с изогнутой спинкой и смотрел на угли в жаровне, поднеся к ним руки и наблюдая за языками пламени.
– Так вот... – дерзко начал я, откинув голову, очень по-светски, как искушенный венецианец, принц, окруженный на рыночной площади целой свитой жаждущих обслужить его купцов, школяр, перечитавший слишком много книг. – Так вот, здесь есть какая-то важная тайна, сам знаешь. Пора тебе все мне рассказать.
– Что? – спросил он довольно любезно.
– Почему ты никогда... Почему ты никогда ничего не чувствуешь? Почему ты обращаешься со мной как с куклой? Почему ты никогда...
Я впервые увидел, как он покраснел; его глаза заблестели, сузились, а потом широко раскрылись от подступивших красноватых слез.
– Мастер, ты пугаешь меня, – прошептал я.
– А что ты хочешь, чтобы я чувствовал, Амадео? – спросил он.
– Ты как ангел, как статуя, – сказал я, только на этот раз я словно вдруг протрезвел и дрожал. – Господин, ты играешь со мной, но твоя игрушка все чувствует. – Я приблизился к нему. Я дотронулся до его рубашки, намереваясь распустить шнуровку. – Позволь мне...
Он перехватил мою руку. Он поднес мои пальцы к губам и принялся ласкать их языком. Его глаза были устремлены прямо на меня.
«Вполне достаточно, – говорили они. – Я чувствую вполне достаточно».
– Я дам тебе все, что угодно, – умоляюще заговорил я, просовывая ладонь между его ног.
Он казался удивительно твердым. Ничего необычного в этом не было, но он не должен на этом останавливаться, он должен довериться мне.
– Амадео... – сказал он.
С необъяснимой силой он потянул меня за собой на кровать. Нельзя даже сказать, что он поднялся с кресла. Казалось, только что мы были здесь, а через мгновение упали на знакомые подушки. Я моргнул. Полог опустился за нами словно сам собой, под действием бриза, подувшего в открытое окно. Я прислушивался к голосам, доносившимся с канала, – так поют голоса Венеции, отражаясь от стен домов этого города дворцов.
– Амадео, – прошептал он, в тысячный раз прижимаясь губами к моему горлу, но на этот раз я почувствовал мгновенный укус, острый, резкий. Внезапно дернулась нить, сшивавшая мое сердце. Я словно перестал существовать... Осталось лишь ощущение того, что было у меня между ног. Его губы прильнули к моей шее, и нить порвалась еще раз, а затем еще, и еще, и еще...
У меня начались видения. Передо мной возникло какое-то новое, незнакомое место. Словно вернулись вдруг сны, которые я не в силах был вспомнить после пробуждения. Словно я ступил на дорогу, ведущую к жгучим фантазиям, посещавшим меня во снах, и только во снах...
Вот! Вот чего я от тебя хочу...
–Так получи же, – сказал я, бросив эти слова в почти забытое настоящее, плывя рядом с ним, чувствуя, как он дрожит, как возбуждается, как резко извлекает из глубин моей плоти некие нити, ускоряя биение моего сердца, едва ли не заставляя меня кричать, чувствуя, какое он испытывает наслаждение, как напрягается его спина, как трепещут и танцуют его пальцы, когда он изгибается, прижимаясь ко мне. Пей... пей... пей...
Наконец он оторвался от меня и повернулся на бок.
Лежа с закрытыми глазами, я улыбался. Я коснулся своего рта и почувствовал, что на нижней губе до сих пор осталась крошечная капля нектара. Я подобрал ее языком и погрузился в мечты.
Он тяжело дышал, все еще вздрагивал и был мрачен. А когда его рука нащупала мою, она тоже дрожала.
– Ах! – тихо воскликнул я, все еще улыбаясь, и поцеловал его в плечо.
– Я причинил тебе боль! – сказал он.
– Нет-нет, что ты, мой милый господин, – возразил я. – А вот я причинил тебе боль! Теперь ты мой!
– Амадео, ты играешь с огнем.
– А разве ты не этого хочешь, господин? Тебе что, не понравилось? Ты взял мою кровь и стал моим рабом!
Он засмеялся.
– Так вот как ты все извращаешь?
– М-м-м. Какая разница? Люби меня – и все.
– Никогда никому не рассказывай об этом. – В голосе его не слышалось ни страха, ни слабости, ни стыда.
Я перевернулся, подтянулся на локтях и посмотрел на него, на его спокойный профиль, повернутый в другую сторону.
– А что они сделают?
– Ничего, – ответил он. – Важно, что′ они подумают и почувствуют. А мне некогда объяснять им что-либо. – Он посмотрел на меня. – Будь милосерден и мудр, Амадео.
Я долго молча смотрел на него. Только постепенно я осознал, что мне страшно. На секунду мне даже показалось, что страх затмит теплоту этой сцены, ненавязчивое великолепие лучащегося света, проникающего сквозь занавеси, четких линий его гладкого лица, доброты его улыбки. Потом страх уступил место другой, более серьезной проблеме.
– Ведь ты вовсе не стал моим рабом, правда? – прошептал я.
– Ну почему же? – Он чуть было не засмеялся. – Я твой раб, если тебе обязательно нужно знать.
– А что произошло, что ты сделал, что случилось, когда...
Он приложил палец к моим губам.
– Ты думаешь, что я такой же, как остальные люди? – спросил он.
– Нет, – сказал я, но меня вдруг охватил страх, задушивший во мне обиду. Не в силах сдержаться, я порывисто обнял его и попытался уткнуться лицом в его шею. Однако плоть его была слишком твердой для этого. Тем не менее он обхватил рукой мою голову и поцеловал в макушку, а потом отвел назад мои волосы и просунул большой палец мне за щеку.
– Я хочу, чтобы когда-нибудь ты уехал отсюда, – сказал он. – Я хочу, чтобы ты ушел. Ты возьмешь с собой богатства и знания, которые я смогу тебе дать. С тобой останутся твои таланты и освоенные искусства: умение рисовать, умение сыграть любую музыку, какую я ни попрошу, – это ты уже можешь, – умение изящно танцевать. Ты заберешь свои достижения и отправишься на поиски тех драгоценных вещей, которые тебе нужны...
– Мне ничего не нужно – только ты.
– ...А когда ты будешь вспоминать об этих временах, когда в полусне по ночам ты будешь вспоминать меня, закрывая на подушке глаза, эти наши моменты покажутся тебе развратными и непонятными. Они покажутся тебе колдовством, выходками безумца, а теплая комната, в которой мы с тобой сейчас находимся, может превратиться в твоем воображении в затерянное хранилище мрачных тайн, и это причинит тебе боль.
– Я не уйду.
– Помни, что это была любовь, – продолжал он. – И что именно в этой школе любви ты смог залечить свои раны, снова научился говорить, даже петь, что здесь ты перестал быть запуганным, сломленным жизнью ребенком, от которого осталась только скорлупа... Ты возродился и подобно ангелу взлетел к небесам, расправив новые, более сильные и широкие крылья.
– А что, если я никогда не уйду по собственной воле? Ты выбросишь меня из окна, чтобы я взлетел или упал? Запрешь все ставни, чтобы помешать мне вернуться? Лучше запри, потому что я буду стучать, стучать, стучать, пока не упаду замертво. У меня не будет крыльев, чтобы улететь от тебя.
Он пристально всматривался в меня. Никогда еще я так долго не наслаждался его взглядом, никогда еще моим ищущим пальцам не позволялось так часто прикасаться к его губам.
Наконец он приподнялся рядом со мной и мягко прижал меня к кровати. Его губы, всегда нежно-розовые, как внутренние лепестки расцветающих белых роз, на моих глазах постепенно меняли цвет. Между ними показалась блестящая красная полоска. Постепенно расширяясь, эта полоска полностью окрасила тонкие линии губ, словно оставшееся на них вино, – только она, эта жидкость, сверкала... Губы его замерцали, а когда он приоткрыл их, красная жидкость вырвалась оттуда, как стремительно разворачивающийся язык.
Он приподнял мою голову. Я поймал ртом хлынувшую струю.
Мир выскользнул из-под меня. Я накренился и поплыл по течению с открытыми, но ничего не видящими глазами... А он тесно прижался губами к моему рту...
– Мастер, я от этого умру! – пытался прошептать я.
Я метался под его тяжестью, пытаясь найти опору в этой дремотной упоительной пустоте, дрожа и взлетая к вершинам блаженства. Мои конечности напрягались и вновь расслаблялись, вся моя плоть вытекала из него, из его губ через мои, она полностью растворялась в его дыхании и вздохах.
За этим последовал укол – крошечное и несоизмеримо острое лезвие пронзило меня до самых глубин души. Я извивался на нем, словно агнец на вертеле. О, это могло бы научить богов любви, что такое любовь. Вот оно, мое освобождение, – если только я сумею выжить!
Ослепший, дрожащий с головы до ног, я полностью слился с ним. Я почувствовал, как его рука прикрыла мне рот, и только тогда услышал собственные крики, теперь уже заглушенные.
Я обвил руками его шею, все крепче прижимая его к своему горлу.
– Ну же! Ну же! Ну же!..
Проснулся я уже днем.
Он давно ушел – этому раз и навсегда заведенному правилу он никогда не изменял. Я лежал в кровати один. Мальчики еще не заглядывали.
Я выбрался из постели и подошел к высокому узкому окну. Традиционные для архитектуры Венеции, такие окна не впускали в дома неистовую летнюю жару и преграждали путь неизбежно приносящимся с Адриатического моря холодным ветрам.
Я распахнул рамы с толстыми стеклами и, как делал это нередко, устремил взгляд на стены расположенных напротив моего убежища домов.
На верхнем балконе служанка вытряхивала пыль из тряпки. Я смотрел на нее с противоположной стороны канала. У женщины было багровое лицо, и казалось, что кожа на нем шевелится, словно покрытая тучами неких крошечных живых существ, например муравьев. Она ни о чем не подозревала! Я положил руки на подоконник и присмотрелся внимательнее. Понятно! Я видел жизнь, кипевшую внутри ее, работу плоти, делавшую подвижной каждую черточку ее лица.
Руки женщины производили особенно жуткое впечатление: узловатые, опухшие, каждая морщинка на них, каждая складочка была забита поднятой метлой пылью.