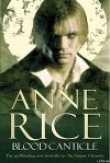Текст книги "Вампир Арман"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Единственное, чего я не видел, это лица моего господина. Я не видел, кто он такой. Я не видел его душу. Я не видел, что значит для него моя любовь или что значит его любовь для меня. Но это не имело значения. В действительности я осознал это только позже, когда пытался передать испытанные мной ощущения. Пока что важно было только понимание того, что означает дорожить остальными и ценить саму жизнь. Я осознал, что значило рисовать картины, – не рубиново-красные, кровавые и животрепещущие венецианские полотна, но старинные картины в древнем византийском стиле, которые когда-то, на редкость совершенные и безыскусные, выходили из-под моей кисти. Теперь я вспомнил, что в прошлом писал удивительные иконы, и увидел эффект, произведенный моими творениями... И мне казалось, что я буквально тону в этом огромном потоке информации. Ее накопилось так много, и тем не менее все это богатство было так легко воспринимать, что я почувствовал великую и окрыляющую радость.
Знания эти были сродни любви и красоте. И я вдруг осознал, что фактически все эти понятия – знания, любовь, красота – составляют единое целое.
Душа моя наполнилась торжеством и великим счастьем.
«Ну да, конечно, как же я не понял, ведь на самом деле все так просто!» – думал я.
Обладай я в тот момент телом, будь у меня глаза, я бы непременно заплакал. Но это были бы сладостные слезы. В действительности же моя душа пребывала, так сказать, вне пределов всего мелочного, обыденного, способного лишить воли. Я оставался спокойным, и знания, факты, то есть сотни и сотни мелких подробностей, которые, как прозрачные капли волшебной жидкости, проходили сквозь меня, наполняли меня и исчезали, уступая дорогу новым нитям этого водопада истины, внезапно поблекли.
Там, впереди, стоял стеклянный город, а за ним высилось голубое, как в полдень, небо. Только теперь его заполнили все существующие на свете звезды.
Я устремился к городу, причем так поспешно и целенаправленно, что задержать меня смогли только три человека.
Потрясенный до глубины души, я застыл на месте. Этих людей я знал. Они были священниками – монахами, старыми монахами из моей родной страны, которые умерли задолго до того, как я нашел свое призвание. Теперь я видел все это очень отчетливо, я знал их имена, знал, от чего они умерли. На самом деле это были святые покровители моего города и огромного монастыря с пещерами, где я раньше жил.
– Зачем вы меня держите? – спросил я. – Где мой отец? Он уже здесь, правда?
Не успел я задать этот вопрос, как увидел своего отца. Он выглядел точно так же, как и всегда: крупный мужчина в кожаных охотничьих одеждах, с взлохмаченной бородой и длинными каштановыми волосами, того же цвета, что и у меня. Его щеки покраснели от холодного ветра, а нижняя губа, отчетливо видная между густыми усами и бородой с проседью, насколько я помнил, была влажной и розовой. Глаза по-прежнему оставались ярко-синими. Он, как обычно, с доброй улыбкой помахал мне рукой. Он выглядел так, словно, невзирая на советы и предостережения, опять собрался поохотиться в степи. Он совершенно не боялся монголо-татарских налетов. В конце концов, при нем был большой лук, такой тугой, что натянуть его мог только он, с ним были его остро заточенные стрелы и огромный широкий меч, одного удара которого было достаточно, чтобы снести человеку голову с плеч. Словом, мой отец походил на мифического героя великих, поросших травой степных просторов.
– Отец, почему они меня держат? – спросил я.
Однако взгляд его вдруг стал пустым, улыбка погасла, а лицо утратило всякое выражение. Не прошло и минуты, как образ его поблек и рассеялся в воздухе. К моей глубочайшей, невыразимой печали, он исчез.
– Андрей, твое время еще не пришло, – сочувственно утешали меня стоявшие рядом монахи с длинными седыми бородами, облаченные в черные рясы.
Я чувствовал себя бесконечно несчастным. Мне стало так грустно, что я не в силах был произнести хоть слово в ответ. Я понял, что никакие мои возражения ничего не изменят, и один из монахов взял меня за руку.
– Ну вот, вечно с тобой так, – сказал он. – Что ж, спрашивай.
Он не шевелил губами, но в этом не было необходимости. Я слышал его очень отчетливо и знал, что он на меня не сердится. На такое он был не способен.
– Почему, – спросил я, – мне нельзя остаться? Почему вы не позволяете мне остаться, если я того хочу и если уж я сюда пришел?
– Подумай обо всем, что ты увидел. Ты знаешь ответ.
Должен признаться, что в то же мгновение я действительно понял ответ. Сложный и одновременно крайне простой, он был подсказан мне теми знаниями, которые я получил.
– Ты не сможешь унести эти знания с собой, – сказал монах. – Ты забудешь практически все, что здесь увидел. Но всегда помни общий урок: значение имеет только любовь – твоя любовь к другим, их любовь к тебе, любовь ко всему и вся в окружающей тебя жизни.
Его объяснение показалось мне чудесным и исчерпывающим! Это были не пустые слова, нет! Это было нечто безмерное, неуловимое, но столь всеобъемлющее, что все смертные преграды непременно должны были рухнуть перед лицом, казалось бы, простой истины.
Еще миг – и я вернулся в свое тело. Я вновь превратился в мальчика с каштановыми волосами, умирающего на кровати. Руки и ноги зудели, а когда я изогнулся, спину обожгла жуткая боль. Я по-прежнему горел, потел и корчился в муках, губы потрескались, оцарапанный о зубы язык распух.
– Воды... – попросил я. – Пожалуйста, дайте мне воды...
В ответ послышались тихие всхлипывания, перемежающиеся смехом и восклицаниями, выражавшими благоговейный восторг.
Они уже оплакивали меня, но, как оказалось, преждевременно. Я открыл глаза и посмотрел на Бьянку.
– Мне пока рано умирать.
– Что ты сказал, Амадео? – спросила она, наклоняясь и прижимаясь ухом к моим губам.
– Пока рано... – повторил я.
Мне принесли холодного белого вина с медом и лимоном. Я сел и выпил его маленькими глотками.
– Еще... – слабым голосом тихо попросил я, проваливаясь в сон.
Я вновь опустился на подушки и почувствовал, как Бьянка нежно прикладывает салфетку к моему лбу и опущенным векам. Какое чудесное милосердие! Как важно уметь приносить небольшое, но благородное успокоение, которое сейчас для меня, быть может, важнее всего в целом мире. Целый мир... Целый мир...
Я забыл, что именно видел на той стороне! Мои глаза распахнулись. Я отчаянно старался восстановить в памяти детали. И вспомнил монаха – так живо, словно мы только что разговаривали в соседней комнате. Он ведь сказал, что я не смогу вспомнить. А там было бесконечно много всего – неведомого, необъяснимого, такого, что подвластно разуму лишь моего господина.
Я закрыл глаза и заснул. Но видения не желали возвращаться. Жар не спадал, я чувствовал себя ужасно, однако все-таки дремал, смутно сознавая, что лежу на влажной горячей постели, под балдахином, что в воздухе разлита духота, что до слуха моего неясно доносятся голоса мальчиков и тихие наставления Бьянки. Рядом тикали мои часы – я узнавал их звук. Постепенно я почувствовал некоторое облегчение – а быть может, просто привык к ощущению жара и жажды и перестал обращать внимание на обильно выступивший по всему телу пот. Я лежал, дремал и безропотно ждал прихода Мастера.
«Мне столько нужно тебе рассказать, – думал я. – И прежде всего – про стеклянный город! Я должен объяснить, что когда-то я был...» Кем? Я не мог вспомнить. Художником – да. Но каким именно? Что я рисовал? И как меня звали? Андрей? Кто и когда дал мне это имя?
7
Шло время, и постепенно жаркую постель и душную комнату скрыла упавшая на них темная пелена небес, усыпанная мириадами звезд-часовых. Во всем своем великолепии они сияли над блестящими башнями стеклянного города, и в этом полусне, находясь во власти самой утешительной и благословенной из всех иллюзий, я услышал, как звезды запели мне песню.
Каждая звезда в бездонной пустоте неба имела собственное место в том или ином созвездии и издавала чудесный мерцающий звук, словно в глубине каждого пылающего шара брался грандиозный аккорд, а затем посредством некоего сверкающего круговращения разносился по всей вселенной.
Никогда мои земные уши не слышали такого звука. Но никакие слова, никакие описания не могут дать хотя бы приблизительное представление об этой воздушной и прозрачной музыке, об этой гармонии и праздничной симфонии.
«Господь мой, будь Ты музыкой, таким был бы Твой глас, и никакой разлад не смог бы восторжествовать над Тобой. Ею – чистейшим выражением Твоего непостижимого и чудесного замысла – Ты очистил бы мир от каждого тревожного шума. И пред ее громогласным совершенством померкла бы всякая банальность».
Такой была моя молитва, прочувствованная, в высшей степени личная, – молитва, произнесенная на древнем языке, пока я спал.
«Останьтесь со мной, прекрасные звезды, – умолял я, – и пусть я никогда не осмелюсь даже на попытку разгадать это слияние света и звука, а только отдамся ему, окончательно, без сомнений и вопросов».
Источая холодные царственные лучи, звезды увеличились до бесконечности, и ночь постепенно ушла – остался только великолепный свет, льющийся неизвестно откуда.
Я улыбнулся. Я вслепую пощупал губы и ощутил под пальцами собственную улыбку, а когда свет зажегся еще ярче и ближе, как будто стал целым океаном света, почувствовал, как по моему телу разливается спасительная прохлада.
– Не гасни, не уходи, не оставляй меня... – Мой горестный шепот был едва слышен. Я вжался дрожащей головой в подушку.
Но его время, время этого величественного и первичного света, истекло, свету предстояло померкнуть и оставить перед моими полузакрытыми глазами обыденно дрожащие свечи... Моим глазам предстали в полумраке только повседневные вещи: четки с рубиновыми бусинами и золотым крестом, вложенные в мою правую руку, или лежащий слева открытый молитвенник, страницы которого подрагивали от легкого дуновения ветра, рябь на гладкой тафте, натянутой на золотую раму...
Как же были красивы эти простые, заурядные вещи! Куда они ушли – моя милая сиделка с лебединой шеей и мои плачущие товарищи? Может быть, ночь утомила их и вынудила отправиться спать в другое место, дабы позволить мне в полной мере оценить тихие минуты одинокого бодрствования? Мой разум переполняли тысячи отчетливых воспоминаний.
Я открыл глаза. Никого не было, за исключением одной фигуры рядом со мной на кровати. Я ощутил на себе равнодушный, отстраненный и одновременно мечтательный взгляд холодных, гораздо более светлых, чем летнее небо, голубых глаз, казавшихся едва ли не гранеными.
Мастер! Сложив руки на коленях, он наблюдал за мной словно издалека, как будто ничто не могло потревожить величие его изваяния, и выглядел совершенно посторонним. Казалось, что его навсегда застывшее лицо никогда не знало улыбки.
– Безжалостный! – прошептал я.
– Нет, о нет, – сказал он, хотя губы его даже не шевельнулись. – Но расскажи мне еще раз эту историю. Опиши мне тот стеклянный город.
– Ах да, мы же о нем уже говорили, не так ли? О тех монахах, которые велели мне вернуться, и о старых картинах – они такие древние и, на мой взгляд, очень красивые. Понимаешь, они были созданы не руками, а вложенной в меня силой. Она входила в меня, а мне оставалось только взять кисть и с легкостью писать лики Богородицы и святых.
– Не отбрасывай от себя эти старые образы, – сказал Мастер, и снова его губы не дрогнули, произнося слова, которые я тем не менее ясно слышал, а тон и тембр его голоса пронзали мои уши. – Ибо образы меняются, и то, что сегодня разумно и логично, завтра станет суеверием. А в открывшейся тебе древней строгости лежит великая неземная цель, неослабевающая чистота. Но расскажи мне еще раз про стеклянный город.
Я вздохнул.
– Ты, как и я, не понаслышке знаешь, что такое жидкое стекло, – начал я. – Ты видел, как его достают из печи с помощью железного копья: раскаленный шар, чудовищно горячий, плавится, роняя капли, в ожидании, когда художник придаст ему ту или иную форму или же наполнит его воздухом, чтобы получить идеально круглый сосуд. Так вот, представь себе, что это стекло поднялось из недр самой Матери Земли – поток, фонтанами выброшенный в облака... И эти огромные фонтаны превратились в населенные башни стеклянного города – не в подражание формам, созданным человеком, но в идеальные конструкции невообразимых тонов, предопределенные и воплощенные раскаленной силой самой земли. Кто обитал в таком месте? Мне показалось, что оно очень далеко, но вполне достижимо: достаточно лишь прогуляться немного по великолепным холмам с поросшими зеленой травой и фантастически прекрасными цветами склонами.
Рассказывая о своем удивительном, невероятном видении, я смотрел в сторону, погружаясь в зрительные воспоминания, однако теперь перевел взгляд на Мастера.
– Скажи, что все это значит? Где находится это место, и почему мне позволили на него посмотреть?
Он грустно вздохнул и на миг отвернулся. А когда вновь обратил ко мне застывшее, отчужденное лицо, я увидел, что, как и позавчера ночью, по жилам его течет теплая человеческая кровь. Поздняя трапеза в этот вечер, несомненно, уже состоялась.
– Неужели ты даже не улыбнешься, если пришел попрощаться? – спросил я. – Если ты ничего не чувствуешь, кроме горечи и холода, и позволишь мне умереть от свирепой лихорадки? Ты знаешь, какую тошноту я испытываю, ты знаешь, как у меня болит голова, как сводит все суставы, как горят от бесспорно смертельного яда раны. И если ты вернулся домой, чтобы побыть рядом со мной, то почему остаешься таким далеким и словно бы ничего не чувствуешь?
– Я, как всегда, переполнен любовью, – ответил он, – дитя мое, мой любимый, выносливый сын. Любовь... Она замурована там, где ей, наверное, и надлежит остаться, ибо ты прав, и смерть твоя неизбежна. Тогда, может быть, те монахи примут тебя, ибо тебе некуда будет вернуться, а следовательно, другого выбора у них не останется.
– Да, но вдруг таких мест много? Что, если в другой раз я окажусь на ином берегу, где из кипящей земли поднимается не открывшаяся мне тогда красота, а сера? Мне больно. Эти слезы – как кипяток. Столько всего потеряно. Я не могу вспомнить. Кажется, я слишком часто повторяю одно и то же. Я не могу вспомнить! – Я протянул руку. Мастер не шевельнулся. Моя рука отяжелела и упала на забытый молитвенник. Пальцы нащупали жесткие пергаментные страницы.
– Что убило твою любовь? То, что я сделал? Что по моей вине сюда пришел человек, убивший моих братьев? Или что я умер и увидел такие чудеса? Отвечай!
– Я и сейчас тебя люблю. И буду любить, каждую ночь и каждый день, проведенный во сне, – словом, всегда. Твое лицо – это подаренное мне сокровище, которое я никогда не забуду, хотя и могу безрассудно потерять. Его блеск будет мучить меня целую вечность. Амадео, подумай обо всем еще раз, открой свои мысли, как раковину, позволь мне увидеть жемчужину – то, чему они тебя научили.
– А ты сможешь, Мастер? Ты сможешь понять, как любовь, и только любовь, может быть важной настолько, чтобы заключать в себе весь мир? Даже травинки, листья деревьев, пальцы руки, которая тянется к тебе? Любовь, Мастер! Любовь! Но кто поверит в такую простую и всеобъемлющую истину, когда существуют хитроумные лабиринты вероучений и философии, полные созданной человеком, неизменно соблазнительной сложности? Любовь... Я слышал ее звук. Я ее видел. Или это были галлюцинации охваченного лихорадкой разума – разума, который боится смерти?
– Может быть... – Лицо его по-прежнему оставалось бесчувственным, неподвижным. Глаза сузились, словно ослепленные увиденным. – О да, – сказал он. – Ты умрешь. Я дам тебе умереть, и, думаю, для тебя, возможно, существует только один берег, где ты опять найдешь своих монахов, свой город.
– Мое время еще не пришло, – возразил я. – Я знаю. И за короткий срок нельзя что-либо изменить. Разбей эти тикающие часы. Они хотели сказать, что час земного воплощения души еще не пробил. Судьба, при рождении написанная у меня на руке, не может так скоро осуществиться или так легко потерпеть поражение.
– Я могу устранить все препятствия, дитя мое. – На этот раз я увидел, что губы Мастера шевелятся. Его лицо приобрело приятный бледно-коралловый оттенок, глаза внезапно широко раскрылись, он снова стал самим собой – тем, кого я знал, тем, кем дорожил. – Мне так просто было бы забрать у тебя последние силы. – Он наклонился надо мной. Я увидел крошечные пестрые полоски в зрачках его глаз, яркие лучистые звезды за более темной радужной оболочкой. Его рот с удивительно тонкими линиями губ был розовым, как будто на нем был запечатлен поцелуй человека. – Мне так просто было бы выпить последний роковой глоток твоей детской крови, последнюю каплю свежести, которую я так люблю... И тогда в моих руках останется лишь холодная плоть, блистающая такой красотой, что каждый, кто увидит ее, прослезится... Эта плоть, это безжизненное тело ни о чем не сможет мне рассказать. Я буду знать, что тебя нет – и все.
– Ты говоришь это, чтобы меня помучить? Мастер, раз уж я не могу попасть туда, я хочу быть с тобой!
Его губы дрогнули, лицо исказилось откровенным отчаянием. Он стал похож на человека, на настоящего человека, и красные кровавые слезы усталости и печали заволокли уголки его глаз. Рука, протянутая, чтобы коснуться моих волос, тряслась.
Я схватил ее, словно высокую, колышущуюся на ветру ветку. Я собрал его пальцы, как листья, поднес их к губам, поцеловал, а потом приложил к раненой щеке. Я почувствовал, как завибрировал под ними отравленный порез. Но еще более остро я почувствовал, как сильно они дрожат.
Я прищурился.
– Сколько людей сегодня расстались с жизнью, чтобы тебя насытить? – прошептал я. – И как может происходить такое в мире, состоящем из одной только любви? Ты слишком прекрасен, чтобы оставаться незамеченным. Я запутался. Я этого не понимаю. Но если я выживу, разве я, простой смертный мальчик, смогу это забыть?
– Ты не выживешь, Амадео, – грустно сказал он. – Не выживешь! – Его голос прервался. – Яд проник слишком глубоко, небольшие вливания моей крови его не пересилят. – На его лице отразилась боль. – Дитя, я не могу тебя спасти. Закрой глаза. Прими мой прощальный поцелуй. Между мной и теми, кто стоит на том берегу, нет дружбы, но они не смогут не принять то, что умирает так свободно.
– Мастер, нет! Мастер, я не могу проверить это один. Мастер, они же отослали меня обратно, но ведь они не могли не знать, что ты обязательно придешь! И ты пришел!
– Амадео, им все равно. Хранители мертвых чрезвычайно равнодушны. Они говорят о любви, но не о веках заблуждения и неведения. Что за звезды могут петь такую прекрасную песню, когда весь мир изнывает от диссонанса? Жаль, что ты не смог их заставить, Амадео. – Его голос чуть не сорвался от боли. – Амадео, какое право они имели возлагать на меня ответственность за твою судьбу?
Я издал слабый грустный смешок.
Меня затрясло в лихорадке. Вновь нахлынула волна слабости. Если я пошевельнусь или заговорю, то подступит мерзкая сухая тошнота. Лучше уж умереть.
– Мастер, я не сомневался, что ты тщательно обдумаешь и проанализируешь мой рассказ, – прошептал я, стараясь сдержать горькую, саркастическую улыбку.
Мне хотелось добраться наконец до истины. Грудь сдавило, не хватало воздуха, казалось, что самое лучшее – прекратить дышать, что никакого неудобства это не принесет. Но тут же вспомнились строгие наставления Бьянки.
– Мастер, – добавил я, – не бывает в этом мире кошмаров без конечного искупления.
– Да, но какова цена такого спасения для некоторых из нас? – настаивал он. – Амадео, как они смеют требовать от меня участия в осуществлении своих непостижимых планов? Я молю Бога, чтобы это были иллюзии. Не говори больше о чудесном свете. Не думай о нем.
– Не думать, сударь? А ради чьего успокоения мне стирать все из памяти? Кто здесь умирает?
Он покачал головой.
– Давай, выдави из глаз кровавые слезы, – продолжал я. – Кстати, на какую смерть вы сами надеетесь, сударь? Ведь вы говорили мне, что даже для вас смерть отнюдь не невозможна. Объясните, если, конечно, у меня осталось время, до того как весь отпущенный мне свет погаснет и земля поглотит сокровище во плоти, которым вам захотелось обладать из одной лишь прихоти!
– Это не было прихотью, – прошептал он.
– Ну, так куда попадете вы, сударь? Утешьте меня, пожалуйста. Сколько минут мне осталось?
– Я не знаю, – прошептал он едва слышно, отворачиваясь и низко склоняя голову. Я никогда не видел его таким растерянным.
– Дай мне посмотреть на твою руку, – тихо попросил я. – Ведьмы в темных венецианских тавернах научили меня читать линии на ладони. Я скажу, когда ты умрешь. Дай мне руку.
Я почти ничего не видел. Все заволокло туманом. Но я говорил серьезно.
– Ты опоздал, – ответил он. – Ни одной линии не осталось. – Он показал мне свою ладонь. – Время стерло то, что люди называют судьбой. У меня ее нет.
– Мне жаль, что ты вообще пришел, – сказал я и отвернулся. – Ты не мог бы оставить меня, мой возлюбленный учитель? Я предпочел бы общество священника и моей сиделки, если ты не отправил ее домой. Я любил тебя всем сердцем, но не желаю умирать в твоем высочайшем обществе.
Сквозь туман я увидел, как Мастер склоняется ко мне, почувствовал, как его ладони обхватывают мое лицо. В его голубых глазах сверкнуло ледяное пламя – нечеткое, но яростное.
– Хорошо, мой дорогой. Момент настал. Ты хочешь пойти со мной и стать таким, как я?.. – Его голос, несмотря на боль, звучал спокойно и многозначительно.
– Да, с тобой, навсегда и навеки.
– ...Отныне и навеки втайне процветать только на крови злодеев, как процветаю я, и, если доведется, хранить эту тайну до конца света?
– Обещаю. Я согласен.
– ...Выучить каждый урок, который я преподам?
– Да, каждый.
Он поднял меня с кровати. Я упал ему на грудь, у меня кружилась голова, и ее пронзила такая острая боль, что я тихо вскрикнул.
– Это ненадолго, любовь моя, мой юный хрупкий ангел, – шепнул он мне в самое ухо.
Я почувствовал, как его руки опускают меня в ванну, в теплую воду, осторожно снимают одежду, а голову заботливо кладут на выложенный плиткой край. Я расслабился и почувствовал, как вода плещется возле моих плеч.
Сначала он омыл мое лицо, а затем все тело. Он провел по моему лицу твердыми атласными кончиками пальцев.
– Еще ни одного волоска на подбородке, но ты уже обладаешь достоинствами мужчины, и теперь тебе придется навсегда отказаться от наслаждений, которые ты так любил.
– Да, я согласен, – прошептал я. Ужасная боль обожгла мою щеку. Порез разошелся. Я попытался потрогать его, но Мастер удержал мою руку. Это его кровь капнула на гноящуюся плоть. Щека ныла и горела, я чувствовал, как срастается кожа. То же самое он проделал с раной на плече, а потом – с маленькой царапиной на руке. Закрыв глаза, я отдался парализующему удовольствию этого процесса, вселявшего в меня суеверный страх.
Он опять прикоснулся ко мне рукой, успокаивающе проведя ею по моей груди, миновав интимные места, обследовав по очереди обе ноги, возможно проверяя, нет ли на коже небольших царапин или каких-либо иных повреждений, лишающих ее совершенства. Меня вновь охватила жаркая, пульсирующая дрожь удовольствия.
Я почувствовал, как меня поднимают из воды, заворачивают во что-то теплое. Потом воздух вокруг слабо взвихрился – судя по всему, Мастер перенес меня в другое место, причем со скоростью, недоступной любому любопытствующему взгляду. Я стоял босиком на мраморном полу, и ощущение бодрящего холода казалось мне особенно приятным.
Мы стояли в студии – спиной к картине, над которой Мастер работал несколько ночей назад, и лицом к другому шедевру огромного размера, где под голубым небом бежали через освещенную сверкающими лучами солнца рощу две фигуры и ветер развевал их волосы...
Женщина была Дафной – ее простертые к небу руки превращались в лавровые ветви, уже поросшие листьями, а ноги становились корнями и вот-вот готовы были устремиться в глубь ярко-коричневой земли. Ее преследовал обезумевший прекрасный бог Аполлон – атлет с золотыми волосами и стройными мускулистыми ногами. Он не в силах был предотвратить отчаянное волшебное бегство нимфы от его опасных объятий, остановить ее роковое превращение.
– Взгляни на равнодушные облака, – прошептал Мастер мне на ухо. Он указал на великолепные солнечные блики, нарисованные им с бо′льшим мастерством, чем удавалось это другим – тем, кто ежедневно видел светило.
Вот тогда Мастер и произнес слова, которые я когда-то повторил Лестату, рассказывая ему свою историю, – слова, которые Лестат милосердно сохранил в памяти в числе тех немногочисленных образов, какие я был в состоянии ему показать.
Сейчас, когда я повторяю эти слова, последние из тех, какие мне суждено было услышать в смертной жизни, в ушах моих словно вновь звучит голос Мариуса:
«Ты больше никогда не увидишь иного солнца, кроме этого. Но миллионы ночей станут твоими, и ты узришь свет, который не доступен никому из смертных. Словно Прометей, ты украдешь его у далеких звезд – вечный и бесконечный свет, который поможет тебе постичь все тайны мира».
И я, кто узрел куда более удивительный, Божественный свет в том царстве, которое меня отвергло, жаждал только одного: чтобы он затмил его навсегда.