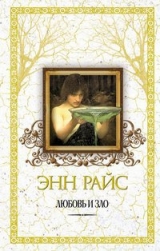
Текст книги "Любовь и зло"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
6
Нас немедленно ввели в просторный двор, где вокруг журчащего струями фонтана стояло множество деревьев в кадках.
Согбенный и сморщенный старик, отперший нам ворота, озабоченно затряс головой.
– Сегодня молодому господину еще хуже, – сказал он, – я боюсь за него. Синьор Антонио только что спустился от больного и не идет к себе. Он все еще ждет вас.
– Это хорошо, хорошо, что господин Антонио еще не ушел, – сейчас же отозвался Виталь. И доверительно сообщил мне: – Когда Никколо страдает, страдает и Антонио. Этот человек живет только ради сыновей. У него есть его книги, его пергаменты, он постоянно дает мне работу, однако без сыновей мир для него не существовал бы.
Мы вместе поднялись по широкой роскошной лестнице с низкими ступенями из шлифованного камня. А затем вошли в длинную галерею. Все стены были увешаны чудесными гобеленами с изображениями гуляющих дам и галантных кавалеров, занятых охотой, большие фрагменты стен расписаны великолепными фресками с пасторальными сюжетами. Живопись показалась мне исключительно прекрасной, если не работами Микеланджело или Рафаэля, то уж точно их учеников или подмастерьев.
В следующий миг мы уже шли по анфиладе, в комнатах которой были мраморные полы, застеленные персидскими и турецкими коврами. По стенам танцевали великолепно написанные классические нимфы в райских садах. В пустой анфиладе лишь время от времени посреди какой-нибудь из комнат попадался длинный стол из полированного дерева. Другой мебели не было.
Наконец двустворчатые двери открылись в просторную, богато украшенную спальню, почти темную, потому что единственный источник света явился вместе с нами. Здесь и лежал среди подушек, под громадным золотисто-красным балдахином Никколо, бледный, с лихорадочно блестящими глазами.
У него были густые светлые волосы, отдельные пряди липли к потному лбу. На самом деле он так метался в лихорадке, что мне захотелось попросить, чтобы кто-нибудь сейчас же умыл ему лицо.
Так же очевидно было и то, что молодой человек отравлен. Я видел, что взгляду него туманится, руки неудержимо дрожат. Секунду он смотрел на нас так, словно не видел.
Меня охватило болезненное предчувствие, что количество яда в его крови уже превысило критический уровень. Я едва не ударился в панику.
Неужели Малхия послал меня сюда, чтобы я постиг горечь поражения? У постели сидел почтенного вида пожилой господин в длинном одеянии из бордового бархата, в черных чулках и кожаных туфлях, украшенных каменьями. У него были густые, совершенно белые волосы, растущие на лбу треугольным выступом – примета, предвещающая раннее вдовство. При виде Виталя старик просиял, однако не произнес ни слова.
В изножье кровати стоял еще один человек, кажется, настолько глубоко огорченный происходящим, что в глазах у него блестели слезы, а руки дрожали почти также сильно, как у больного.
Я отметил несомненное сходство этого молодого человека со стариком и Никколо, однако было в юноше и нечто такое, что совершенно отличало его от них. Во-первых, волосы не образовывали на лбу характерного «треугольника вдовца», во-вторых, темно-голубые глаза его были гораздо больше, и если старик выражал свою озабоченность крайне сдержанно, то молодой человек, казалось, вот-вот грохнется в обморок.
Юноша был прекрасно одет – в тунику, продернутую золотой нитью, с разрезами на рукавах, у бедра – меч. Молодой человек был чисто выбрит, а кудрявые темные волосы коротко острижены.
Все это я отметил сразу же. Виталь поцеловал кольцо старика, сидевшего у постели, и заговорил тихо:
– Синьор Антонио, я рад, что вы здесь, хотя меня огорчает, что вы вынуждены наблюдать сына в таком состоянии.
– Ответь мне, Виталь, – взмолился старик. – Что с ним такое? Как самый обычный удар от падения с лошади мог вызвать столь плачевные последствия?
– Именно это я и собираюсь выяснить, синьор, – заверил Виталь. – Клянусь своей жизнью.
– Однажды ты вылечил меня, когда от меня отказались все итальянские врачи, – сказал синьор Антонио. – Я знаю, что ты сможешь исцелить моего сына.
Молодой человек в изножье кровати заволновался еще сильнее.
– Отец, хотя мне больно говорить это, но нам лучше выслушать и других докторов. Мне страшно. Мой брат, лежащий здесь, не похож на моего брата. – Слезы навернулись ему на глаза.
– Успокойся, Лодовико, – обратился к юноше Никколо, – я же ем твою икру. Но, отец, я полностью доверю Виталю, точно так же как доверяешь Виталю ты сам, и если я не выздоровлю, значит, то Господня воля.
Он, щуря глаза, поглядел на меня. Никколо было непонятно, зачем я здесь, а каждое слово давалось ему с трудом.
– Какая еще икра? – спросил отец. – Ничего не понимаю.
– Мой брат питается черной икрой, поскольку это чистая еда, – пояснил Лодовико, – он ест ее трижды в день, не принимая никакой другой пищи. Я специально ходил к докторам папы, и они посоветовали такую диету. И я, следуя их совету, даю брату икру. Он питается ею с того дня, как упал с лошади.
– Почему я ничего об этом не знаю? – спросил Виталь, поглядев на меня, затем на Лодовико. – Одна икра и ничего больше? Тебе не нравится та пища, какую я рекомендовал? Я заметил, как в глазах Лодовико на миг вспыхнул гнев, но тут же угас. По-видимому, он был слишком сильно расстроен, чтобы злиться.
– Брат не поправлялся от той еды, – проговорил он, слабо улыбнувшись, но улыбка сразу же погасла. – Его святейшество лично присылает эту икру, – продолжал объяснять Лодовико отцу едва ли не с благоговением. – Его предшественнику она сильно помогала. Он чувствовал себя превосходно, был полон сил и энергии.
– Никто не ставит под сомнение слова его святейшества, – быстро проговорил Виталь, – и с его стороны весьма великодушно прислать больному икры. Однако я никогда еще не слышал о более странном лекарстве.
Он многозначительно поглядел на меня, но, кажется, никто этого не заметил.
Никколо пытался приподняться на локтях, но от слабости упал обратно на подушки. Однако он твердо вознамерился высказаться:
– Я не против, Виталь. В икре есть хоть какой-то вкус, а все остальное кажется мне совершенно пресным. – Он скорее выдыхал, чем произносил слова, а затем пробормотал себе под нос: – Правда, от нее щиплет глаза. Но, наверное, от любой другой еды было бы то же самое.
«От нее щиплет глаза».
Я угрюмо задумался над этими словами. Никто из них, разумеется, даже не подозревает, что я сам составлял яды, придумывал методы замаскировать яд, знал, как его дать, и если существует еда, способная совершенно перебить своим вкусом вкус отравы, то это, без сомнений, черная икра, и в нее можно подмешать что угодно.
– Виталь, – позвал больной. – Кого это ты привел с собой? – Он поглядел на меня. – Зачем он здесь? – Каждое слово выходило изо рта Никколо с усилием.
И наконец-то, к моему огромному облегчению, появилась служанка с тазом воды и принялась обтирать лоб больного влажной тряпкой. Она стерла пот с его щек. Никколо раздражали ее прикосновения, он слабо протестовал, однако старик велел ей продолжать.
– Я привел этого человека, чтобы он поиграл тебе на лютне, – пояснил Виталь. – Я знаю, что музыка всегда радовала тебя. Он будет играть совсем тихо, совершенно не раздражая.
– Да-да, – проговорил Никколо, откидываясь на подушки. – Вот это, в самом деле, прекрасная мысль.
– На улицах говорят, ты позвал этого человека, чтобы он играл демону, поселившемуся у тебя в доме, – внезапно проговорил Лодовико. Он снова был готов разразиться слезами. – Неужели так и есть? И сейчас ты лжешь, придумываешь другую причину?
Виталь был потрясен.
– Лодовико, замолчи! – воскликнул старик. – В том доме нет никакого демона. И не смей разговаривать с Виталем в подобном тоне! Этот человек вернул меня к жизни, когда все остальные доктора Падуи – а докторов там больше, чем во всей Италии, – подписали мне смертный приговор!
– Но, отец, в том доме все-таки живет злобный дух, – возразил Лодовико. – Все евреи знают о нем. Они называют его каким-то особенным словом.
– Диббук, – устало произнес Виталь.
В его голосе не слышалось страха человека, у которого в доме обитает призрак.
– И Виталь заразился от своего диббука, когда ты дал ему ключи от дома, – продолжал обвинять Лодовико. – Стоило этому диббуку поселиться там и начать бить окна по ночам, как врачебные таланты Виталя стали угасать прямо у нас на глазах.
– Угасать? – Виталь был ошеломлен. – Кто сказал, что мои таланты угасают? Лодовико, это же ложь! – Он был обижен и смущен.
– Но ведь твои пациенты из евреев к тебе больше не ходят! – выпалил Лодовико. Внезапно он сменил тон: – Виталь, друг мой, из любви к моему брату скажи правду.
Виталь попал в безвыходное положение. Но Никколо смотрел на него с доверием и любовью, а старик задумался, не спеша делать какие-либо выводы.
– Евреи сами рассказали нам об этом, – прибавил Лодовико. – Трижды они пытались изгнать диббука из того дома. Этот злой дух обитает у тебя в кабинете, в комнате, где ты хранишь свои снадобья. Диббук проник во все уголки твоего дома и, наверное, во все уголки твоего разума! Молодой человек сознательно распалял себя.
– Нет, не смей так говорить! – громко произнес Никколо. Он предпринял еще одну тщетную попытку подняться на локтях. – Диббук не виновен в моей болезни. Неужели ты думаешь, что можно подхватить лихорадку и умереть от нее, потому что в соседнем доме завелся какой-то призрак? Прекрати говорить глупости!
– Тише, сынок, тише, – произнес отец. Он взял Никколо за плечи и попытался снова уложить на подушки. – Не забывайте, дети мои, что речь идет о моем собственном доме. Значит, этот призрак, или же диббук, как называют его евреи, явно принадлежит мне. Мне самому надо пойти в дом и встретиться со злонамеренным духом, которого не в силах изгнать ни иудеи, ни христиане. Я должен увидеть этот призрак своими глазами.
– Отец, заклинаю тебя, не делай этого! – воскликнул Лодовико. – Виталь не рассказывал тебе, как буйствует дух. А все доктора-иудеи, приходившие к нам, говорили. Он швыряет вещи, ломает мебель. Топает ногами.
– Глупости, – возразил отец. – Я верю в болезнь и верю в исцеление. Но верить в призраки? Призраки, которые швыряются вещами? Это я сначала должен увидеть собственными глазами. Пока что мне довольно того, что Виталь здесь, рядом с Никколо.
– Да, отец, – согласился Никколо, – и мне этого довольно. Лодовико, ты же всегда любил Виталя, – обратился он к брату, – не меньше меня. Мы трое всегда были друзьями, еще с Монпелье. Отец, не слушай никаких обвинений.
– Я не слушаю, сынок, – ответил отец, но сейчас он с тревогой всматривался в сына, потому что чем больше Никколо протестовал, тем хуже ему становилось.
Лодовико упал на колени рядом с кроватью и рукой утер брату лоб.
– Никколо, я сделаю все, что в моих силах, лишь бы вылечить тебя, – сказал он, хотя из-за слез было трудно разобрать слова. – Я люблю Виталя. И всегда любил. Но другие врачи, они говорят, что он околдован.
– Прекрати, Лодовико, – оборвал его отец. – Ты волнуешь брата. Виталь, осмотри моего сына. Осмотри еще раз. Ты ведь ради этого пришел.
Виталь внимательно оглядывал комнату, точно так же и я. Я не смог установить присутствие яда по запаху, однако это ничего не значило. Мне известно несколько ядов, которые можно запросто подмешать в черную икру. И одно было ясно наверняка: у пациента еще осталось достаточно жизненных сил.
– Виталь, посиди со мной, – попросил Никколо. – Останься сегодня со мной. Мне в голову приходят самые мрачные мысли. Мне представилось, как я умер и меня похоронили.
– Не говори так, сынок, – произнес отец.
Лодовико был безутешен.
– Брат, жизнь без тебя лишится всякого смысла, – проговорил он тихо. – Не дай мне познать такой жизни. Мое первое воспоминание – о том, как ты стоишь у моей детской кроватки. Ради меня, ради отца ты должен жить.
– Я попрошу пока всех выйти из комнаты, – произнес Виталь. – Синьор, доверьтесь мне, как доверялись всегда. Я хочу осмотреть больного, а ты, Тоби, сядь туда, – он указал на дальний угол, – и поиграй негромко, чтобы успокоить нервы Никколо.
– Да, это правильно, – согласился старик. Он поднялся и жестом велел Лодовико следовать за ним.
Молодой человек не хотел подчиняться.
– Смотрите-ка, он едва притронулся к икре из последней посылки! – воскликнул Лодовико. Он указал на небольшой серебряный поднос на столике у кровати. На подносе стояла стеклянная тарелочка с малюсенькой изящной ложкой. Лодовико набрал в ложечку икры и поднес к губам Никколо.
– Не хочу. Я же говорю, от нее щиплет глаза.
– Ну, пожалуйста, это пойдет тебе на пользу, – сказал брат.
– Нет, хватит. Пока что я больше не могу, – ответил Никколо. Затем, словно желая успокоить младшего брата, он проглотил икру с ложечки, и сейчас же глаза у него покраснели и заслезились.
Виталь снова попросил всех выйти из комнаты. Мне он жестом велел сесть в углу, где стояло гигантское черное кресло, покрытое фантастической резьбой, которое как будто только поджидало момента, чтобы меня поглотить.
– Я хочу остаться, – сказал Лодовико. – Ты должен позволить мне остаться, Виталь. Если тебя обвиняют…
– Глупости! – отрезал отец и, взяв сына за руку, вывел из комнаты.
Я поудобнее устроился в гигантском кресле, настоящем чудовище с растопыренными черными лапами и с красными подушками на сиденье и спинке. Сняв перчатки, я сунул их за пояс и принялся как можно тише настраивать лютню. Инструмент был просто великолепен. Однако другие мысли смущали меня.
Больного никто не травил до появления диббука. Получается, что яд здесь, в этом доме, и я был уверен, что отравитель – брат Никколо, воспользовавшийся появлением призрака. Вряд ли отравитель настолько хитроумен, чтобы вызвать духа.
Однако он достаточно умен, чтобы приступить к исполнению злобного замысла, прикрываясь призраком.
Я заиграл одну из старинных мелодий, медленный танец, основанный на нескольких аккордах с вариациями, и играл я как можно нежнее.
Меня поразила одна неизбежная мысль: я действительно играю на чудесной лютне из того самого времени, когда этот инструмент получил повсеместное распространение. Я нахожусь в той самой эпохе, когда лютня достигла пика своей популярности, когда для нее была написана самая лучшая музыка. Однако у меня не оставалось времени и дальше размышлять на эту тему, не говоря уже о том, чтобы пойти и своими глазами увидеть возведение базилики Святого Петра.
Я думал об отравителе и о том, как нам повезло поспеть вовремя.
Что же касается загадочного диббука, то эта тайна пока подождет, главное сейчас – отравитель, потому что ему, даже если он ненадолго затаится, осталось совсем немного до завершения замысла.
Я медленно перебирал струны, когда Виталь жестом велел мне умолкнуть.
Он держал больного за запястье, отсчитывая пульс, а в следующий миг наклонился и осторожно приложил ухо к груди Никколо.
Обеими руками он взял Никколо за голову и заглянул в глаза. Я видел, как Никколо сотрясает дрожь. Он никак не мог сдержать ее.
– Виталь, – прошептал он, должно быть, думая, что я его не слышу. – Я не хочу умирать.
– Я не позволю тебе умереть, друг мой, – с отчаянием в голосе ответил Виталь. Он откинул в сторону одеяло и внимательно осматривал теперь лодыжки и ступни пациента. Действительно, на одной голени было бесцветное пятно, однако оно не внушало опасений. Пациент прекрасно двигал конечностями, беда была в том, что конечности эти дрожали. Существует множество ядов, оказывающих подобное воздействие на нервную систему. Но которым из них воспользовался отравитель и как я сумею доказать, кто это сделал и каким образом? Из коридора послышался какой-то звук. Похоже на плач. По голосу я узнал Лодовико.
Я поднялся.
– Если не возражаешь, я поговорю с твоим братом, – обратился я к Никколо.
– Утешь его, – попросил Никколо. – Скажи, что он ни в чем не виноват. Икра замечательно мне помогает. Он ведь так верит в это средство. Пусть он только ни в чем себя не винит.
Лодовико я нашел в передней перед спальней Никколо, он казался смущенными потерянным.
– Можно мне с тобой поговорить? – спросил я осторожно. – Пока его осматривают, пока он отдыхает? Может быть, я смогу чем-нибудь утешить тебя?
Я испытывал острое желание сделать это, хотя, на самом деле, в обычной жизни подобные порывы были мне несвойственны.
И в этот момент Лодовико взглянул на меня, показавшись самым одиноким созданием, какое я встречал когда-либо в жизни. Он заливался слезами, существуя как будто в полной изоляции от мира, и только глядел на дверь спальни брата.
– Лишь благодаря ему отец взял меня в дом, – проговорил Лодовико едва слышно. – Почему я признаюсь тебе в этом? Потому что я должен признаться кому-нибудь. Я должен объяснить хоть кому-то, в каком я горе.
– Тогда, может быть, в доме найдется спокойное местечко, где мы могли бы поговорить? Самое тяжкое – наблюдать страдания тех, кого мы любим.
Я спустился вслед за Лодовико по широкой лестнице палаццо в просторный двор, а оттуда мы вышли через другие ворота во внутренний двор, нисколько не похожий на первый. Он был полон цветущих тропических растений.
Я ощутил, как у меня зашевелились волосы на затылке.
Несмотря на высокие стены палаццо, в котором было не меньше четырех этажей, двор прекрасно освещался, а благодаря небольшому размеру его пространство оказывалось укрыто от ветров. Здесь было очень тепло.
Я видел апельсиновые и лимонные деревья, видел пурпурные цветки и белые восковые бутоны. Некоторые растения были мне известны, некоторые – нет. Но если в этом укромном дворике не найдется ни одного ядовитого растения, значит, я круглый дурак.
Посреди двора, в том месте, куда попадало больше всего солнечного света, стоял импровизированный письменный стол на козлах, а рядом с ним – два простых кресла. На столе был кувшин с вином и пара бокалов.
Вконец расстроенный Лодовико, двигаясь словно во сне, взял кувшин, наполнил бокал и залпом осушил его.
Только потом он догадался предложить вина и мне, но я отказался.
Лодовико казался измученным и опустошенным слезами. То, что он искренне страдает, не вызывало сомнений. Он по-настоящему горевал, но, по моему предположению, горевал он потому, что для него брат уже умер.
– Прошу тебя, присядь, – обратился ко мне Лодовико, после чего рухнул в кресло у письменного стола, уронив на пол целую стопку бумаги.
У него за спиной, в огромной кадке, возвышалось стройное растение с как будто навощенными листьями, и это растение было мне известно. Снова волосы зашевелились у меня на голове, а волоски на руках встали дыбом. Я узнал пурпурные цветки, покрывавшие деревце. И узнал крошечные черные семена, появляющиеся после цветков, – эти семена уже обильно усеивали влажную землю в кадке.
Я поднял упавшие бумаги и положил обратно на стол. Поставил рядом с креслом лютню.
Лодовико как будто с недоумением наблюдал за моими действиями, а затем уронил голову на руки и заплакал горькими слезами.
– У меня нет особенных способностей к поэзии, – проговорил он, – однако я настоящий поэт во всех делах, за какие берусь. Я путешествовал по миру и испытывал от этого радость, но, наверное, то была радость от возможности писать Никколо и встречаться с ним каждый раз после долгой разлуки. И вот теперь я вынужден представлять себе огромный, просторный мир, мир, по которому я путешествую, без него. Стоит только подумать об этом, и мир для меня перестает существовать.
Я смотрел мимо Лодовико на землю в кадке. Она была сплошь усыпана черными семенами. Одного из них хватило бы, чтобы убить ребенка. А нескольких хорошо размолотых семечек довольно для гибели взрослого человека. Небольшое количество, каждый день подмешиваемое в икру, которая полностью перебивает вкус отравы, медленно обессилит человека, с каждой новой порцией все ближе подталкивая его к смерти.
Вкус у семян омерзительный, как и у большинства ядов. Но если какой-нибудь продукт и способен его заглушить, то это черная икра.
– Не знаю, зачем я рассказываю тебе об этом, – произнес Лодовико, – просто у тебя доброе лицо, ты похож на человека, который с легкостью читает в душах других. – Он вздохнул. – Ты же понимаешь, как сильно можно любить брата. И как можно порицать себя за то, что твой брат слабеет и умирает.
– Мне хотелось бы понять, – отозвался я. – Сколько сыновей у вашего отца?
– Только мы двое, и представляешь ли ты, как отец возненавидит меня, если Никколо не станет? Конечно, сейчас отец меня любит, но возненавидит, если из нас двоих в живых останусь я. Только благодаря Никколо отец забрал меня из того дома, где жила моя мать. Но не стоит о матери. Я никогда о ней не говорю. Думаю, ты понимаешь. Отец мог бы не забирать меня. Однако Никколо меня полюбил, он полюбил меня с самого начала, когда мы были еще детьми, и однажды меня, наскоро собрав пожитки, забрали из того борделя, где мы жили, и привезли сюда, в этот самый дом. Мать сунула мне на прощание горсть золота и драгоценностей. К ее чести, она плакала – об этом я должен сказать. Она рыдала. «Вот это тебе, – сказала она. – Ты, мой маленький принц, теперь будешь жить во дворце, какой тебе и не снился».
– Наверняка она говорила искренне. И старик был искренен. Мне показалось, он любит тебя нисколько не меньше, чем Никколо.
– Это верно, и было время, когда он любил меня даже больше. Никколо с Виталем, когда сходились вместе, вытворяли иногда такое! Должен признать, что между иудеем и христианином нет особенной разницы, когда доходит до кутежей и волокитства, во всяком случае, разница на время исчезает.
– Значит, это ты всегда был хорошим сыном? – уточнил я.
– Я старался им быть. Вместе с отцом я много путешествовал. Он не хотел отрывать Никколо от университетских занятий. А я могу рассказать тебе и о прериях Америки, и о нравах, царящих в портах Португалии, и о таких ужасах, какие ты и не представляешь.
– Но ты все равно вернулся в Падую.
– О, отец же должен был дать мне образование. Это означало, что я отправлюсь в университет, как и брат, однако я никогда не был таким способным, как они, как Виталь или Никколо. Но они оба мне помогали. Всегда брали под свое крыло.
– Значит, долгие годы ты единственный был рядом с отцом, – заметил я.
– Да, – подтвердил Лодовико. Слезы уже просохли, больше не текли по лицу. – Да, но ты бы видел, как быстро он снова сблизился с моим обожаемым братом. Как будто бы я вообще остался где-то в джунглях Бразилии.
– Кстати, это растение, вот это деревце, – указал я, – оно не из джунглей Бразилии?
Лодовико внимательно посмотрел на меня, затем развернулся и уставился на дерево в кадке, как будто увидел его впервые в жизни.
– Может, и оттуда, – сказал он. – Я точно не помню. Мы привозили с собой много отростков и черенков. Вот цветы, например, отец любит, когда их много. Любит он и фруктовые деревья, которые ты видишь здесь. Он называет этот двор оранжереей. На самом деле это его сад. Я прихожу сюда только время от времени сочинять стихи.
Слезы просохли окончательно.
– А откуда тебе известно это растение? – поинтересовался Лодовико.
– Гм, ну, я видел его в других местах, – осторожно признался я. – В том числе и в Бразилии.
Выражение лица Лодовико изменилось, теперь, когда он взглянул на меня, оно казалось нарочито безмятежным.
– Я понимаю, как ты беспокоишься о брате, – сказал я, – но, возможно, он выздоровеет. В его организме до сих пор осталось много сил.
– Да, и тогда намерения отца относительно Никколо осуществятся. Если только демон не стоит между ним и этими намерениями.
– Я не поспеваю за твоей мыслью. Ты же не думаешь, что твой брат…
– О, нет-нет, – проговорил он холодно, без всякого намека на слезы. – Ничего подобного. – Затем Лодовико снова сделался задумчивым и озабоченным, поднял бровь и улыбнулся, как будто бы погруженный в собственные мысли. – Демон воспротивился планам отца, – пояснил он, – и ты даже не представляешь, с какой силой. Давай я кое-что расскажу тебе о нашем отце.
– Я весь внимание.
– Он всегда был так добр, столько лет он держал меня при себе, словно ручную обезьянку, таскал с корабля на корабль, как будто любимую зверушку.
– То были счастливые годы?
– О да, в высшей степени.
– Однако мальчики становятся мужчинами, – предположил я.
– Вот именно, точно так, а мужчинам свойственно испытывать страсть, мужчины могут любить с такой силой, что чувство кинжалом пронзает им сердце.
– И ты испытал подобную любовь?
– О да! Эта женщина – само совершенство, и она не смотрит на меня сверху вниз, потому что сама она незаконнорожденная дочь высокопоставленного священника. Мне нет нужды называть его имя, ты и сам можешь догадаться, о ком идет речь. Но стоило мне увидеть ее, и остальной мир для меня исчез – есть только тот, в котором живет она, и я готов пойти куда угодно, и путь мой будет осмысленным, если только она будет рядом со мною. – Лодовико в очередной раз пристально взглянул на меня, но затем его снова одолело мечтательное настроение. – Неужто это был только фантастический сон?
– Ты полюбил девушку и захотел жениться на ней, – подтолкнул я его.
– Да, ведь я богат благодаря постоянно растущей щедрости отца и его привязанности, какую он выказывает мне и наедине, и в присутствии других.
– Да, так и есть.
– Однако же когда я назвал отцу ее имя, как думаешь, чем все обернулось для меня? Боже, лучше бы мне никогда не переживать того момента. Лучше бы ничего не знать. Дочь священника, да, но какого! Высокопоставленного кардинала, у которого много богатых дочерей. Какой я был дурак, что не понял – этот бриллиант отец уже присмотрел для короны своего старшего сына!
Лодовико замолчал. Пристально поглядел на меня.
– Я не знаю, кто ты такой, – задумчиво протянул он. – Почему я признаюсь тебе в самом горьком поражении своей жизни?
– Потому что я тебя понимаю, – предположил я. – Отец сказал, что эта девушка для Никколо, а не для тебя?
Лицо его сделалось жестким, почти злобным. Каждая черточка, какая всего секунду назад, кажется, была полна скорби и озабоченности, теперь застыла пугающей ледяной маской – любой на моем месте испугался бы, увидев его таким.
Лодовико изумленно поднял брови и холодно посмотрел мимо меня.
– Да, моя возлюбленная Летиция предназначалась для Никколо. И почему я не знал, что слухи уже идут? Почему не пришел к нему раньше, до того, как отдал в залог собственную бессмертную душу? О, отец обошелся со мной по-доброму. – Лодовико улыбнулся леденящей улыбкой. – Он обнял меня. Он обхватил ладонями мое лицо. Я все еще его младшенький. Его милый мальчик. «Мой милый Лодовико. На свете много красивых женщин». Вот и все, что он сказал.
– Это ранило тебя в самое сердце, – негромко предположил я.
– Ранило? Ранило меня? Да он вырвал у меня сердце и бросил на корм стервятникам! Вот что со мной случилось. А какой дом, как ты думаешь, он собирался подарить счастливой невесте и жениху, когда будет заключен брак? – Лодовико засмеялся сначала холодно, а затем неудержимо, как будто бы действительно веселясь. – Тот самый дом, который он поручил подготовить для них Виталю, проветрить, обставить и где теперь поселился злобный и шумный еврейский диббук!
Лодовико так сильно переменился, что я уже не узнавал в нем человека, горько рыдавшего в коридоре. Однако в следующий миг он снова погрузился в мечтательную задумчивость, хотя жесткие складки на лице так и не разгладились. Он смотрел мимо меня на буйно растущие деревья и цветы во дворе. Он даже возвел очи горе, словно изумляясь последним лучам вечернего солнца.
– Но твой отец, без сомнения, понимал, какой удар нанес тебе.
– О да, – подтвердил он. – И наготове уже имеется другая девушка, весьма богатая и красивая, она только и ждет момента, чтобы появиться на сцене. Она будет мне прекрасной женой, хотя я не обменялся с нею и парой слов. А моя возлюбленная Летиция станет мне любезной невесткой, как только брат поднимется с постели.
– Неудивительно, что ты плачешь, – сказал я.
– Почему это? – с подозрением спросил Лодовико.
– Потому что у тебя разрывается душа, – пояснил я. Затем пожал плечами: – Разве ты в силах наблюдать, как развивается болезнь брата, и не думать…
– Я никогда не желал ему смерти! – заявил Лодовико. Он грохнул кулаком по столу на козлах. Мне показалось, тот сейчас треснет и развалится, однако стол выстоял. – Никто не старался спасти его так, как я! Я приводил врачей, одного за другим. Я посылал за черной икрой, единственной пищей, какую он еще принимает.
Внезапно Лодовико снова заплакал, и со слезами пришла настоящая, глубинная, изматывающая боль.
– Я люблю брата, – прошептал он. – Я люблю его сильнее, чем любил в этом мире любое другое живое существо, включая и Летицию. Но все-таки настал день, когда отец провел меня по тому пустынному дому, пока Никколо с Виталем были в Падуе. Наверняка пьянствовали там, а отец водил меня из комнаты в комнату, показывая, какой красивый получился дом… Да-да, он завел меня даже в спальню, чтобы я увидел, как хорошо им там будет, как хорошо, хорошо, хорошо! – Лодовико замолчал.
– Но он ведь тогда еще не знал?
– Не знал. Он держал в тайне имя невесты, которую выбирал с таким тщанием. Я первый произнес вслух ее имя вот здесь, в этих стишках, которые посвящал ей, и я был дурак, какой же я был дурак, что открылся отцу!
– Какая жестокость, какая ужасная жестокость.
– Именно, – согласился Лодовико, – жестокость ожесточает. – Он откинулся на спинку кресла и уставился перед собой, как будто не сознавая значения своего рассказа, не сознавая, на какие мысли он неизбежно должен меня натолкнуть.
– Прости, что заставил тебя снова пережить эту боль, – проговорил я.
– Нет, тебе не за что извиняться, – возразил он. – Боль была внутри меня, боль надо было выпустить. Меня страшит мысль о его смерти. Ужасает. Меня ужасает мир без Никколо. Я боюсь того, каким станет без него отец. Боюсь того, что будет без него с Летицией, потому что она все равно никогда-никогда не станет моею.
Я не знал, как относиться к его утверждениям, но он явно верил в то, что говорит.
– Мне пора возвращаться к Виталю, – сказал я. – Он ведь позвал меня, чтобы я играл твоему брату.
– Да, конечно. Но сначала ответь мне. Это дерево… – Лодовико развернулся в кресле и посмотрел на стройное зеленое деревце. Окинул взглядом пурпурные цветки. – Ты знаешь, как его называют в джунглях Бразилии?
Я на секунду задумался, а затем ответил:
– Нет. Я просто помню, что видел его, запомнил эти цветы, их красоту и аромат. Наверняка из этих пурпурных лепестков делают краску.
В лице Лодовико что-то переменилось. Он, кажется, хладнокровно просчитывал что-то. Я мог поклясться, что челюсть у него окаменела.








