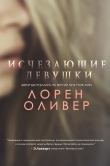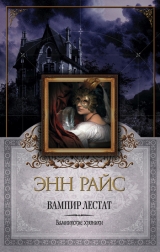
Текст книги "Вампир Лестат"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Ветер стих. И тут же все запахи города вернулись обратно. Рынки были буквально завалены благоухающими цветами. Забыв обо всем и плохо понимая, что делаю, я ворвался в дом Роже и потребовал немедленно сказать мне, где сейчас находится Никола.
Мне необходимо было взглянуть на него, убедиться в том, что он здоров и его новое жилище достаточно хорошо.
Дом стоял на Иль-Сен-Луи и производил весьма солидное впечатление, но все окна, выходящие на набережную, были плотно закрыты ставнями.
Я довольно долго стоял перед домом, и мимо меня один за другим с грохотом пролетали по мосту экипажи. Я знал, что должен обязательно увидеть Ники.
Я стал взбираться по стене – так, как это приходилось делать мне в деревне, – и вдруг обнаружил, что подъем дается на удивление легко. Я преодолевал один этаж за другим и наконец забрался так высоко, как никогда не осмеливался забираться прежде, потом быстро пересек крышу и стал спускаться во внутренний дворик, чтобы отыскать квартиру Ники.
Миновав дюжину открытых окон, я обнаружил то, которое мне было нужно. И увидел Никола. Он сидел за накрытым к ужину столом, а рядом с ним были Жаннетт и Лючина. Как и раньше, после того как закрывался театр, они пировали до поздней ночи.
В первый момент я резко отпрянул от окна и едва не свалился вниз, но, к счастью, совершенно инстинктивно успел ухватиться правой рукой за стену. Я даже закрыл глаза, но, хотя я видел комнату всего лишь какие-то доли секунды, в моей памяти четко отпечаталась каждая деталь.
На нем был все тот же наряд из зеленого бархата, который он с такой благородной небрежностью надевал для прогулок по извилистым улочкам родной деревни. Но повсюду вокруг него я узрел свидетельства посланного мною богатства: книги в кожаных переплетах, стоящие на полках, инкрустированный столик и картина в овальной раме, сверкающая на крышке нового фортепиано скрипка работы итальянского мастера.
На пальце его я увидел свой подарок – перстень с драгоценным камнем. Темные волосы Никола были зачесаны назад и перевязаны черной шелковой лентой. Опершись локтями о стол, он напряженно о чем-то размышлял, а перед ним стояла тарелка из дорогого китайского фарфора, однако к еде он даже не притронулся.
Я осторожно открыл глаза и снова взглянул на Ники. При ярком свете мне хорошо было видно, что он почти не изменился: те же изящные, но сильные руки, те же большие спокойные карие глаза, тот же рот, который, несмотря на способность иронически и даже саркастически кривиться, оставался по-детски пухлым и вызывал желание его поцеловать.
Была в нем какая-то слабость, совершенно для меня непонятная и непостижимая. И все же мой Ники казался чрезвычайно умным, особенно в такие моменты, как сейчас, когда он слушал болтовню Жаннетт, погрузившись в какие-то свои мысли.
– Все очень просто, – тараторила Жаннетт, а Лючина согласно кивала головой. – Лестат женился. У него богатая жена, и он не хочет, чтобы она узнала, что в прошлом он был простым актером.
– Я считаю, что нам следует оставить его в покое, – добавила Лючина. – Он спас театр от закрытия и без конца осыпает нас подарками…
– А я в это не верю! – с горечью воскликнул Никола. – Он никогда не стал бы стыдиться нас. – В его голосе явственно слышались сдерживаемая ярость и бесконечная печаль. – Мне не дает покоя само его исчезновение. Ведь я слышал, как он звал меня! Окно к тому же оказалось разбитым вдребезги! Говорю вам, я наполовину проснулся и слышал его голос…
В комнате повисла напряженная тишина. Они не верили тому, что он говорил, не принимали его версии моего исчезновения из мансарды, но понимали, что если снова ему об этом скажут, то тем самым только отдалят его от себя и заставят страдать еще больше. Я отчетливо понял это, читая их мысли.
– Вы плохо знали Лестата, – угрюмо проговорил Никола, продолжая разговор. – Он плюнул бы в лицо любому, кто посмел бы стыдиться знакомства с нами. Он посылает мне деньги. И как же должен я вести себя в этой ситуации? Он всех нас дурачит.
Никто не произнес ни слова. Актеры были слишком практичны и рассудительны, чтобы порицать своего таинственного покровителя. Слишком уж хорошо все складывалось.
Молчание затянулось, и я отчетливо ощущал, как усиливается боль в душе Ники, как мучительно он страдает. Я заглянул в его мысли. И не смог этого вынести.
Мне было невыносимо думать, что я без ведома и против воли Ники копаюсь в его душе. Несмотря на это, я не мог не чувствовать, что в глубоких тайниках этой души царит темнота еще более мрачная, чем я мог себе представить, и он испытывает примерно то же, что чувствовал я тогда, в кабачке, но пытается это скрыть.
Я, можно сказать, видел тайные глубины, которые простирались далеко за пределы его разума, служившего как бы преддверием хаоса, который лежал по другую сторону черты, ограничивающей знания.
Мне стало очень страшно. Я не хотел этого видеть. Я не хотел чувствовать то, что чувствовал он сейчас.
Но что я мог для него сделать? Именно это было сейчас важнее всего. Возможно ли раз и навсегда прекратить его мучительную пытку?
Я испытывал непреодолимое желание дотронуться до него, прикоснуться к его рукам, лицу. Мне хотелось почувствовать под своими теперь бессмертными пальцами его плоть. «Живой…» – слово это вырвалось у меня против воли. Да, Ники, ты жив и, следовательно, можешь умереть. И когда я смотрю на тебя, то вижу лишь нечто бестелесное, некую совокупность движений и неясных красок, словно ты напрочь лишен телесной оболочки и являешься средоточием тепла и света. Ты есть свет, а что же представляю собой я?
Я обречен вечно корчиться в пламени и, как мельчайшие частички золы, клубиться в воздухе.
Тем временем атмосфера в комнате изменилась. Лючина и Жаннетт вежливо прощались с хозяином. Но он не обращал на них никакого внимания. Он медленно поднимался из-за стола, не отрывая взгляда от окна, как будто услышал доносящийся оттуда зовущий тайный голос. Выражение его лица было совершенно непередаваемым.
Он знал, что я там!
В одно мгновение я взлетел по скользкой стене и оказался на крыше.
Однако я по-прежнему его слышал. Взглянув вниз, я увидел его руки, вцепившиеся в переплет окна. В абсолютной тишине я отчетливо ощущал охватившую его панику. Он чувствовал, что я где-то рядом. Заметьте, он сознавал мое присутствие точно так же, как я сознавал чье-то присутствие на кладбище. Но он отказывался верить своим ощущениям, пытаясь убедить себя в том, что этого не может быть, что Лестат не может находиться рядом.
Я был слишком потрясен, чтобы что-либо предпринять. Вцепившись в желоб на краю крыши, я услышал, как ушли гости, и понял, что Ники остался в одиночестве. Я способен был думать лишь об одном: чье же присутствие ощущает он сейчас, какова природа этого присутствия?
Ведь я уже не был Лестатом. Я превратился в демона, в жестокого и жадного вампира, и все же он чувствовал, что я рядом, что рядом с ним Лестат – юноша, которого он когда-то знал!
Это отнюдь не походило на ситуацию, когда кто-либо из смертных сталкивался со мной лицом к лицу и смущенно бормотал мое имя. В моей нынешней поистине чудовищной натуре Ники сумел уловить нечто такое, что он знал и любил.
Я перестал прислушиваться к нему и распластался на крыше.
И все же я отчетливо сознавал каждое его движение, слышал, как он ходит внизу, как направляется к фортепиано, берет в руки скрипку и вновь возвращается к окну.
Я зажал руками уши.
Но все равно услышал звук. Он рвался из скрипки и рассекал темноту ночи, словно сияющий свет, в корне отличающийся от реального, материального света, от воздуха и вообще от чего-либо существующего в природе. Казалось, он способен прорваться к звездам.
Никола страстно водил смычком по струнам, и я ясно представлял себе, как он раскачивается взад и вперед, как прижимает склоненную голову к деке, как будто старается слиться с музыкой воедино. Но вскоре я совершенно перестал ощущать его – остались только звуки музыки.
Они были то продолжительными и вибрирующими, то превращались в доводящие до дрожи глиссады. Скрипка существовала и звучала сама по себе, делая остальные формы речи фальшивыми и лживыми. Мелодия наполнялась страстью, постепенно превращаясь в истинное воплощение отчаяния и горя. Создавалось впечатление, что ее красота не более чем ужасное совпадение, недоразумение, не имеющее ничего общего с реальностью.
Действительно ли он пытался выразить таким образом свою веру, те мысли и чувства, которые испытывал, когда я твердил ему о добродетели? Хотел ли он заставить скрипку высказать то, что было у него на душе? Сознательно ли извлекал из инструмента продолжительные, вязкие звуки, доказывая, что красота есть ничто, ибо исходит из переполняющего его отчаяния, и что она не имеет с отчаянием ничего общего, поскольку отчаяние не может быть прекрасным? И разве в таком случае красота не является воплощением страшной иронии судьбы?
Я не в силах был ответить на эти вопросы. Но, как всегда, звуки существовали отдельно от Ники. Они становились чем-то гораздо большим, чем просто выражение отчаяния. Словно воды, без каких-либо усилий стекающие по склонам гор и продолжающие путь по равнине, музыка постепенно замедляла течение, превращалась в плавную мелодию. Она становилась мрачнее и глубже, но в ней по-прежнему сохранялось нечто буйное и одновременно целомудренное, строгое, способное разбить сердце. Теперь я лежал на крыше, обратив глаза к небу и глядя на звезды.
Недоступные взгляду смертных средоточия света… Фантомные облака… И доносящиеся снизу пронзительные звуки скрипки, свидетельствующие о предельном напряжении душевных сил…
Я лежал не шевелясь.
Я находился в странном состоянии молчаливого понимания того языка, на котором сейчас разговаривала со мной скрипка. Ах, Ники, если бы только мы могли поговорить… Если бы могли продолжить наши беседы…
Нет, красота вовсе не была обманом и не предавала его, как это ему казалось. Скорее, это была некая неведомая и неисследованная область, в которой каждый обречен совершить множество роковых промахов, – своего рода дикий и равнодушный ко всему рай, где нет четкого обозначения и разграничения понятий добра и зла.
Несмотря на все изящество и совершенство, достигнутые цивилизацией и отраженные в искусстве, будь то головокружительное волшебство струнного квартета или пышное великолепие картин Фрагонара, красота жестока и беспощадна. Она так же опасна и так же не признает никаких законов, как когда-то, за много веков до возникновения первой осознанной мысли в голове человека и до первых правил поведения, записанных им на глиняных табличках, был опасен и беззаконен мир. Красота всегда больше походила на Сад Зла.
Почему же тогда его ранило сознание того, что прекрасна даже та музыка, которая способна низвергнуть человека в бездну отчаяния? Почему мысли об этом причиняли ему боль, лишали веры и делали его циничным?
Понятия добра и зла были придуманы человеком. А человек, наверное, все же лучше, чем Сад Зла.
И тем не менее вполне возможно, что в глубине души Ники всегда мечтал о всеобщей гармонии. В отличие от него я был уверен в том, что она недостижима. Ники грезил не о добродетели, но о справедливости.
Как жаль, что нам уже не суждено поговорить с ним об этом. Никогда больше не окажемся мы с ним в кабачке. Прости меня, Ники. Добро и зло все еще существуют, как существовали во все времена. Но наши с тобой беседы навсегда ушли в прошлое.
Однако, едва спустившись с крыши и в молчаливой задумчивости бредя прочь от Иль-Сен-Луи, я твердо знал, что собираюсь сделать. Хотя даже сам себе боялся в этом признаться.
Когда следующим вечером я прибыл на бульвар Тамплиеров, было уже очень поздно. Я хорошо подкрепился на Ильде-ля-Сите, а в театре Рено первый акт представления был в самом разгаре.
Глава 12Я был одет, как на прием при королевском дворе. На мне был костюм из серебряной парчи, а на плечах короткий плащ из нежно-голубого бархата. К поясу была прицеплена новая шпага с резной серебряной рукояткой, а башмаки украшали изысканные тяжелые пряжки. Я уже не говорю о таких непременных атрибутах костюма, как кружева, перчатки и шляпа. К дверям театра я подъехал в наемном экипаже.
Расплатившись с кучером, я прошел по аллее и открыл дверь, ведущую прямо за кулисы.
Меня тут же окружила до боли знакомая атмосфера, пропитанная запахами грима и дешевых костюмов, пропахших потом, духами и пылью. За беспорядочным нагромождением опор для декораций я увидел кусочек ярко освещенной сцены и услышал раздающиеся в зале взрывы хохота. Несколько акробатов ждали своей очереди, чтобы выступить в перерыве, а рядом с ними стояли клоуны в красных рейтузах, шляпах и гофрированных воротниках, украшенных золотыми колокольчиками.
На какой-то миг я почувствовал страх, от которого у меня даже закружилась голова. Мне вдруг показалось, что опасность поджидает меня со всех сторон, но в то же время было так чудесно снова оказаться здесь. В душе моей воцарилась печаль, хотя нет – это скорее можно было назвать паникой. Первой меня заметила Лючина и тут же завизжала на весь театр. Мгновенно распахнулись двери крошечных, тесных гримерных. Подскочивший ко мне Рено схватил и крепко сжал мою руку. Там, где еще секунду назад были лишь деревянные декорации и полотнища кулис, теперь бурлило море взволнованных людей с красными и влажными от возбуждения лицами… Я непроизвольно отпрянул от канделябра с чадящими свечами и резко вскрикнул:
– Мои глаза!.. Потушите!..
– Потушите свечи! Разве вы не видите, что у него от света болят глаза?! – воскликнула Жаннетт, и тут же я почувствовал на щеке прикосновение ее влажных полуоткрытых губ.
Вокруг меня тесно сгрудилась вся труппа, даже акробаты, которые меня совсем не знали, даже старые художники и плотники, которые создавали декорации и которые в свое время столь многому меня научили.
– Позовите Ники! – приказала Лючина, и в этот момент я едва не закричал «нет».
Маленький театр задрожал от шквала аплодисментов. Занавес закрылся, и я очутился в объятиях старых актеров, а Рено уже требовал, чтобы принесли шампанского.
Я закрывал руками глаза, как будто, словно василиск, мог убить своих друзей одним взглядом. К тому же я чувствовал, как навернулись непрошеные слезы, и понимал, что должен смахнуть их, прежде чем кто-либо заметит, что они полны крови. Однако я был окружен таким тесным кольцом, что не имел никакой возможности вытащить из кармана носовой платок. Словно почувствовав вдруг ужасную слабость, я обхватил руками Жаннетт и Лючину и прижался к Лючине лицом. Обе они были легкими, как птички, как будто их кости были наполнены воздухом, а сердечки трепетали словно крылышки. Какие-то доли секунды я прислушивался к пульсирующей в них крови ушами вампира, но вдруг ощутил всю непристойность своего поведения. А потому я полностью отдался во власть их объятий и поцелуев, стараясь не обращать внимания на биение их сердец, полной грудью вдыхая исходящий от них запах пудры, снова и снова ощущая прикосновение влажных губ.
– Ты даже представить себе не можешь, как мы беспокоились! – громко ворчал Рено. – А потом все эти рассказы о твоем богатстве! Все, буквально все только об этом и говорили!
Он вдруг захлопал в ладоши.
– Ах, это месье де Валуа, владелец величайшего театрального заведения!..
Он произнес еще множество возвышенных и шутливых слов, заставляя все новых и новых актеров и актрис целовать мои руки – если бы мог, он, наверное, заставил бы их целовать мне ноги. Я крепко вцепился в девушек, словно готов был рассыпаться на куски, если меня оторвут от них. И вдруг… я услышал Ники, точнее, почувствовал, что он стоит не более чем в футе от меня, и понял, что он слишком рад меня видеть, чтобы я мог по-прежнему заставлять его страдать.
Я продолжал стоять с закрытыми глазами и ощущал, как его рука сначала коснулась моего лица, а потом крепко прижалась к затылку. По-видимому, все расступились, чтобы дать ему дорогу, и, когда мы оказались в объятиях друг у друга, в первый момент я задрожал от беспредельного ужаса. Однако тут же вспомнил, что вокруг царит полумрак и к тому же я подкрепился особенно основательно, чтобы согреться и походить на обыкновенного человека. Уже в следующее мгновение я забыл обо всем, кроме того, что вижу перед собой Ники.
Я взглянул ему прямо в лицо.
Как объяснить, какими мы видим живых людей? Я уже пытался это описать, когда говорил, что прелесть Ники для меня состояла в сочетании цвета и движения. Но вы даже представить себе не можете, что мы испытываем, видя перед собой человеческую плоть! В наших глазах живое существо состоит из миллиардов цветовых оттенков и мельчайших движений. Это сияние полностью гармонирует и смешивается с запахом человеческого тела. Красота – вот что такое для нас человеческое существо, если мы перестаем относиться к людям, даже к старым и больным, как к недостойным внимания жалким тварям, толпами снующим по улицам. Люди для нас словно распускающиеся цветы или бабочки, покидающие свои коконы и расправляющие крылья.
Так вот, именно таким я увидел Ники, почувствовал запах пульсирующей в нем крови и в течение нескольких поистине упоительных мгновений не испытывал ничего, кроме всепоглощающей любви к нему, затмившей все и заставившей забыть о мучивших меня страхах. Казалось, перестали существовать все приобретенные мною способности, еще недавно приводившие меня в восхищение и вызывавшие порочный восторг. Возможно, мне доставляла безграничную радость мысль о том, что, несмотря на все сомнения, я способен любить.
Окружавшие смертных тепло и уют действовали на меня словно яд. Казалось, еще немного, и я закрою глаза, потеряю сознание и провалюсь в небытие, увлекая за собой Ники.
Но одновременно меня беспокоило и другое – нечто, заставлявшее собрать все силы и принуждавшее лихорадочно работать мой мозг. Я не хотел признаться в этом даже самому себе и в то же время понимал, что еще немного, и я потеряю над собой контроль. Я отлично сознавал, что это за ощущение – чудовищное, всепоглощающее и в такой же степени естественное для меня, в какой противоестественным был солнечный свет. Я жаждал Ники. Я жаждал его точно так же, как и любую другую свою жертву, добытую в битве на Иль-де-ля-Сите. Я хотел, чтобы его горячая кровь разливалась по моему телу, хотел попробовать ее на вкус, ощутить запах.
Маленькое здание сотрясалось от громких криков и взрывов хохота. Рено приказал акробатам начать выступление в антракте, а Лючина тем временем откупоривала шампанское. Мы же никак не могли разжать объятия.
Жар, исходящий от его тела, заставил меня напрячься и отпрянуть, хотя со стороны казалось, что я даже не пошевелился. Меня сводила с ума мысль о том, что этот человек, которого я любил так же, как любил мать и братьев, единственный, к кому я испытывал искреннюю нежность, был для меня неприступной крепостью, в то время как сотни других жертв доставались мне с необыкновенной легкостью. Он крепко сжимал меня в объятиях, даже не подозревая, как сильно я жажду его крови.
Именно таковым было мое предназначение. Именно этим путем я должен был теперь идти. Те, другие, убийцы и воры, которых я встречал и убивал на темных улицах Парижа, теперь ничего для меня не значили. Вот чего я хотел. В голове у меня словно взорвалось что-то, и мысль о возможной смерти Ники вызывала во мне благоговейный страх. Глаза мои оставались по-прежнему закрытыми, но темнота приобрела кровавый оттенок. Я представил себе, как опустошается мозг Ники, как вместе с жизнью из него уходят последние частички разума.
Я не в силах был пошевелиться. Прижавшись губами к шее Ники, я будто чувствовал, как потоком перетекает в меня его кровь. Каждая клеточка во мне не переставая твердила: «Возьми его, унеси подальше отсюда его дух, пей, пей из него, пока… пока…» Пока что? Пока он не умрет!
Я разжал объятия и оттолкнул его от себя. Вокруг нас все веселились и громко шумели. Рено кричал на акробатов, которые не могли оторваться от этого зрелища. А публика в зале топала и хлопала, требуя обещанного развлечения в антракте. Оркестр заиграл веселую мелодию, которая должна была сопровождать выступление акробатов. Со всех сторон на меня натыкалась человеческая плоть. Я вдруг почувствовал себя на бойне и ощутил запах приговоренных к смерти. И реакция моя была неожиданно вполне человеческой – во мне поднялась и комом встала в горле тошнота.
Ники, казалось, утратил всю присущую ему уравновешенность. Встретившись с ним глазами, я увидел в его взгляде осуждение. Мне стало вдруг очень горько, больше того, я был на грани отчаяния.
Я резко рванулся, промчался мимо всех, мимо акробатов со звенящими колокольчиками, но, сам не знаю почему, бросился не к выходу, а к кулисам. Мне необходимо было увидеть сцену, необходимо было увидеть публику. Я должен был глубже проникнуть в нечто такое, чему сам не знал названия.
В тот момент я был как безумный, а потому слова «хотел» или «думал» абсолютно не соответствуют моему истинному состоянию.
Я чувствовал невероятную тяжесть в груди, и, словно кошка острыми когтями, внутри меня скреблась и рвалась наружу страшная жажда. Чтобы перевести дух, я прислонился к деревянной перекладине возле занавеса и тут же вновь вспомнил о Ники, о его боли и непонимании…
Я крепко вцепился руками в стропила и дал волю бушующей в груди жажде, готовой вот-вот разорвать мои внутренности. Перед глазами вереницей промелькнули все мои жертвы, отбросы общества, подонки, обитавшие в самом чреве Парижа. Я отчетливо осознал весь ужас своего положения, безумие избранного мною пути и связанную с ним необходимость постоянно лгать. Что за возвышенный идиотизм следовать презренной морали и во имя надежды на собственное спасение уничтожать тех, кто был проклят самой жизнью? Кем я себя вообразил? Тем, кто обладает правом наравне с парижскими судьями и палачами наказывать бедняков за те преступления, которые богатые совершают на каждом шагу?
Я пил крепкое вино из сосудов, от которых остались теперь одни осколки, а ныне передо мной стоял священник с золотой чашей в руках, и вино в этой чаше превратилось в кровь жертвенного ягненка.
– Что случилось, Лестат? Расскажи мне, – услышал я рядом с собой быстрый шепот Ники. Он оглянулся, чтобы убедиться в том, что нас никто не подслушивает. – Где ты пропадал? Что с тобой произошло?
– Отправляйтесь на сцену! – гремел голос Рено, обращенный к раскрывшим от удивления рты акробатам. Они промчались мимо нас к ярко освещенной рампе и принялись крутить серию сальто.
Оркестр снова заиграл, струны затрепетали, как птичьи крылья. На сцене возник круговорот ярких клоунских нарядов, зазвенели колокольчики… Публика неистово хлопала, отовсюду раздавались крики:
– Покажите нам что-нибудь действительно стоящее! Покажите, на что вы способны!
Лючина снова набросилась на меня с поцелуями, а я не мог оторвать взгляд от ее белоснежной шеи, от молочной белизны рук. Я отчетливо видел, как просвечивают под кожей лица Жаннетт сосуды, как медленно приближаются ко мне ее губы. Все шампанское давно было выпито. Рено произносил речь, говоря что-то о будущем «партнерстве», о том, что маленькое сегодняшнее представление – это только начало и в будущем наш театр станет самым большим на бульварах. Я увидел себя в гриме Лелио и услышал песенку, которую, опустившись на одно колено, пел Фламинии.
Прямо передо мной, на сцене, маленькие человечки продолжали усиленно кувыркаться и демонстрировать разные трюки, а когда тот, что был у них за главного, изобразил задом какое-то непристойное движение, публика в зале буквально взвыла.
Прежде чем успел сообразить, что делаю, я уже шагнул на сцену.
Я стоял на середине сцены, чувствуя жар огней рампы, от дыма которых щипало глаза. Внимательно оглядев переполненную галерку, ложи и уходящие вдаль до самой противоположной стены ряды партера, я рявкнул акробатам, чтобы они убирались.
Меня встретили оглушительным хохотом, насмешками и язвительными выкриками. На всех без исключения лицах я видел лишь ехидные улыбки. Я продолжал стоять, напевая песенку Лелио. Это была лишь часть партии, но именно эти слова я всегда бормотал себе под нос, гуляя по парижским улицам: «Прекрасная, прекрасная Фламиния…» – и так далее, набор каких-то бессмысленных фраз.
Вокруг стоял невообразимый шум, сквозь который до меня доносились оскорбительные выкрики.
– Продолжайте представление! Ты, конечно, красавчик, но мы хотим увидеть, что будет дальше!
С галерки прямо мне под ноги кто-то швырнул огрызок яблока.
Расстегнув застежку плаща, я скинул его на пол. Потом то же самое проделал со своей серебряной шпагой.
Песенку я пел теперь совсем тихо, почти про себя, но в голове моей громогласно звучали какие-то сумасшедшие поэтические строки. Я вновь отчетливо сознавал дикость и жестокость красоты, точно так же, как ощущал это накануне, когда слушал, как играет Ники. Казалось, что в ее непроходимых джунглях не было и не могло быть места такому заблуждению разума, как мораль. Перед моими глазами стояло видение, которое я созерцал, но не понимал его сути. Я лишь сознавал, что сам являюсь частью его, такой же реальной и естественной, как кот, равнодушно и бесстрастно вонзающий когти в спину визжащей крысы.
– Да, настоящая красавица – эта старуха с косой, – пробормотал я, – которая способна разом задуть «недолговечные свечи», унести отсюда все трепещущие живые души.
Однако слова оставались для меня недостижимыми.
Возможно, они плавали в каком-то ином пространстве, где царствовал некий бог, которому понятно было сочетание цветовых пятен на коже кобры или волшебство восьми нот, заставляющих музыку, звучащую из инструмента Ники, разрывать на части души, но которому абсолютно чужда заповедь «Не убий», не принимающая в расчет понятия красоты и уродства.
Из темноты на меня уставились сотни сальных физиономий. Неряшливые парики, фальшивые драгоценности, потрепанные наряды и кожа, словно вода обтекающая искривленные кости… На галерке свистели и топали нищие оборванцы – горбуны и одноглазые, вонючие калеки на костылях, с зубами цвета свежевырытого из могилы черепа…
Взметнув вверх руки и чуть согнув колени, я начал вертеться на месте, как это обычно делают акробаты и танцоры, без усилий все ускоряя и ускоряя темп, потом резко откинулся назад, стремительно прошелся колесом и следом сделал несколько сальто. Я старался вспомнить и повторить все, что мне когда-либо приходилось видеть во время выступлений акробатов на деревенских ярмарках.
Зал взорвался аплодисментами. Я был проворен и подвижен, как когда-то в родной деревне. Сцена казалась мне маленькой и тесной, потолок низким и давящим, а дым огней рампы окутывал меня и пытался удержать. Вновь на память мне пришла песенка, обращенная к Фламинии, и я запел ее во весь голос, не переставая одновременно кружиться, прыгать и вертеться на месте волчком. Обратив лицо к потолку, я чуть согнул колени и заставил тело рвануться вверх.
В одно мгновение я достиг перекрытий, коснулся стропил, а потом медленно и грациозно опустился обратно на сцену.
Зрители все как один вскрикнули. Толпа людишек в париках в изумлении застыла. Музыканты давно уже молчавшего оркестра удивленно переглядывались между собой. Им-то было доподлинно известно, что никакой проволоки не было.
А я, к удовольствию публики, снова вспорхнул вверх, на этот раз еще и крутя сальто. Поднявшись над расписной сценической аркой, я, медленно вращаясь, вернулся на подмостки.
Раздались громкие аплодисменты, перекрываемые криками и приветствиями, но те, кто оставался за кулисами, замерли в гробовом молчании. Стоявший впереди всех Ники беззвучно, одними губами, шептал мое имя.
– Это всего лишь трюк, фокус, – раздавалось со всех сторон.
Зрители обращались друг к другу, ища подтверждения своим словам. На мгновение передо мной мелькнуло лицо Рено с вытаращенными глазами и широко раскрытым ртом.
Но я уже начал новый танец. Теперь публику мало волновала его красота и грация. Я это отчетливо чувствовал, и потому танец мой постепенно превращался в своего рода пародию, каждое движение, каждый жест был шире, длиннее и медленнее, чем это мог позволить себе любой смертный танцор.
За кулисами кто-то вскрикнул, но ему тут же велели замолчать. Тихие вскрики раздавались из оркестра и из первых рядов партера. Людям становилось не по себе, они начали тихо переговариваться между собой. А столпившийся на галерке сброд по-прежнему что было мочи кричал и хлопал.
Неожиданно я сделал резкий выпад в сторону зрителей, словно хотел наказать их за грубость. Некоторые так испугались, что вскочили с мест и в поисках спасения бросились в проходы между рядами; один из музыкантов выронил из рук трубу и стремительно выбрался из оркестровой ямы.
Лица многих были искажены волнением и даже гневом. Что это еще за фокусы? Они больше не доставляли публике удовольствия, потому что никто не мог понять природу моего мастерства. А кроме того, их пугала манера моего поведения и серьезное выражение лица. В какой-то момент я отчетливо осознал их полнейшую беспомощность.
И тогда понял, что они обречены.
Они были не более чем скопищем галдящих скелетов, покрытых плотью и одеждой. И тем не менее они храбрились и орали, движимые непреодолимой гордыней.
Я медленно воздел руки, призывая к вниманию, а потом хорошо поставленным голосом громко запел песенку, обращенную к Фламинии, к моей милой Фламинии. Я пел один куплет за другим, заставляя свой голос звучать все громче и громче, пока наконец публика не начала с воплями вскакивать со своих мест. Но голос мой продолжал усиливаться, заглушая все остальные звуки и превращаясь в невыносимый рев. Я видел их всех: сотни людишек, опрокидывая скамьи и зажав руками уши, бросились к выходу. Рты их были перекошены в немом крике.
Поистине вавилонское столпотворение! С воплями и проклятиями, шатаясь и спотыкаясь, они пытались вырваться из этого кромешного ада. Занавес был сорван. Стремясь поскорее добраться до улицы, люди прыгали с галерки.
Я прекратил свое жуткое пение.
Наступила звенящая тишина. Я смотрел со сцены на эти слабые, потные, неуклюже разбегающиеся во все стороны тела. В открытые двери ворвался ветер, и я вдруг почувствовал, что руки и ноги мои почему-то застыли от холода, а глаза превратились в осколки стекла.
Ни на кого больше не глядя, я поднял с пола и прицепил на место шпагу, а потом пальцем подхватил за воротник измятый и покрытый пылью бархатный плащ. Мои движения были столь же нелепыми, как и все, что я только что делал, но для меня теперь ровным счетом никакого значения не имело то, что Никола беспрестанно выкрикивал мое имя и продолжал отчаянно вырываться из крепко державших рук друзей-актеров, которые опасались за его жизнь.