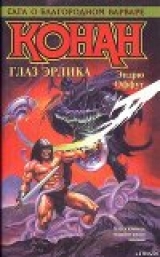
Текст книги "Меч Скелоса"
Автор книги: Эндрю Оффут
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
18. КЛЮЧ К ЗАМБУЛЕ
У Балада была поддержка. У Балада была организация и были последователи; Балад чувствовал себя готовым («Я и народ Замбулы!», как он выражался) выступить против Актер-хана. Ему нужен был только ключ: происшествие или хитрость, которая еще не пришла ему в голову или не подвернулась под руку.
Большой отряд солдат был размещен в бараках в восточной части Замбулы. Широкая мощеная дорога обеспечивала быстрый проезд через город ко дворцу. Там, в самом королевском доме и в прилегающих к нему бараках, похожих на таверны, были расквартированы еще две сотни солдат. Некоторые называли их избранными; официально они именовались Хан-Хилайим, или Шипы Хана. Предполагалось, что они должны оставаться верными Актеру, невзирая на оскорбления с его стороны или на настроения некоторых или даже большинства людей. У Шипов была хорошая плата, хорошие квартиры и хорошая еда. Их в достаточном количестве снабжали солью, превосходным пивом и женским обществом. Любой дворец – это твердыня, легко обороняемый дом правителя и последнее пристанище и крепость для его народа; дворец Замбулы не был исключением. Две сотни избранных могли выдержать долгую осаду значительно превосходящих сил противника. К тому же конные подкрепления из бараков, находящихся по другую сторону города, могли подняться по тревоге, вооружиться, оседлать лошадей и прибыть на место действия в течение часа; это время от времени подтверждалось учебными тревогами и построениями. Таким образом хан готовился к атакам из-за стен города – и принимал меры предосторожности против восстаний, от которых не застрахован ни один правитель. Хотя шпионы во дворце могли и открыли бы двери войскам Балада, им, как и нападающим, пришлось бы пройти мимо Шипов.
Поэтому Баладу, не имеющему армии или внешних союзников и магии под стать той, которой обладал ханский волшебник, – Баладу нужна была хитрость или случай, который он называл Ключом. Нужно было нечто, что отвлекло бы отряд, расквартированный в бараках, армию – и, возможно, оттянуло бы из дворца некоторых из Хан-Хилайим.
Голубоглазый чужестранец с далекого севера понял, что он сможет дать Баладу такой ключ.
Конан никогда не присоединился бы к Баладу. Замбула вряд ли была его городом, и эти люди вряд ли были его народом. У него не было намерений помогать или мешать их действиям. Эти люди не имели никакого отношения к Конану. Если бы ему дали пост среди Шипов Актер-хана, он сохранял бы верность и, без сомнения, применил бы свой ум и мастерство против Балада и компании. Вместо этого Актер-хан пригласил его на обед, угостил вином, наградил, осыпал похвалами, выслушал его историю, а потом проявил свое вероломство по отношению к человеку, который оказал ему крайне важную услугу, который считал его другом и достаточно хорошим правителем, принимая во внимание то, что этот человек знал и предполагал о правителях вообще.
Неважно, имел ли Глаз Эрлика для Актер-хана какую-то ценность или нет, но Актер-хан верил, что имел, и именно это придавало амулету ценность. Предположительно было правдой, что Глаз можно было использовать против Актера – сам факт, что амулет был украден, привел его в состояние, близкое к •ужасу.
– Жаль, что я сразу не отдал амулет тебе, Балад, – проворчал киммериец.
– Мне тоже, Конан, – не без некоторого сожаления ответил заговорщик и вновь вернулся к практической стороне составления заговора.
Неважно, что Конан все это время служил своим собственным интересам и вряд ли впутался бы во всю эту длинную цепь событий с какой-либо мыслью о том, чтобы помочь Актер-хану из Замбулы. Киммериец выбросил это из головы, заменив на праведные горечь и гнев. Он потратил много сил, чтобы сослужить службу этому вероломному и неблагодарному человеку. По сути дела, он отдал Актер-хану несколько месяцев своей жизни – полгода, если бы он отправился теперь в обратный путь к Заморе. И Испарана тоже отдала многое, пожертвовала многим. А хан, ее хан, оказался поистине вопиюще неблагодарным властелином! Теперь Испарана была его узницей где-то внутри дворца, – если она еще была жива, – а Конан оставался на свободе только благодаря случаю и Баладу.
Поэтому он испытывал горечь, и гнев, и разочарование в самом себе за то, что не заподозрил ничего со стороны Актер-хана. Ему необходимо было удовлетворение – месть. Поэтому он присоединился к Баладу. И ему не понадобилось много времени, чтобы узнать о стоящих перед заговорщиками проблемах.
Он поможет Баладу. И таким образом – ему не было необходимости говорить себе об этом – благородно и героически поможет народу Замбулы. Актер не был достойным правителем – если таковые вообще существовали, в чем Конан сильно сомневался; Актер, в любом случае, был даже хуже, чем многие из тех, у кого костенели мозги и размягчались задницы от долгого сидения на тронах. Вообще-то хан сам предоставил Баладу его ключ. Конан просто увидел, как его использовать. Актер совершил более чем предосудительное преступление, убив девочку-подростка, которая была подарком вождя шанки. Как оказалось, это убийство было еще и глупостью. Оно обеспечило ключ.
Не кто иной, как киммериец Конан сделал так, чтобы Хаджимена из племени шанки проводили в крепость революционера Балада, с которым Конан уже договорился; Хаджимен и Конан поговорят наедине в этой комнате. Они негромко разговаривали – одетый в шаровары житель пустыни и киммериец в только что сшитой тунике из простой домотканой материи коричневого цвета.
– Ты знаешь, что шанки не могут надеяться завоевать Замбулу, – сказал Конан сыну Ахимен-хана, – или даже пробить брешь в ее стенах. У шанки недостаточно сил.
– Один молодой воин шанки стоит пятерых иоггитов, – Хаджимен сплюнул, – и троих замбулийцев, несмотря на все их доспехи из железных колец!
Конан кивнул:
– Правда. Я знаю. Этого недостаточно. Лучшие воины среди замбулийцев превышают число лучших воинов среди шанки в соотношении, гораздо большем, чем три к одному, – и, кроме того, они сидят за этими стенами.
Хаджимен вздохнул, встал, походил по комнате, вернулся и опустился на подушку рядом с той, на которой сидел Конан. Киммериец решил провести разговор с шанки в манере шанки, хотя его раздражение, вызванное этим окольным способом обращения, проявлялось все более явно. Вообще-то усилия Конана в отношении этого молодого ханского сына увенчались некоторым успехом: Хаджимен уже был в состоянии время от времени обращаться к киммерийцу, говоря «ты» и «Конан». Однако не в этот раз.
– Конан знает, что я знаю истинность того, что он сказал, – произнес Хаджимен, который выглядел мрачно, словно жрец на похоронах государственного масштаба. – Тем не менее, здесь идет речь о чести шанки и о гордости моего отца. Знает ли он, что было бы глупо атаковать этот город?
– Суть в том, сможет ли он понять и принять, что не Замбула, а Актер и его маг убили твою сестру? Вам не нужно воевать с замбулийцами, которые не любят и не уважают своего хана. Это счеты между шанки – нет, между твоим отцом и Актером с Зафрой.
– И мной, Конан! Да, я вижу это. Я знаю это. Мне лучше не рассказывать об этом отцу. Мне лучше остаться здесь и самому отомстить за свою сестру – как-нибудь, – безрадостно добавил он, – а потом одновременно сообщить шанки подробности о ее смерти и о нашей мести Хану.
Конан покачал головой.
– Это не лучший выход. Это смело и глупо, и мы оба знаем это.
Хаджимен сердито посмотрел на человека, сидящего вместе с ним в этой комнате виллы князя Шихрана; виллы, принадлежащей теперь заговорщику Баладу, которому хотелось быть Балад-ханом. Спустя какое-то время Конан протянул руку, чтобы тепло коснуться руки шанки; гордый воин пустыни отстранился. Мысленно вздыхая при виде такого поведения, которое он считал глупым, Конан узнал кое-что о самом себе и о гордости и чести.
– Ну ладно, Хаджимен. Ты знаешь, что я имею в виду. Ни ты, ни я не верим, что тебе удастся подойти к Актеру так близко, чтобы иметь возможность убить его. И даже если бы тебе это удалось – как-нибудь, как ты сказал, – ты никогда не дожил бы до того, чтобы рассказать об этом своему отцу. Тогда он лишится не только дочери, но и сына. Ты знаешь, что он сделает потом. Пойдет в атаку и погибнет.
Хаджимен с подергивающимся лицом уставился на него. Потом он резко отвернулся и подошел к открытому узкому окну.
– Конан мудр. Во имя Тебы – сколько тебе лет, Конан?
Киммериец улыбнулся.
– Достаточно много, чтобы давать советы, которые, возможно, у меня не хватило бы благоразумия принять.
Хаджимен, стоя к нему спиной, фыркнул.
– И что Конан хочет, чтобы мы делали? Вели себя так, словно вообще ничего не случилось? Этот человек принял мою сестру в дар от нашего отца и убил ее, словно она была воровкой или иоггиткой!
Хаджимен сплюнул, продолжая демонстрировать Конану свою широкую спину в желтой рубашке.
– Нет. Послушай теперь меня. Самое величайшее, что человек может сделать, это хранить все про себя, чтобы помешать своему отцу в ослеплении честью и гордостью совершить глупость, – зная все это время, что месть невозможна, но может стать возможной в один прекрасный день. Я знаю, что ни Хаджимен, ни Конан не настолько велики! Нет, Хаджимен, сын Ахимена, я обращаюсь к тебе прямо. Слушай меня внимательно. Даже солдаты Замбулы не поддерживают Актер-хана. Мне бы очень хотелось, чтобы ты увидел смерть своей сестры отмщенной, Хаджимен! В то же самое время, шанки могут героически помочь замбулийцам избавиться от того недостойного существа, которое живет в их дворце. Хаджимен! Послушай! Я бы хотел, чтобы ты… я хотел бы попросить тебя, чтобы ты как можно быстрее поскакал к отцу и вернулся с отрядом воинов. Пусть они будут снаряжены для битвы, пусть под ними будут самые быстрые ваши верблюды. Они должны будут остановиться на большом расстоянии от городских стен и посылать стрелы в стены, а не поверх них в Замбулу. И все это время выкрикивать обвинения и вызов Актер-хану!
Хаджимен резко повернулся, чтобы взглянуть в лицо рослому человеку с голубыми глазами.
– А! – на лице воина пустыни отразились возбуждение и надежда; однако в его глазах под племенным знаком свирепого и вдвойне гордого шанки таился вопрос. – Но… такой человек не выйдет нам навстречу!
– Нет, не выйдет. Он будет сидеть у себя во дворце, зная, что его солдаты вскоре отобьют эту смехотвор… эту глупую атаку. Против вас выступят солдаты из гарнизона; они будут радоваться возможности действовать и жаждать крови. И тогда шанки должны сделать нечто отважное и благородное… и трудное. Вы должны будете обратиться в бегство.
– Бегство! – Хаджимен с ужасом выплюнул это слово, чуждое его природе.
– Да, Хаджимен! – Конан позволил своему голосу возбужденно повыситься; ему необходимо было завербовать шанки для осуществления этого плана. – Да! Пусть они выйдут из-за стен и атакуют вас. Сражайтесь с ними, убегая. Бегите все дальше и дальше.
Когда они наконец перестанут вас преследовать, а это должно случиться, остановитесь, перестройтесь и наблюдайте за ними, пока они не отойдут от вас на
значительное расстояние, возвращаясь в город. Тогда бросайтесь за ними в погоню!
А! И потом мы настигнем этих шакалов, и навалимся на них сзади, и перережем их на скаку! Так мы сможем изменить соотношение сил в нашу пользу. Конан тяжело вздохнул, позаботившись о том, чтобы Хаджимен это заметил.
– Они не шакалы, Хаджимен, друг мой. Это молодые люди и юноши, как мы, отважные и служащие плохому хану. Нет, они повернутся и перестроятся, чтобы встретить вашу атаку. Тогда вы должны будете развернуться и снова, не замедляя бега, ускакать прочь, так, чтобы они последовали за вами. Если это будет возможно, небольшой отряд шанки должен будет подъехать к городским воротам. Это несколько нагонит страху на тех, кто будет наблюдать за вами со стен. Может быть, они вызовут подкрепление – из дворца.
– Во всем этом я не вижу чести, и шанки так не поступают, Конан. Какова цена этих безобидных скачек по равнине за пределами этих стен?
– А! Хаджимен, ты действительно великий человек! Ты спрашиваешь, вместо того, чтобы впадать в неистовство, – это верная примета! Ты действительно станешь преемником Ахимена, Хаджимен, и у шанки будет хороший вождь! Подумай. Шанки могут вооружить и посадить в седло… сколько? Возможно, три сотни человек, если мы включим сюда мальчиков, только что вышедших из детского возраста, и тех, для кого расцвет жизни уже далеко позади?
– И сотню женщин и девушек! Наши женщины – это не слабенькие игрушки, как те, которых я видел в этом лагере, окруженном стенами!
– …в то время, как здесь расквартировано более двух тысяч солдат. Такая армия перебьет вас всех, включая девушек и женщин, а Актер в это время будет сидеть в безопасности в своем дворце, а позже прикажет уничтожить шанки всех, до единого. Таким образом, я показываю тебе. что ты должен объединиться с теми, кто одолеет Актера. Они смогут сделать это только с помощью шанки, Хаджимен!
Хаджимен, сын хана, задумчиво посмотрел на него.
– Конан и Балад.
– Да, и другие, – энергично кивая, ответил Конан. – Я могу пробраться во дворец. Я проберусь туда. Балад может пойти в наступление, и победить, и свергнуть Актер-хана… если ханские воины будут заняты погоней за призраками в пустыне.
– Призраки? Шанки!
– Да! – вскричал Конан; он видел и слышал возбуждение Хаджимена и начал говорить быстрее и громче, чтобы подстегнуть это возбуждение. – И тогда Балад отзовет войска и откроет им, что шанки – союзники.. и твой народ будет пользоваться любовью в Замбуле и будет союзником ее нового правителя.
– Ха! Замбулийская конница гоняется за шанкийскими призраками, пока наши друзья Конан и Балад занимают дворец! Балад завоевывает корону, и замбулийцы получают нового, лучшего правителя, – а Конан и Хаджимен добиваются мести, справедливости!
Ухмылка Конана была не из тех, что делали его лицо красивым.
– Да, воин . Хаджимен подошел к нему и внезапно застыл в неподвижности с каменным лицом.
– А Актер-хан, если он останется в живых, должен быть выдан шанки для наказания!
Конан знал, что не может давать подобного обещания, и знал также, что может попасть в беду. Он нашел слова, чтобы высказать это:
– Хаджимен! Тебе следовало бы прямо сейчас скакать к шатрам твоего племени! А вместо этого… разве шанки выдали бы Актер-хана для наказания замбулийцам, если бы он совершил против тех преступление, неважно, насколько тяжкое? Подумай! Актер-хан совершил больше преступлений против своего народа, чем против твоего. Замбулийцы должны покарать его. Он принадлежит им,
он один из них. У меня нет никаких сомнений в том, что он будет казнен… если останется в живых после нашей атаки. И, конечно же, союзники Балад-хана будут присутствовать при том, как Актер умрет!
После долгого молчания Хаджимен кивнул.
– Тебе не обязательно было говорить все это. Ты мог просто сказать «да» и попытаться убедить меня позже.
– Это так. Я что, должен лгать моему другу, сыну моего друга?
Не прошло и часа, а Хаджимен и его отряд уже выезжали из Замбулы. Вместе с ними, переряженный в шанки, отправился Джелаль – человек Балада. Его собственная одежда была в одном из тюков на его вьючной лошади, а шанкийская каффия скрывала лицо, которое кто-нибудь из охраны ворот мог распознать. Через несколько дней, когда шанкийские передовые отряды окажутся меньше чем в дне пути от Замбулы, Джелаль должен будет вернуться – на лошади и в своей собственной одежде – чтобы доложить Баладу. Таким образом отвлекающий маневр из пустыни будет скоординирован с настоящей атакой изнутри стен Замбулы.
После отъезда Джелаля и шанки Конан провел большую часть дня, совещаясь с Баладом и с его товарищами-заговорщиками. Это было не очень-то по душе киммерийцу, который страдал недостатком терпения, свойственным как юности, так и варвару, и предпочитал поменьше заговоров и более прямой подход, выражающийся в решительных действиях. В данном же случае Хаджимен, упрямо настаивающий на том, чтобы проявить глупое благородство, заставил Конана выступить в новой для того роли более вдумчивого и умеющего убеждать человека. Тому, кто в один прекрасный день будет возглавлять группы, потом отряды, потом армии, а потом – целые народы, не было еще и восемнадцати, и он учился – и взрослел.
Часть его дерзкого плана так же мало пришлась по душе Баладу, который, вместе с другими, указал киммерийцу на то, что его желание – решение, но они сказали «желание», – пробраться во дворец, там освободить Испарану и атаковать изнутри было глупым упрямством.
Тот, кто подавал мудрые советы настойчивому Хаджимену и сумел переубедить его, продолжал стоять на своем и не поддавался никаким убеждениям.
Так несколько ночей спустя один опытный вор, в последнее время живший в Шадизаре, и Аренджуне, и Киммерии, перелез через две стены и пробрался во дворец Актер-хана. Менее чем через два часа он был пленником того, кто стал реальным правителем Замбулы: мага Зафры.
19. «УБЕЙ ЕГО!»
Он помнил пытки. Он помнил их смутно, как в тумане, словно его дурманили или околдовали.
Он помнил настойчивое прикосновение острия меча к своей спине – в центре, над копчиком. Он помнил, как его заставили втиснуться между двумя вбитыми в пол столбами, отстоящими друг от друга менее чем на два фута. Острие меча продолжало касаться его спины, пока второй человек привязывал его ноги – щиколотку и бедро – к столбам, каждый из которых был толщиной с его икру. Острие меча прикасалось к его спине постоянным напоминанием, и он не шевелился, пока ему связывали запястья впереди. Кожаные ремни были завязаны множеством узлов. Нажатие в точку на его спине усилилось, заставляя его продвинуться вперед. С привязанными ногами он не мог никуда идти, он мог только сгибаться в поясе. Острие меча вызвало к жизни струйку теплой крови. Он почувствовал ее. Он перегнулся в поясе, наклоняясь вперед. Его связанные запястья были пропущены меж ду его расставленными, привязанными к столбам ногами. Он согнулся еще больше. Длинная веревка, прикрепленная к ремням, стягивающим его запястья, была перехвачена сзади и натянута вверх за его спиной. Он глухо заворчал. Веревка была привязана к железной жаровне, вмурованной в стену в семи-восьми футах позади него. Пол леденил его босые ноги – или это было раньше; он помнил, что потом этот пол стал приятно холодным. Его заставляли нагибаться все дальше вперед; мышцы на его широкой спине лопались от усилия, кровь жарким потоком приливала к голове, заставляя лицо багроветь. В глазах у него помутилось; все стало красным. Прочие узы удерживали его в одном положении. Он не мог милосердно упасть вперед, потому что крепкие веревки притягивали его щиколотки и бедра к столбам. Его рот был забит кляпом, и это оказалось очень унизительным: поскольку он вынужден был стоять, низко нагнувшись вперед, он никак не мог удержать слюну, капавшую вокруг кляпа. Он помнил, что чувствовал ненависть. Он видел все в еще более красном свете, а его голова, казалось, была налита свинцом. В висках у него стучало. В конце концов его голова налилась кровью, и его сознание провалилось.
Он помнил, как просвистел бич, внезапно и резко опускаясь, чтобы стегнуть его поперек спины. Он помнил, как ловил ртом воздух, потому что удар бича заставил его задохнуться, и как пот мгновенно выступил на его лице и потек струйками по бокам из-под мышек. Это продолжалось. Бич скользнул назад, пропел в воздухе, обрушился на его тело. Черное жало бича беспощадно рвало и полосовало плоть. Он знал, что на спине вздуваются рубцы. Его глаза жгла яростная ненависть к змееподобному бичу и к тому, кто держал этот бич в руках. Его грудь – которую стягивающие его тело веревки сделали тугой, как барабан, и твердой, как у медведя, – судорожно вздымалась; его ноздри раздувались и дрожали. Бич шипел и хлестал по его телу. Он не помнил, чтобы они задавали какие-либо вопросы; они просто причиняли ему боль.
Он знал, что у него вырывались стоны, и прилагал все усилия, чтобы не закричать вслух Все было мутным, туманным. Это мог быть сон. Он крепко сжал зубами губу. Было больно. Это не было сном. Он не мог сдержать конвульсивного вздрагивания своего связанного тела, раскачивания своих узких бедер, судорожного стягивания небольших валиков мышц на спине. Он был обнажен. Пот ручьями стекал по его спине, бокам, капал с лица, забрызгивая пол где-то внизу. Это была автоматическая реакция на угрозу и удары бича – неумолимый взмах и рывок, и готовность, и взмах, и резкий удар, и ужасающую тревогу, и обжигающую боль. Но он подавлял в себе даже стоны и ни разу не вскрикнул. Они вытащили кляп у него изо рта и смочили его рот водой, чтобы иметь возможность послушать его крики. Они не услышали ничего, в этом он был уверен. Ведь был?
Он помнил жгучую мазь. Он помнил, или ему казалось, что он помнит, жуткий спектакль: будто бы меч, не направляемый ничьей рукой, убил его товарища по плену. Случилось ли это на самом деле? Он не был уверен. Могло ли это случиться? Слышал ли он этот тихий, мягкий голос, сказавший: «Убей его», – и в самом ли деле меч понял и повиновался?
Он не мог быть уверен в этом. Он помнил, или ему казалось, что он помнит.
Боль от того, что его хлестали крапивой, была слабой; начавшийся вслед за этим зуд был самой худшей из всех пыток. Он был связан и не мог почесать те места, которые жгло, как огнем.
Его били по животу. Звук от удара широким ремнем был очень громким.
Он помнил, что ему сказали, что завернут его в свежесодранную коровью шкуру и выставят наружу, лицом к утреннему солнцу. Он не думал, что это случилось. Он был уверен в том, что ему на голову надели шлем и пристегнули его так, что узкий кожаный ремешок впился ему в подбородок. Кто-то колотил по шлему молотком до тех пор, пока он не начал спрашивать себя, что наступит раньше: смерть или безумие.
Ни то, ни другое. Он выдержал, и ему казалось, что он не закричал, хотя он впоследствии не был уверен в том, что не всхлипывал. Он бы скорее согласился, чтобы его избили или распяли на кресте.
Возможно, кое-что из этого было колдовством Зафры: без сомнения, что-то было волшебством и не произошло на самом деле. И так же точно, кое-что из этого несомненно случилось. Конан впоследствии никогда не мог сказать с полной уверенностью, что было реальным, а что – нет. Он в самом деле укусил себя за губу; об этом свидетельствовал гладкий болезненный участок распухшего мяса. И у него болела голова и звенело в ушах.
Он проснулся затем, несколько часов или несколько дней спустя, с этим ужасным смутным чувством неуверенности, не зная, спал ли он или был одурманен, или колдовским образом лишен ясности ума; его голова начала проясняться, и ему казалось, что он не связан. Он лежал неподвижно, пытаясь почувствовать, стянуты ли у него запястья и щиколотки, и таким образом понять, связан он или нет. Сначала он не мог быть уверен. Он лежал неподвижно, пытаясь оценить себя и свое положение. О! Он был во дворце. Его схватили. Где он? Во дворце – где? Он не мог полностью осознать это. Его мозг был вялым и неповоротливым, а тело, казалось, постарело на несколько лет. Сознание вернулось к нему и разрослось в нем, словно пламя, медленно разгорающееся в комнате, где чувствуется лишь ничтожно слабое движение воздуха. В мозгу у него начало все больше и больше проясняться, словно его осветила эта тонкая, отважная свеча. Он знал, что очень ослаб, но почувствовал, как возрастают его силы – или, по меньшей мере, исчезает слабость.
Конан открыл глаза.
Он лежал наполовину на ковре и наполовину на вымощенном плитами полу – серое и бледно-красное с тонкими прожилками белого и черного. Красивый пол из уложенных в шахматном порядке мраморных плиток. Он увидел стол и предмет на нем… он вспомнил Зеленую Комнату, логово Хисарр Зула, бывшего колдуном сначала в Заморе, затем в Аренджуне, а теперь – в аду, куда отослал его Конан. Это были такие же точно вещи. Тогда это, должно быть, комната Зафры, мага Актер-хана. Да. Рядом с тронным залом, кажется? Возможно, вон та дверь…
Конану не нравилось, как пахло в этой комнате.
Химикалии, и травы, и омерзительный запах паленого волоса. Он согнул и разогнул пальцы, потом обе руки. Он был прав: он не был связан. Несколько импульсов, посланных вниз по ногам, показали, что ноги тоже свободны. Он лежал наполовину на боку, наполовину на животе. Он глубоко вдохнул воздух, хотя ему не очень-то нравился запах или вкус этого воздуха в комнате колдуна.
Он успел наполовину подняться, прежде чем увидел Зафру. Маг мудро встал в таком месте, где его можно было увидеть лишь в результате сознательно направленного движения; таким образом он уловил момент, когда Конан начал приходить в себя.
Конан замер на одном колене, опираясь об пол костяшками пальцев одной руки.
– А, – улыбаясь, сказал Зафра. – Очень мило. Однако это обнадеживает: ты почтительно преклоняешь колено.
Конан с исказившимся от злобы лицом вскочил на ноги. Зафра быстро показал ему, что держит в руках меч.
– Ты ведь рассказал нам свою историю, помнишь, варвар? Я знаю, что ты за наглый, дерзкий мальчишка. Я так и думал, что ты можешь попытаться сделать то, что ты сделал: пробраться сюда, как вор, чтобы найти Испарану и снести парочку голов, ведь так? Хорошо я тебя поймал, да? Понимаешь, ты ведь варвар, и тобой движут те же самые инстинкты, что заставляют действовать собаку, или кабана, или медведя. У меня есть цели, определенные цели. В состяза нии между двумя такими, как мы, человек, руководствующийся разумом и стремящийся к цели, должен восторжествовать Как ты видишь; я и восторжествовал. И я буду жить, в то время как ты вернешься в ту грязь, которая втолкнула тебя в чрево какой-то варварской сучки. Не пройдет и года, как я буду править в Замбуле Еще через несколько лет я буду править в Аграпуре Зафра, король-император Турана! Да! Не так уж плохо для крестьянского мальчишки, которого хозяин бил. потому что он недостаточно быстро усваивал уроки.. уроки колдовства, которые я усваивал гораздо быстрее, чем думала эта старая свинья! Пялься на меня этими своими злобными звериными глазами, сколько хочешь – но попробуй только напасть, варвар, и ты всего-навсего умрешь быстрее.
– Тогда пусть будет быстрее, – сказал Конан, делая длинный-длинный шаг в сторону и хватая тяжелую бронзовую напольную лампу высотой с него самого, с украшенным резьбой стержнем, который в самом узком месте был толщиной с его запястье. Лампа была тяжелой, а он был не в лучшей форме; он глухо заворчал и рывком перевернул ее. Кипящее масло выплеснулось на пол.
В течение какого-то мгновения Зафра смотрел на Конана с изумлением и чем-то близким к ужасу; потом он приподнял брови и усмехнулся.
– Ты помнишь этот меч? Я показывал его тебе, варвар. Я показывал тебе, как он подчиняется. Стоит приказать ему, и он не остановится до тех пор, пока не убьет. Что ж, двигайся быстрее, варвар… Убей его.
На затылке Конана зашевелились волосы, а по обнаженной спине словно пробежали крошечные ледяные ножки: Зафра разжал руку. Меч, который он держал, не упал на пол. Его острие опускалось до тех пор, пока застывшие глаза Конана не оказались на одном уровне с ним и с перекрестием рукояти позади него, – и тут меч ринулся на киммерийца.
Конан, охваченный единственным страхом, который был ему по-настоящему знаком, – страхом перед колдовством, – тем не менее не застыл на месте, что означало бы для него смерть. Вместо этого он бросился на пол – и в тот самый момент, когда меч, свернув вслед за ним, понесся вниз, наобум ударил по нему лампой. Резной бронзовый стержень ударился о сверкающее стальное лезвие с оглушительным воинственным металлическим звоном, и меч отлетел в другой конец комнаты. Тяжесть Конанова оружия – или оборонительное движение – увлекла за собой руки киммерийца, и он распластался на полу, услышав при этом, как меч со звоном отлетает от стены за его спиной. Он кое-как поднялся на ноги, сжимая бронзовый стержень обеими руками, и прыгнул на Зафру, глаза которого широко раскрылись. Потом взгляд мага скользнул мимо Конана, и киммериец уронил свое тело наземь, поворачиваясь в падении и ударяя лампой вверх. Его бок пронзила острая боль, и он заворчал. Но снова его металлическая дубинка ударилась о нацеленный для убийства, никем не направляемый меч.
Конан внезапно ухмыльнулся, припомнив, что сказал Зафра, и эта его гримаса вызвала у мага страх и даже ужас, потому что это была жуткая, свирепая ухмылка хищного зверя. Конан, качнувшись, вскочил на ноги и бросился бежать – и не к Зафре. Он побежал к двери, ведущей в дворцовый коридор!
Секунды, отсчитываемые капельками воды, казались ему минутами; по его спине бегали мурашки. Он пробежал три шага, четыре, еще один – и швырнул лампу вправо, а сам нырнул влево. Он был всего в двух шагах от большой, обшитой панелями двери; он решил, что ни за что не успеет добежать до нее, ибо этот ужасный безмозглый клинок должен был лететь острием вперед ему в спину.
Так оно и было. И на этот раз меч подлетел так близко и преследовал свою убегающую жертву с такой скоростью, что не повернул в воздухе вслед за ней. Вместо этого он вонзился в дверь с такой силой, что острие клинка полностью ушло в дерево: на дюйм или даже больше. Конан, молча и даже не взглянув на Зафру, снова вскочил на ноги – и пока жуткий, наводящий суеверный ужас меч высвобождался из потрескивающего дерева, киммериец схватился за бронзовую ручку, рванул на себя дверь – и выскочил в коридор.
«Ну что ж, меч не остановится, пока не убьет?» – подумал он с ужасной мрачной ухмылкой и дернул дверь к себе. Она с грохотом захлопнулась. Он стоял, тяжело дыша, держась за ручку, прислушиваясь к тому, как бурчит в его пустом животе – и ожидая крика из комнаты колдуна.
А потом послышался вопль, закончившийся хриплым горловым бульканьем, и Конан понял, что карьера молодого волшебника пресеклась задолго до того, как у того появилась возможность состариться в своем ремесле, не говоря уже о захвате тронов.
– Эй, стой!
Этот голос и взгляд, брошенный в ту сторону, откуда он раздался, и показавший приближающегося дворцового стражника, помогли Конану принять решение. Он раздумывал, хватит ли у него смелости войти в комнату мага и попытаться завладеть мечом – теперь, когда тот уже нашел себе жертву. «Что ж, – подумал он, – теперь мне остается либо это, либо бегство нагишом по коридорам королевского дворца, – где я буду почти таким же неприметным, как слон в медвежьей яме!»
Он распахнул дверь, влетел в комнату и захлопнул дверь за собой. Прошло всего лишь несколько секунд, прежде чем об нее ударилось чье-то тело: Шип Хана ускорил свой бег! Конан не остановился, чтобы вглядеться в худощавое тело, неуклюже распростершееся на красивых плитках пола. Оно не шевелилось. Не шевелился и стоящий над ним торчком меч, глубоко вонзившийся в грудь Зафры.

