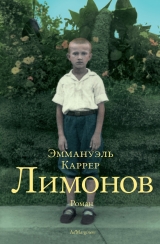
Текст книги "Лимонов"
Автор книги: Эмманюэль Каррер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
2
«Русское дело» – это еженедельник на русском языке, основанный в 1912 году, чуть раньше «Правды», на которую она похожа как две капли воды – и шрифтом, и макетом. Редакция занимает целый этаж обветшавшего строения по соседству с Бродвеем, и хотя до первого прихода туда это волшебное слово грело Эдуарду душу, в реальности район оказался похожим скорее на тихую улочку маленького украинского городка. Журналистское ремесло тоже казалось ему привлекательным, он вспоминал Хемингуэя, Генри Миллера, Джека Лондона, которые с этого начинали, но, как его предупреждал Бродский, говорить о настоящей журналистике на страницах «Русского дела» вряд ли стоило. Его работа состояла в переводе статей из нью-йоркской прессы и их адаптации для русского читателя, который не был особо заинтересован в свежих новостях, поскольку получал их по подписке, с трехдневным опозданием. Кроме этих новостных эрзацев, в газете печатаются: нескончаемый роман с продолжением под названием «Замок принцессы Тамары», кулинарные рецепты, которые сводятся к бесконечным вариациям на тему каши, и, наконец, письма или статьи (четко разграничить почти невозможно) графоманов-антикоммунистов. Редакторы – сплошь старые евреи в подтяжках, едва говорящие по-английски, хотя в стране живут уже по полвека: большинство эмигрировали сразу после 1917 года, а самый старший помнил, как редакцию, еще до революции, посещал сам Троцкий. Лев Давидович рассказывал этот дед всякому, кто готов был слушать, – жил в Бронксе, экономил на всем, читал лекции о мировой революции перед пустым залом. Официанты в маленьких ресторанчиках, где он питался, терпеть его не могли, потому что он считал, что давать чаевые – это значит оскорблять их человеческое достоинство. В 1917-м он купил в рассрочку на 200 долларов мебели, а потом исчез, не оставив адреса, и когда кредиторы наконец его отыскали, он уже командовал армией самой большой страны в мире.
Эдуарду все его детство повторяли, что Троцкий – враг рода человеческого, и все-таки эта яркая судьба вызывала у него восхищение. Еще он любил слушать рассказы Порфирия, коллеги помоложе, который в начале войны служил в Красной Армии, потом подался к генералу Власову, а под конец служил охранником в лагере в Померании. Не в лагере смерти, подчеркивает Порфирий, а в небольшом симпатичном концентрационном лагере. Ему, конечно же, приходилось убивать людей, но он говорил об этом без похвальбы. Однажды Эдуард ему признался, что не уверен, способен ли он на это. «Да смог бы наверняка, – успокоил его Порфирий. – Некуда будет деваться – выстрелишь, как миленький, не беспокойся».
Обстановка в «Русском деле» была как в болоте: тихая, расслабленная, очень русская. По утрам – кофе, каждый час – сладкий чай и раза по три в неделю – чей-нибудь день рождения, по каковому поводу на стол выставлялись маринованные огурчики, водка и коньяк «Наполеон» для линотипистов, которые были большими снобами. В ходу были обращения типа «мой дорогой» или «Эдуард Вениаминович» – длинные, как кишка. В сущности, это было милое местечко, душевное и уютное, внушающее доверие тем, кто только что приехал и не говорил по-английски. Но эта богадельня оборачивалась кладбищем мечтаний и надежд для тех, кто приехал в Америку, рассчитывая на лучшую жизнь и попал, как в ловушку, в теплый, пыльный мешок, в мелкие склоки, ностальгические всплески и пустые надежды на возвращение. Предметом особой неприязни этих людей, даже более ненавистным, чем большевики, был Набоков. И не потому, что Лолита их шокировала (ну, разве что самую малость), а потому, что он перестал писать эмигрантские романы для эмигрантов и повернулся к этому замшелому, прокисшему мирку своей широкой спиной. Эдуард, из классовой ненависти к адептам искусства ради искусства, любит Набокова не больше них, но ни за что на свете не согласится презирать его по тем же причинам, что и они, и протухать вместе с ними в этих стенах, пропахших кладбищенской затхлостью и кошачьей мочой.
В общем и целом, у писателя, чтобы прославиться, есть выбор из трех ипостасей: придумывать истории, описывать реальные события или высказывать свое мнение о мире как он есть. Для первого Эдуарду не хватает воображения, подлинные истории о харьковской шпане или о житье-бытье московского андеграунда никого не интересуют, о стихах не стоит и говорить, остается карьера полемиста. Присуждение Сахарову Нобелевской премии мира предоставило ему возможность попробовать себя в этом качестве.
Великий физик, отец советской водородной бомбы, несколько лет назад сплотил диссидентов, публично выступив за соблюдение Хельсинкских соглашений, то есть прав человека в его стране. Безупречная интеллектуальная четкость, нравственная прямота сродни святости – никто и никогда не мог сказать об Андрее Сахарове ничего другого, и не верить в такие характеристики нет оснований, но нет также оснований, в данной ситуации, удивляться тому, что эта позолоченная икона невыносимо раздражала Эдуарда.
Закрывшись дома на двое суток, он объяснил, в стиле темпераментном и остроумном, что диссиденты – люди далекие от народа, что они представляют лишь самих себя, а в случае Сахарова – лишь интересы своей касты, высшей научной номенклатуры. И что, если они, по какой-то случайности, придут к власти – они ли сами или политики, разделяющие их идеи, – то это будет гораздо хуже, чем нынешняя бюрократия. И наконец, что Запад в этой истории тоже выглядит не лучшим образом, потому что, когда эмигранты, которых безответственная публика вроде Сахарова восстанавливает против собственной страны, покупаются на эту мякину и уезжают, то попадают в жуткую жопу, поскольку грустная правда состоит в том, что в Америке они не нужны никому.
Последняя мысль – это его, сокровенное: именно этого он начинает опасаться, просидев полгода в «Русском деле» и подбирая огрызки за большой нью-йоркской прессой. Доверчивая эйфория первых дней испарилась, свою статью он назвал «Разочарование». Ее не взяла ни New York Times, ни другие крупные газеты, точнее сказать, ни New York Times,ни остальные не снизошли до того, чтобы сообщить ему о ее получении. В конце концов выстраданный опус напечатал какой-то мелкий журнальчик, причем больше двух месяцев спустя после информационного повода. То есть его страстный мессэдж так и не попал на глаза тем, кому предназначался: главным редакторам и лидерам нью-йоркского общественного мнения. И напротив – буквально разворошил эмигрантский муравейник. Сладкое оцепенение «Русского дела» было нарушено. Даже те, кто признавал за автором хотя бы частичную правоту, сочли, что трезвонить об этом было абсолютно неуместно: все равно что лить воду на мельницу коммунистов.
И вот однажды утром главный редактор Моисей Бородатых приглашает Эдуарда к себе. Дрожащим от негодования пальцем он указывает на лежащую на столе газету. Эдуард наклоняется и видит там собственное фото на полполосы. Фотография старая, снята еще в Москве, но, несмотря на это, он изображен на ней стоящим у подножия нью-йоркского небоскреба. Газета советская, это «Комсомольская правда», а под фотомонтажом подпись: «Поэт Лимонов рассказывает всю правду о диссидентах и эмиграции». Он быстро просматривает статью, поднимает глаза и обреченно улыбается, пытаясь обратить все в шутку. Но Мои сей Бородатых не расположен шутить. Немного помолчав, он бросает: «Говорят, что ты – агент КГБ». Эдуард пожимает плечами: «Это вы задаете мне такой вопрос?» И выходит из кабинета, не дожидаясь, пока его оттуда выставят.
Если вас двое, то в несчастье это большое утешение, но они начинают отдаляться друг от друга. Елена от него ускользает. Вооружившись пророчеством Лили Брик, она вообразила, что станет знаменитой моделью, однако Алекс Либерман, которому достаточно сказать одно слово, чтобы перед нею открылись двери Vogue, этого слова не произносит, ограничиваясь комплиментами ее красоте, и делает это так галантно и так навязчиво, что начинает походить на извращенца. Помощники Аведона и Дали не звонят. Она оказалась в унизительном положении роскошной нищенки. Чтобы идти наниматься в агентство, нужно портфолио, а молодая и хорошенькая незнакомка, которая нуждается в портфолио, – желанная добыча бабников всех мастей, которые выдают себя за фотографов. По вечерам, когда Эдуард возвращается, Елены все чаще дома нет. Она звонит и говорит, чтобы он ужинал без нее, потому что у нее фотосессия, и они еще не закончили. В трубке слышна музыка, он спрашивает, когда она вернется. «Уже скоро, скоро». Это «скоро» редко означает раньше двух-трех часов ночи. Она является совершенно измочаленная, жалуется, что выпила слишком много шампанского и нанюхалась кокаина, и произносит это так раздраженно, словно хочет сказать: «В конце концов, я работаю!» На дворе зима, в квартире холодно, она ложится в постель в одежде и просит, чтобы он обнял ее, пока она засыпает, а заниматься с ним любовью у нее нет сил. Она храпит, нос всегда заложен. Во сне у нее на лице появляется страдальческое выражение. Он же лежит до утра без сна и мучается от сознания, что у него нет денег, чтобы содержать такую красивую жену, что она его бросит, как он бросил Анну, потому что появился кто-то получше. Это неизбежно, таков закон, на ее месте он сделал бы то же самое.
Он пробует ее расспрашивать и получает уклончивые ответы. Он предлагает поговорить, она вздыхает: «Ну, о чем ты хочешь, чтобы мы говорили?» Он признается ей в своих подозрениях, она пожимает плечами и отвечает, что его главная проблема в том, что он ко всему относится слишком серьезно. «Что это значит – слишком серьезно? Слишком сильно люблю тебя?» Нет, дело не в этом, просто он не умеет смотреть на жизнь с юмором, не умеет получать от нее удовольствие. Когда она это произносит, у нее на лице появляется выражение такой горечи, что он подводит ее к зеркалу в ванной и говорит: «Посмотри на себя. Ты считаешь, что ты умеешь наслаждаться жизнью, да? Что ты умеешь смотреть на нее с юмором?» – «Откуда у меня возьмется юмор, если рядом ты? Ты постоянно устраиваешь мне сцены. Ты устраиваешь мне допросы, как в КГБ».
От сцены к сцене, от допроса к допросу, и она в конце концов начинает проговариваться. Как все женщины в такой ситуации, поначалу старается дать минимум информации – «какая разница, кто это?» – но он не оставляет ее в покое до тех пор, пока не выясняет, что соперника зовут Жан-Пьер.
Да, он француз. Фотограф. Сорок пять лет. Красивый? Да не очень: лысый, с бородой. У него лофт на Спринг-стрит. Не сказать, чтоб очень богат, в своем ремесле не самый выдающийся, но его все устраивает. Ну что ж, взрослый мужик, это вам не жалкий пацан с Украины, который во всех неудачах обвиняет окружающих, постоянно злится и распускает нюни.
Вот каким она его видит сегодня, и она права: Эдуард плачет, крепкий орешек льет слезы. Как в песне Жака Бреля, он готов стать ее тенью, тенью ее собаки, только чтобы она его не бросала. «Но я не собираюсь тебя бросать», – уверяет она, тронутая глубиной его страданий. Он воспрянул духом: если так, то все в порядке. Пусть у нее любовник, это не страшно. Пусть она даже будет шлюхой. Тогда он, Эдуард, станет ее сутенером. Это будет круто, еще один эпизод в ряду множества крутых эпизодов из жизни двух искателей приключений – распутных, но неразлучных. Заключенный договор его вдохновляет, он предлагает выпить шампанского, чтобы его скрепить. Успокоенная Елена соглашается и улыбается, хотя и не очень искренне.
Этой ночью они занимаются любовью, потом, обессиленные, засыпают, и в последующие дни, поскольку он больше не ходит в редакцию, им овладевает навязчивая идея: сидеть вместе с ней дома, взаперти, не вылезать из постели и беспрерывно ее трахать. Он чувствует себя в безопасности, только когда он внутри нее, теперь это для него единственная твердая почва. Вокруг – зыбучие пески. Он поддерживает себя в состоянии возбуждения по три-четыре часа кряду, ему даже не нужен фаллоимитатор, которым он обычно пользовался, чтобы довести Елену до нескончаемой череды оргазмов, так радовавших их обоих. Он сжимает ладонями ее лицо, смотрит ей в глаза и просит, чтобы она их не закрывала. Они широко раскрыты, и он видит, что любовь в них перемешана со страхом. Потом, совершенно без сил, с блуждающим взглядом, она откидывается на бок. Он хочет взять ее снова, но она его отталкивает, сонным голосом просит оставить ее: она больше не может, у нее все болит. И он снова, как в омут, проваливается в свое одиночество. Потом встает и идет в тот угол квартиры, который служит им одновременно кухней, ванной и сортиром. При свете свисающей с потолка желтой лампочки роется в корзине с грязным бельем, вытаскивает оттуда ее трусики и нюхает их, скребет ногтем, ища следы спермы другого мужчины. Потом долго и тяжело мастурбирует на них прежде, чем кончить, и снова возвращается в постель на пахнущие потом простыни, и снова наваливается тоска, и он берет бутылку с дешевым вином и пьет из горлышка, проливая вино на постель. Опершись на локоть, он рассматривает свернувшееся калачиком, худое и белое тело женщины, которую любит, маленькую острую грудь, толстые носки на ногах с длинными, как у лягушки, бедрами. Она жалуется, что у нее плохое кровообращение и поэтому ступни всегда зябнут. Ему бы хотелось – ах, как хотелось бы! – взять их в свои ладони и тихонько растирать, чтобы согрелись. Как он ее любил! Какой красивой она ему казалась! А так ли уж она хороша на самом деле? Может, эта старая кошелка, Лиля Брик, жестоко посмеялась над ней, уверяя, что там, на Западе, все будут у ее ног? Раз Алекс Либерман ничего для нее не делает, раз агентства ее не берут, должна быть какая-то причина, и она просто бросается в глаза, когда смотришь ее портфолио. Красивая девочка, да, но ее красота – какая-то неуклюжая, провинциальная. В Моск ве они питались иллюзиями, но ведь Москва – это провинция. Наступает волнующий и суровый момент, когда он начинает понимать разницу между жеманством красивой женщины и реальной ситуацией претендентки на карьеру модели, пользующейся услугами третьеразрядных фотографов и не имеющей никаких шансов преуспеть. Это кажется ему очевидным, и он хочет ее разбудить, чтобы все рассказать. Подбирает для объяснения самые жестокие слова – чем более жестокими они будут, тем более ясным все окажется – и чувствует радость пополам с горечью, но тут же его захлестывает мощная волна жалости. Он видит перед собой маленькую девочку, испуганную и несчастную, ее хочется защитить, увести домой – туда, откуда не надо будет уходить, и он ищет глазами икону, которую, как все русские, даже неверующие, они повесили в углу убогой комнатенки, затерянной в чужом краю. Ему кажется, что Богоматерь, держащая у груди младенца Иисуса с чересчур большой головой, смотрит на них с грустью и слезы текут по ее щекам. Он молится во спасение, но и сам в это не верит.
Она просыпается, и снова возвращается ад. Она хочет уйти, он ее не пускает, они ссорятся, пьют и даже дерутся. Она становится злой, когда выпьет: раз он попросил рассказывать ему все, ничего не скрывать, ладно, она ничего и не скрывает – рассказывает все, чтобы заставить его страдать еще сильнее. Рассказывает, к примеру, что Жан-Пьер приобщил ее к садо-мазохизму. Что они друг друга связывали, что он купил ей ошейник с заклепками, похожий на собачий, и фаллоимитатор как у них, но только еще больше, который она сует ему в зад. Именно эта деталь – искусственный член, который она сует в зад Жан-Пьеру, – окончательно выводит его из себя. Он валит ее на кровать и начинает душить. Он чувствует под своими сильными, нервными пальцами хрупкие позвонки. Вначале она смеется, дразнит его, потом ее лицо краснеет, выражение глаз меняется с озорного на недоверчивое, перетекая в неприкрытый ужас. Она начинает лягаться, брыкаться, но он наваливается на нее всем своим весом и по ее глазам видит, что она поняла, что с ним происходит. Он сжимает ее горло все сильнее, его пальцы белеют от напряжения, она продолжает отбиваться, ей не хватает воздуха, она хочет жить. Ее ужас и резкие движения его возбуждают, и он кончает, и по мере того, как его член судорожно выплевывает сперму, пальцы постепенно разжимаются, руки опускаются, и он падает на лежащее под ним тело.
Много позже они поговорят об этой истории. Она скажет, что сцена получилась очень заводная, но она поняла, что, если такое повторится, он пойдет до конца, именно это и побудило ее уйти. «Ты не ошиблась, – подтвердит он, – я бы попробовал еще раз и пошел бы до конца».
И вот однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что ее вещей в шкафу нет, и это его не удивило. Он рылся в ящиках, лазил под кровать и даже в мусорное ведро в поисках чего-нибудь, оставшегося от нее, и все собранное – рваные колготки, тампакс, порванные неудачные фотографии – сложил под иконой. И зажег свечу. Если бы у него был фотоаппарат, он снял бы свой мемориал на пленку: мемориал Святой Елены, усмехается он. На несколько мгновений он присаживается напротив своей святыни, словно для краткой молитвы, – так делают русские, отправляясь в далекое путешествие.
Потом встает и уходит.
3
Он, чья память тщательно хранит все, не помнит ничего из той недели, которая последовала за ее уходом. Должно быть, он бродил по улицам, пытался караулить ее возле дома Жан-Пьера, чтобы подраться с ним или с кем-нибудь другим, – об этом свидетельствуют несколько бродяг – и, главным образом, пил. Пил до потери сознания. Тотальный запой, запой камикадзе, феерический запой. Он помнит, что Елена ушла 22 февраля 1976-го, а он очнулся 28-го в номере гостиницы «Винслоу». У его изголовья сидел добрый Леня Косогор.
В первые дни после пробуждения он не покидает ни этой комнаты, ни даже постели. Он слишком слаб, истощен, и потом – куда ему идти? Ни жены, ни работы, ни родителей, ни друзей. Жизнь скукожилась до размеров этой клетки: четыре шага в длину, три в ширину, затертый линолеум, смена постельного белья раз в две недели, надсадный запах жавелевой воды [21]21
Жавелевая вода (l’eau de Javel) – раствор солей калия, хлорноватистой и соляной кислот. Применяется для отбеливания, а также для дезинфекции. Впервые была изготовлена в 1792 году в Жавеле, городке под Парижем.
[Закрыть], чтобы перебить запах мочи и рвоты, – в общем, именно, то, что нужно для такого типа, как он. Всегда, вплоть до настоящего момента, он свято верил в свою звезду, надеялся, что его полная приключений жизнь куда-нибудь да выведет, и у фильма будет счастливый конец. Имелось в виду, что так или иначе, но он станет знаменит, и мир узнает, кто такой или, на худой конец, кем был Эдуард Лимонов. Но теперь, когда Елена ушла, он больше в это не верит. Ему кажется, что эта мрачная комната – не просто очередная декорация, а последний приют, тот самый, куда вели все предыдущие. Конечная остановка: остается только идти ко дну. Пить куриный бульон, сваренный славным Леней. И потом засыпать, надеясь больше не проснуться.
Гостиница «Винслоу» – прибежище тех русских (по большей части евреев!), кто, как и Эдуард, принадлежит к третьей волне эмиграции, случившейся в семидесятых годах. Этих горемык он способен распознать на улице даже со спины, по той ауре усталости и несчастья, которая от них исходит. Это о них он думал, когда писал статью, стоившую ему работы. В Москве и Ленинграде они были поэтами, художниками, музыкантами, доблестными андерами, сидевшими в тепле своих кухонь, а теперь, в Нью-Йорке, они моют посуду в ресторанах, работают малярами, грузчиками и тщетно пытаются, даже зная, что это неправда, верить в то, во что верили вначале, – что это все временно и что однажды их таланты будут признаны. И вот всегда в своей компании, всегда очень по-русски, они напиваются, жалуются друг другу, говорят о своей стране, мечтают о том, что им позволят вернуться, но им этого не позволят: они умрут в этой ловушке, оставшись в конечном счете в дураках.
Один такой персонаж живет в «Винслоу»: каждый раз, как Эдуард заходит его навестить, выпить стаканчик или занять пару долларов, ему кажется, что у этого типа есть собака, потому что в номере пахнет псиной, а в углу валяются изгрызенные кости и даже собачьи экскре менты.
Однако нет, никакой собаки – даже собаки у него нет, он издыхает здесь в одиночестве, днями напролет перечитывая несколько писем, полученных от матери. Или еще один: беспрерывно стучит на машинке, и еще ни разу ничего не опуб ликовал. Живет в постоянном ужасе, потому что уверен, что соседи имеют виды на его комнату. И бессмысленно ему объяснять, что эти страхи – химера, порожденная жизнью в СССР, где самая жалкая комнатенка – огромная ценность, и люди способны годами вынашивать планы сживания со свету соседей, чтобы наложить лапу на девять квадратных метров, где ютятся четверо. Бессмысленно объяснять, что в Америке так не бывает, а мучающие его страхи – не что иное, как фантомные боли, последняя связь с грязной коммуналкой, о которой он, не сознаваясь себе в этом, сожалеет до сих пор. И наконец, сам Леня Косогор, добрый Леня, который отмотал десятку на Колыме и гордится тем, что его имя фигурирует в «Архипелаге ГУЛАГ». Среди эмигрантов его называют «тот тип, о котором сказано у Солженицына», и поскольку десять лет – это больше, чем сидел сам Солженицын, Леня уверен, что он тоже мог бы написать о лагерях и стать богатым и знаменитым, но, разумеется, ничего не делает. С тех пор как он нашел Эдуарда на улице, без сознания, полуживого от холода, он его не оставляет – вершит благое дело. Возможно, помимо любви к ближнему, им движет тайное удовлетворение видеть валяющимся в грязи нахального и спесивого молодого человека, который раньше, опасаясь, что встреча с неудачником Леней приносит несчастье, не поворачивал в его сторону головы, делая вид, что не замечает. Возможно, ему приятно принять в братство лузеровнаглеца, которого он отвел в вэлфер-центр, раздающий помощь неимущим, где Эдуарду назначили сумму в 278 долларов в месяц.
Самая дешевая комната в такой убогой гостинице, как «Винслоу,» стоит 200 долларов в месяц. Ему остаются 78, это очень мало, но он не хочет искать работу. Он предпочитает накачиваться дешевым калифорнийским вином по 95 центов за двухлитровую бутыль, рыться в ресторанных помойках, стрелять деньги у соотечественников или, в крайнем случае, тырить чужие сумки. Раз он – дерьмо, то и жить будет в дерьме. Он убивает время, бесцельно шатаясь по улицам, преимущественно в бедных и опасных кварталах, зная, что ничем не рискует, потому что он сам – бедный и опасный. Залезает в заброшенные дома с заколоченными ставнями и с заросшими зеленью палисадниками. Там, в лужах мочи, всегда сидят бродяги, с которыми он любит вести беседы, редко на общем языке. Еще он любит слоняться по церквам. Однажды во время службы он втыкает свой нож в скамеечку для молитвы и заставляет его вибрировать. Прихожане искоса поглядывают на него, они обеспокоены, но никто не решается подойти. Вечером он иногда позволяет себе пойти в кино на порнофильм – не для того, чтобы испытать возбуждение, а чтобы тихо поплакать, вспоминая времена, когда он ходил в кино со своей красивой женой, чтобы она испытала возбуждение, вызывая зависть человеческих отбросов, до уровня которых он теперь скатился.
А где же Елена? Этого он не знает и не хочет знать. Со времени капитального запоя, случившегося после ее ухода, он и близко не подходил к дому, где находится лофт Жан-Пьера и где, возможно, она живет. Вернувшись в отель, он мастурбирует, думая о ней. Лучше всего получается не тогда, когда он вспоминает, как они совокуплялись, а когда представляет, как ее трахают другие – Жан-Пьер или, с помощью искусственного члена, его подружка-лесбиянка: их любовь втроем Елена ему описала в красках, чтобы заставить страдать еще сильнее. Что она чувствует, когда ее берут сзади и делает это не ее муж Лимонов? Чтобы ощутить все самому, он засовывает в зад свечу, поднимает и раздвигает ноги и принимается прерывисто дышать и стонать, как она, говорить те же слова, которые она говорила ему, а теперь, должно быть, говорит другим: «да, так хорошо, какой он большой, я его чувствую» – что-то в этом роде. Так, лежа, он кончает, и сперма вытекает ему на живот. Вытирать платком бессмысленно – простыни все равно грязные. Он собирает немного кончиком пальца, слизывает, запивает плохим красным вином, подавляет приступ тошноты и снова делает то же самое. Согласно легенде, поэт Есенин писал стихи собственной кровью. Расскажет ли когда-нибудь легенда, что поэт Лимонов напивался собственной спермой? Увы, маловероятно, легенды не будет, никто и не узнает, что был такой поэт – Лимонов, несчастный русский мальчик, потерявшийся на Манхэттене, приятель незадачливого Лени Косогора, Эдика Брютта, Алеши Шнеерзона и других бедолаг, которые умрут, как и жили, в полной безвестности.
Преисполнившись жалости к себе, он рассматривает свое тело – красивое, молодое, сильное и никому не нужное. Многие женщины, если бы увидели его, лежащего на кровати, нагого и одинокого, захотели бы отдать ему свои ласки, да и многие мужчины тоже. С тех пор как Елена его предала, он часто повторяет себе, что лучше иметь пизду, чем хуй, быть дичью, чем охотником, и ему хотелось бы, чтобы им, как женщиной, кто-нибудь занялся. В сущности, лучше, если бы он был голубым. В свои тридцать три года он выглядит как подросток и знает, что нравится мужчинам. Он всегда им нравился. Однако, верный кодексу чести салтовской шпаны, всегда смеялся над желаниями таких мужчин, а вот теперь ему плевать на все законы и кодексы Салтовки. Он хочет, чтобы его жалели, холили и лелеяли, пусть даже он будет презирать тех, кто его жалеет, холит и лелеет. Вместо Елены он хочет быть Еленой.
Он делится своей проблемой с одним русским педерастом, и тот знакомит его с американским педерастом. Американского педераста зовут Раймон: вальяжный и аристократичный, шестьдесят лет, располагающая внешность, слегка подкрашенные волосы.
В шикарном ресторане, где произошла их первая встреча, Раймон, с растроганной улыбкой благодетеля, который кормит горячим ужином бедного мальчика, смотрел, как Эдуард пожирает салат из креветок и авокадо. «Не торопись», – уговаривает он, поглаживая ему руку. Эдуард догадывается, что думают о них официанты, и ему приятно, что его считают тем, кем он решил стать: маленькой шлюхой. Но беспокоит одна вещь: бедняга Раймон производит впечатление человека, который сам ищет любви, то есть хочет, чтобы любили его, и не очень расположен давать любовь кому бы то ни было. В любви, считает Эдуард, есть тот, кто дает, и тот, кто получает, и если говорить о нем самом, то ему кажется, что он отдал уже достаточно.
После ресторана они идут к Раймону, садятся рядом на диван, и Раймон начинает, через джинсы, трогать его член.
«Пойдем», – говорит он и ведет гостя в спальню, к кровати. Пока Раймон силится расстегнуть пряжку тяжелого армейского ремня, доставшегося Эдуарду в наследство от отца и НКВД, тот, лежа навзничь и полузакрыв глаза, перекатывает голову справа налево: так обычно делала Елена. Он старается делать все, как она, но возбуждение не приходит. Раймон, которому наконец удалось извлечь из джинсов его сморщенный член, берет его в рот, гладит руками, словом, старается изо всех сил, но тщетно. Слегка смущенные, они поправляют на себе одежду и возвращаются в салон, чтобы выпить. Когда Эдуард уходит, договариваются созвониться, но ни тот ни другой в это не верят.
Наступила хорошая погода, и он часто проводит целые ночи на улице. Гуляет или сидит на скамейке. Чаще всего, в той части городского сада, которая отведена детям. Песочницы, качели, горки. Он вспоминает одну из ночей своей жизни: он провел ее с другом Костей, или Котом, который с тех пор убил человека и получил за это двенадцать лет. Тогда они тоже сидели на детской площадке, но более грязной и неухоженной, как и все в СССР. Где теперь Костя? Жив или нет? Он играет, пересыпая песок из одной руки в другую, и вдруг в темноте, возле горки, видит блестящие глаза: на него кто-то смотрит. Страха нет, он уже давно не знает, что значит бояться. Подходит ближе: молодой негр, в темной одежде, лежит, свернувшись клубком, должно быть, пьяный или обкуренный.
«Привет, – произносит Эдуард, – меня зовут Эд. Закурить у тебя не найдется?»
«Отвали», – ворчит тот. Не обращая внимания, Эдуард присаживается возле него на корточки. Внезапно негр вскакивает и кидается на него. Сцепившись в драке, они катятся по земле. Эдуард ухитрился освободить одну руку и тянется к сапогу, чтобы вытащить нож, который он, скорее всего, пустил бы в ход, если бы тот так же внезапно не ослабил хватку. Сидя на влажном песке друг против друга, оба стараются перевести дыхание.
«Я хочу тебя, – говорит Эдуард. – Может, займемся любовью?»
Они начинают обниматься и ласкать друг друга. У молодого негра нежная кожа, и тело под вонючей одеждой – мускулистое и стройное, как у Эдуарда. Полузакрыв глаза, он покачивает головой и шепчет: «Бэби, бэби…» Эдуард наклоняется и расстегивает ремень: ему не терпится узнать, правду ли говорят, что у негров большие хуи. Оказывается, правда: во всяком случае, больше, чем у него. Лаская его губами, Эдуард ложится на песок и, сам уже сильно возбудившись, сосет черный член нежно и не торопясь, словно впереди у них вечность. Все происходит не украдкой, как что-то стыдное, а словно торжественный ритуал. «Какое счастье, – проносится в голове у Эдуарда, – у меня есть любовник». Парень доверчиво отдался ему, гладит его по волосам и, наслаждаясь, хрипло, прерывисто дышит. Эдуард знает вкус собственной спермы, но эта кажется ему восхитительной, он старается не уронить ни капли. А потом, упав головой на опустошенный черный член, начинает плакать.
Он плачет долго, и со слезами, словно прорвав плотину, выходит страдание, скопившееся после ухода Елены, а черный парень обнимает его и пытается утешить. « Baby, my baby, you are my baby…», – повторяет он, как молитву. «I am Eddy, – говорит Эдуард, – I have nobody in my life, will you love me?» – «Yes, baby, yes», – нараспев отвечает парень. – « What is your name?» – «Chris» [22]22
«Детка, ты моя детка…» – «Я Эдди. У меня никого нет на целом свете.
Ты будешь меня любить?» – «Да, детка, да». – «Как тебя зовут?» – «Крис» ( англ.).
[Закрыть]. Понемногу Эдуард успокаивается. Он рисует себе картины их будущей жизни вдвоем – той жизни, какой живут люди последнего сорта. Станут приторговывать травкой, искать прибежища в заброшенных домах и никогда не будут расставаться. Потом он снимает брюки и трусики, подставляет Крису свой зад таким же движением, как это делала Елена, и говорит: «Fuck me».Крис плюет на свой член и вводит его. Он гораздо толще, чем свеча, но Эдуард возбужден, и боли почти не испытывает. Крис кончает, они оба без сил валятся на песок и засыпают. Эдуард открывает глаза уже перед рассветом, высвобождается из объятий Криса, который спросонок тихонько ворчит, нащупывает свои очки и уходит. Он шагает по просыпающемуся городу, совершенно счастливый и гордый собой. «Я не испугался, – думает он, – дал ему себя выебать». «Молодец! – как сказал бы его отец, – правильный пацан».








