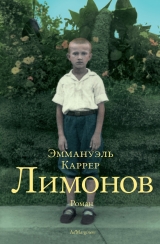
Текст книги "Лимонов"
Автор книги: Эмманюэль Каррер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
4
На дворе лето: он загорает на своем крошечном балконе на шестнадцатом, самом верхнем, этаже гостиницы «Винслоу» и прямо из кастрюли ест щи. Щи – это здорово: полная кастрюля обходится в два доллара, ее хватает на три дня, есть можно, не разогревая, и к тому же они не прокисают без холодильника. Напротив – конторы какого-то учреждения, за тонированными стеклами служащие в пиджаках, секретарши – девушки из предместий. Должно быть, видя его, они недоумевают: что это за парень, мускулистый и загорелый, который принимает солнечные ванны прямо на балконе, оставшись в одних красных трусиках, а иногда и вовсе без них? Это Эдичка, русский поэт, который обходится вам в 278 долларов в месяц, дорогие американские налогоплательщики, и презирает вас от всей души. Раз в две недели он ходит в вэлфер-центр и, вместе с другими отбросами общества, стоит в очереди, чтобы получить свой чек. Раз в два месяца с ним беседует служащий центра, который осведомляется о его планах. « I look for job, I look very much for job» [23]23
«Я ищу работу, я очень ищу работу» ( англ.).
[Закрыть], – говорит он, изо всех сил коверкая английский язык, чтобы собеседнику было ясно, что все его старания напрасны. На самом деле он вовсе не look,никакой job, а всего лишь, время от времени, чтобы получить небольшую прибавку к пособию, ходит помогать Лене Косогору, который работает у русского еврея в конторе по перевозке мебели русских евреев: раввинов, интеллигентов с их коробками, набитыми полными собраниями сочинений Чехова или Толстого, в советских обложках темно-зеленого цвета, на клею, отдающем рыбой.
Чтобы помочь ему интегрироваться в общество, вэлфер-центр оплачивает Эдуарду курсы английского. В груп пе, кроме него, сплошь женщины: негритянки, азиат ки, латиноамериканки. Они показывают ему фото своих детей, которых у каждой – целый выводок, как всегда бывает в бедных семьях, и угощают своей стряпней, принося ее в пластиковых коробках – сладкий картофель или жареные бананы. Они рассказывают о своей стране, он – о своей, и они делают большие глаза, когда он говорит, что там не надо платить за образование и медицинское обслуживание: зачем же он уехал из такой хорошей страны?
Этого он уже и сам не знает.
По утрам он ходит в Центральный парк и лежит там на лужайке, подложив под голову пластиковый пакет с тетрадью. Долгими часами он смотрит в небо, в котором парят балконы и террасы домов для супербогатых, стоящих на 5-й авеню, где, например, живут Либерманы, с кем он практически перестал общаться и чей изысканно-утонченный мир стал для него частью давно забытого прошлого. Всего лишь год назад он ходил к ним под видом молодого писателя с большим будущим, супруга хорошенькой женщины, которую ждет карьера знаменитой модели, и вот теперь он – бродяга. Эдуард смотрит на окружающих его людей, слушает их разговоры, пытается угадать, какие у каждого шансы поменять свою судьбу. Что касается бродяг – настоящих, – то это полная безнадега. Служащие, которые приходят в обеденный перерыв съесть на скамейке свой бутерброд, дождутся в конце концов повышения, но сильно продвинуться не сумеют; впрочем, они об этом и не помышляют. Молодые ребята, по виду интеллектуалы, спорят и с крайне серьезными лицами делают пометки на каких-то листках с машинописным текстом, судя по всему, сценариях: они страстно верят в придуманные ими дурацкие диалоги, в своих дурацких персонажей, и не исключено, что они правы и сумеют прорваться в Голливуд с его бассейнами, старлетками и церемонией «Оскар». Чего нельзя сказать про раскинувшийся на лужайке пуэрториканский табор: одеяла, транзисторы, дети, термосы – эти ребята останутся там же, где сейчас, можно не сомневаться. Хотя… кто знает? Может, этот горластый ребенок, который верещит в испачканных дерьмом пеленках, отблагодарит родителей за принесенные жертвы в стремлении дать ему образование и станет нобелевским лауреатом по медицине или Генеральным секретарем ООН? А он сам, Эдуард, с его белыми джинсами и черными мыслями, что станется с ним? Переживаемое им сейчас, в шкуре нью-йоркского бомжа, – это что? Всего лишь одна из глав в бурном романе его жизни или финал, последние страницы книги? Он достает из пакета тетрадь и, опершись локтем о заросшую травой лужайку, раскуривает джойнт, купленный у мелкого торговца, с которым они подружились, а потом начинает записывать то, что я только что рассказал: вэлфер, гостиница «Винслоу», жалкие типы из русской эмиграции, Елена и как он дошел до жизни такой. Он пишет, не очень заботясь о стиле, так, как выливается на бумагу, и вскоре первую тетрадь сменяет вторая, а за ней подходит третья, он чувствует, что будет целая книга, и книга эта – его единственный шанс на спасение.
Он считает себя педерастом, но нетрадиционным сексом не занимается, ограничиваясь лишь внешними атрибутами. Как-то днем, сидя на скамейке, он выпивает с одним нытиком из соотечественников: в Москве тот был художником-абстракционистом, а в Нью-Йорке стал маляром. Молодой негр бомжеватого вида подошел стрельнуть у них сигарету, и Эдуард, из озорства, начинает его клеить. Говорит ему «I want you», обнимает за плечи, целует. Парень смеется и понемногу втягивается в игру. Они уходят трахаться в подъезд ближайшего дома. Остолбеневший художник остается на скамейке, а потом рассказывает эту историю знакомым. «Выходит, эта сволочь Лимонов и вправду стал педиком! И спит с неграми!» Про него и так уже болтают, что он будто бы работает на КГБ, что он хотел покончить с собой, когда ушла Елена. Он не спорит, ему это кажется забавным. Но вообще-то, он все-таки предпочитает женщин. Проблема лишь в том, что ему негде с ними знакомиться.
В парке, где он проводит дни за писанием книги, Эдуард подходит к девушке, распространявшей листовки Рабочей партии. Преимущество людей, раздающих листовки, – будь они левыми или «Свидетелями Иеговы» – состоит в том, что они привыкли к грубости и провокациям и любят вести дискуссии. Девушку зовут Кэрол, она худая и некрасивая, но Эдуард переживает такой момент своей жизни, когда капризы неуместны. Рабочая партия, объясняет ему Кэрол, это американские троцкисты, сторонники мировой революции. Если говорить о мировой революции, то Эдуард «за». Он, в принципе, на стороне красных, черных, голубых, арабов, пуэрториканцев, бомжей, обдолбанных, словом, тех, кому нечего терять и кто, по определению, должен поддерживать мировую революцию. Троцкий тоже «за». Кстати, Эдуард вовсе не принадлежит к яростным противникам Сталина, но ему кажется, что Кэрол об этом лучше не знать. Горячность Эдуарда произвела на Кэрол впечатление, и она приглашает его на митинг в поддержку палестинского народа, предупредив, что это может быть опасно. «Супер», – загорается Эдуард, однако митинг, состоявшийся на следующий день, его ужасно разочаровал. И дело не в том, что речам не хватало огня, поразило то, что после них все спокойно разошлись по домам или по кафе, и единственным следствием события стал назначенный на следующий месяц новый митинг.
– Я не понимаю, – недоумевала Кэрол. – А чего бы хотел ты?
– Ну, чтобы все остались, пошли искать оружие и атаковали бы какое-нибудь государственное учреждение. Или угнали бы самолет. Или совершили покушение. Ну, не знаю, сделали бы что-нибудь.
Он зацепился за Кэрол в смутной надежде переспать с нею, однако выяснилось, что у нее есть друг, такой же революционер на словах и трус на деле; и вот Эдуард в очередной раз возвращается к себе в гостиницу один. Он наивно полагал, что революционеры живут все вместе в каком-нибудь тайном убежище, в заброшенном доме, а вовсе не в маленьких квартирках, куда друзей приглашают максимум для того, чтобы выпить кофе. И тем не менее он продолжает встречаться с Кэрол и ее друзьями: это все же хоть какая-нибудь компания, что-то похожее на семью, а ему мучительно хочется семьи, и эта потребность столь велика, что, услышав в парке колокольчики и бубны последователей Харе Кришны, под которые они гундосят свои дурацкие псалмы, он ловит себя на мысли, что быть там, с ними, наверное, не так уж плохо. Он посещает собрания членов Рабочей партии, соглашается распространять листовки. Кэрол дает ему сочинения Троцкого, и этот парень нравится ему все больше и больше. Его восхищает, что Троцкий без стеснения провозглашает: «Да здравствует гражданская война!» Что он с презрением относится к причитаниям бабья и церковников о священной ценности человеческой жизни. Что он убежден, что победители правы по определению, а побежденные – не правы и место их – на свалке истории. Это речи не мальчика, но мужа, однако больше всего Эдуарду нравится то, что рассказывал старикан из «Русского дела»: человек, произнесший эти слова, за несколько месяцев прошел путь от подыхающего с голоду нью-йоркского эмигранта до командующего Красной Армией, разъезжавшего по фронтам в бронированном вагоне. Вот какой судьбы желает для себя Эдуард, но ничего подобного ему не светит, если он продолжит валандаться с мягкотелыми американскими троцкистами, разглагольствующими о правах угнетенных меньшинств и политзаключенных, но безумно боящимися улицы, окраин, настоящей бедности.
Несмотря на острую тоску по семье, троцкисты ему смертельно надоели. И поскольку русских эмигрантов с него тоже хватит, он переносит свои вещи из гостиницы «Винслоу», их гнезда, в гостиницу «Эмбасси», еще более убогую, если такое возможно, но населенную исключительно неграми, наркоманами и проститутками обоих полов: эта публика кажется ему более элегантной. Там живет только один белый, но он не нарушает гармонии, потому что, по замечанию Кэрол – и в ее устах это не выглядит похвалой, – здешний белый одевается как негр. Первые же деньги, заработанные на перевозке с квартиры на квартиру барахла какого-то раввина, он тратит на шмотки, купленные по случаю, но яркие: розовые с белым костюмы, рубашки с кружевным жабо, сиреневые пиджаки из мятого бархата, сапоги с двухцветными каблуками – этот гардероб обеспечивает ему уважение соседей. Леня Косогор, последний из русских, с кем он еще не порвал, передает ему новую сплетню, имеющую хождение среди их соотечественников: раньше его считали педиком, чекистом и неудавшимся самоубийцей, а теперь утверждают, что он живет с двумя черными путанами и что он – их сутенер. Леня уверен, что Эдуарду было приятно это услышать.
Его окно в «Эмбасси» выходит на крышу маленького дома на Коламбус-авеню, где живут Геннадий Шмаков и еще двое танцовщиков – тоже голубых. В Ленинграде Шмаков был лучшим другом Бродского, и тот в своих интервью вспоминает о нем с большой теплотой. Щедрый, широко образованный, говорящий на пяти языках и знающий наизусть пятьдесят балетов – и Бродский, и Лимонов, в кои-то веки полностью согласные друг с другом, питают к нему тем более глубокое уважение, что Геннадий родом из простой деревенской семьи, живущей где-то в дремучей российской глубинке за Уралом. По мнению Бродского, это непреложный закон: настоящим денди может стать только провинциал.
Менее востребованный, чем его знаменитые друзья – Бродский и звезда балета Михаил Барышников, – Шмаков живет в Нью-Йорке в тени их славы: с помощью их связей получает заказы на переводы и статьи о великих русских танцовщиках. У Эдуарда уже есть неприятный опыт общения с блестящим обществом, где ему, мечтающему о первых ролях, отводится роль статиста, однако Шмаков и оба его приятеля – не звезды первой величины, а лишь их окружение, шлейф и потому не внушают ему робости. Чтобы зайти к ним, достаточно лишь перейти улицу, и ты попадаешь в атмосферу щедрого русского гостеприимства, которая согревает Эдуарду душу в те моменты, когда одиночество становится невыносимым. Они угощают его чем-нибудь вкусненьким – Шмаков потрясающе готовит, – утешают, рассказывают, какой он хорошенький и соблазнительный, словом, предлагают всю ласку и нежность, которых он ждал от гомосексуальной связи, но при этом не заставляют вступать в эту связь. «Ну, прямо как в сказке “Три медведя”», – шутит Шмаков, разрезая кулебяку.
Эдуард испытывает к Шмакову доверие, и ему – первому – читает рукопись своей книги «Это я – Эдичка», написанной летом на лужайке Центрального парка. Шмаков в восторге. Во всяком случае, находится под впечатлением. Он находит, что Эдичка злой, но злой на манер Раскольникова в «Преступлении и наказании», и потому начинает называть Эдуарда Родионом, как Раскольникова, а его книгу – «Это я – Родичка». Кроме того, Шмаков, как эстет и, безусловно, человек со вкусом, считает, что из всех талантов, которые прорезались в среде русской эмиграции, наш молодой негодяй – единственный по-настоящему современный. Набоков – бесспорно великий художник, но в то же время – университетский профессор, адепт теории чистого искусства и лицемерная свинья. «Даже Иосиф, – говорит Шмаков, понижая голос, словно боясь быть уличенным в святотатстве в отношении человека, которому он обязан всем и без которого ему бы в Нью-Йорке не выжить, – он, конечно, гений, но гений в стиле Т. С. Элиота или его друга Уистена Одена. Гений старой школы. Когда читаешь его стихи, впечатление такое, будто слушаешь классическую музыку, Прокофьева или Бриттена, а когда читаешь книгу злого мальчика Эдички, то вспоминается Лу Рид: a walk on the wild side. При этом я вовсе не хочу сказать, – уточняет Шмаков, – что Лу Рид лучше Бриттена или Прокофьева, лично я предпочитаю Бриттена и Прокофьева, но ведь перформанс Лу Рида в Factory– это более современно, чем представление “Ромео и Джульетты” в Метрополитен Опера, с этим не поспоришь».
Эдуарду приятно слушать комплименты, но сказанное его не удивляет: он и сам знает, что его книга – гениальна. Он соглашается с предложением Шмакова распространить текст среди его знакомых по методу самиздата, начав с двух великих – Бродского и Барышникова. Что касается Бродского, то Эдуард его опасался и не без оснований. Сей великий человек безумно долго не мог выбрать время прочесть книгу, прочитал ее, скорее всего, не до конца и потом столько же волынил, прежде чем поделиться своими бесценными впечатлениями. Разумеется, негативными. Ему тоже книга навеяла мысли о Достоевском, но в том смысле, что она написана не Достоевским и даже не Раскольниковым, а скорее Свидригайловым, самым отвратительным, извращенным и порочным персонажем «Преступления и наказания», а это уже совсем другая история. Барышникова, напротив, книга просто очаровала. Когда выдавалась свободная минута в перерывах между репетициями в театре, он бежал к себе и хватался за нее, не в силах оторваться. Но увы: он находился под таким сильным влиянием Бродского, что не смог противопоставить его мнению свое собственное.
И поскольку из них троих постоянно под рукой у Эдуарда был только Шмаков, то именно на него, доброго и благородного, он и выплеснул свою злобу и разочарование. Обозвал его приживалкой, никчемным существом, беспринципным прихлебателем богатых и знаменитых. «Что же ты не дал почитать мою книгу еще и Ростроповичу, – язвительно упрекал он Шмакова, – этому королю приспособленцев, еще одному члену адской тройки крестных отцов эмиграции, которые, если бы остались в стране, наверняка стали бы генеральными секретарями Союзов писателей, композиторов или танцовщиков и делали бы, как и здесь, все возможное, чтобы душить по-настоящему современных художников».
Шмаков смущенно потупился.
5
Однажды зимним вечером Шмаков, чтобы отвлечь Эдуарда от грустных мыслей, повел его в Квинс-колледж, на вечер одной советской поэтессы. Эдуард был не в восторге от этой идеи. Обливание друг друга елеем, принятое между американской университетской профессурой и советскими интеллектуалами, это для Бродского, а не для него, но бегать из угла в угол по своей норе он тоже больше не может и потому соглашается. Зал полон, они со Шмаковым садятся недалеко от Барышникова, который делает вид, что не знаком с Эдуардом, или – что вполне возможно – и вправду его не узнает. Именно этого он и боялся: впереди целый вечер унижений, сдерживаемой досады и гнева. Начавшееся чтение стихов настроения ему не подняло.
Поэтесса – это была Белла Ахмадулина – как и Евтушенко, принадлежит к поколению «шестидесятников», убежденных, как считает Эдуард, «что судьбу поэта можно сыграть между делом – между поездками в Париж, пьянками в Доме литераторов и писанием стихов и прозы; показывающих власти кукиш, но в кармане. Суровые юноши и девушки, пинающие в печати кровожадного, но давно умершего тирана Сталина, – объект особой заботы и заступничества мировой общественности, которая возвышала свой голос, как только кому-нибудь из них вдруг долго не разрешали уехать в очередной Париж или вместо тиража в миллион или полмиллиона выпускали книгу тиражом всего в сто тысяч экземпляров. И вот она, суровая девочка своего поколения, читает стихотворение о поэтессе Цветаевой, покончившей с собой в провинциальной Елабуге. Ну и кумиры нынче у русской интеллигенции: Мандельштам, от страха ставший юродивым и умерший у мусорного бака в лагере, где он собирал объедки. И, разумеется, Пастернак, робкий, услужливый человек, переведший со всевозможных языков целую книгу “Песен о Сталине”. Трус, просчитавшийся только в том, что решил однажды – уже можно не трусить, написал и издал за границей свой сентиментальный шедевр, роман “Доктор Живаго” – гимн трусости русской интеллигенции…» Кавычки закрываются.
После чтения стихов должна состояться вечеринка. Кто на нее приглашен, а кто – нет, непонятно, и Эдуард решил держаться поближе к Шмакову; вместе с которым они втиснулись в машину, направлявшуюся в богатые кварталы, и высадились у трехэтажного особняка с садом, выходящим на Ист-Ривер. В доме была кухня размерами с танцевальный зал, а комнаты своим убранством напоминали фото в гламурных журналах: словом, здесь было еще шикарнее, чем у Либерманов. Угощение соответствовало всему остальному, шампанское, водка, замороженная до такой степени, что стала густой, как масло. Гостей десятка три, русские и американцы, единственное знакомое лицо – Барышников, от которого Эдуард старается держаться подальше. Гостей встречает молодая женщина по имени Дженни с круглым милым лицом. Эдуард гадает: не она ли – хозяйка дома? Нет, для этого, пожалуй, слишком молода, скорее хозяйская дочь. Одни ее обнимают и целуют, другие – нет, он жалеет, что ему не хватило смелости это сделать.
Выпив водки, он расслабляется, достает ямайскую травку, которая всегда при нем, и скручивает сигареты. В кухне вокруг него собирается небольшая группа. Дженни, которая ходит из комнаты в комнату, наблюдая за всем, проходя мимо, делает затяжку-другую, а он каждый раз отпускает дружескую шутку, словно они давно знакомы. Пожалуй, красивой ее не назовешь, но внешность у нее располагающая, добродушная и даже слегка деревенская, что, по контрасту с роскошными интерьерами, производит ободряющее впечатление. Он постепенно пьянеет, чувствует себя все свободнее. Обнимает гостей за плечи, повторяет, что не хотел сюда идти и был не прав: уже давно у него не выдавалось такого приятного вечера. Ему кажется, что все вокруг его любят. Поздно вечером поэтесса с мужем поднимаются на второй этаж в отведенную им спальню, гости постепенно расходятся, даже те, кого мучила самая сильная жажда. Наиболее стойкие помогают убрать со стола, но потом уходят и они, и в кухне остаются только он и Дженни. Обсуждают прошедший вечер, как супруги после ухода гостей. Он сворачивает последний джойнт, дает ей и целует ее. Она не сопротивляется, только смеется – на его вкус чересчур громко, однако, когда он пытается пойти дальше, она уклоняется. Он настаивает, но она не уступает. Предприняв последнюю попытку, он предлагает лечь спать вместе, но «просто так». Она отрицательно качает головой: нет, нет и нет, она знает эти уловки, ему пора домой.
Домой! Если бы она знала, что у него за дом! Долгий поход пешком под ледяным февральским дождем был мучителен, а его комната показалась ему в тысячу раз отвратительнее, чем днем, когда он ее покинул. И все же у него есть номер ее телефона, она разрешила ей звонить, что он и делает на следующий же день; но нет, встретиться они не могут, в доме гости. «А я, – думает он, не осмеливаясь произнести это вслух, – разве нельзя вместе с другими гостями пригласить и меня?» Прошло два дня, и опять ничего не получается, потому что приехала сестра Стивена и проведет здесь неделю. Он понятия не имеет, кто такие Стивен и его сестра, из-за плохого английского не понимает половину того, что она говорит по телефону, подозревает, что Дженни хочет его отшить, и совсем отчаивается. Целую неделю он не вылезает из постели. Дождь льет не переставая. Он слышит, как за стенкой скрипит кабель лифта, в котором постояльцы, не стесняясь, справляют малую нужду, и думает о том, какая у него была бы жизнь, если бы он соблазнил эту богатую наследницу.
И вот наконец она соглашается, чтобы он пришел в воскресенье после обеда. Дженни в доме одна. Дождь прекратился, и они выходят пить кофе в небольшой сад, частное владение, откуда можно видеть реку. Она одета в спортивный костюм, из-под брюк видны щиколотки, толстоватые для богатой наследницы, размышляет он и, чтобы объяснить это несоответствие, делает предположение, что Дженни – ирландка. В надежде ее растрогать, он рассказывает кое-что из своей жизни: первая жена оказалась сумасшедшей, вторая его бросила, потому что он беден, мать сдала его в психиатрическую лечебницу. Кажется, получилось, она взволнована, и они ложатся в постель.
Ее спальня расположена на верхнем этаже, она очень маленькая, и это его удивило. Крестьянская пизда Джейн не идет ни в какое сравнение с изящной Елениной пипкой. Когда они трахаются, на лице у нее по-коровьи невозмутимое выражение; к тому же она его шокировала – его, которого трудно чем-нибудь удивить, – сказав, что две недели отказывалась с ним встречаться не потому, что он ей не нравится, а потому, что у нее была вагинальная инфекция. Зато утром она приготовила ему восхитительный завтрак: свежевыжатый апельсиновый сок, блинчики с кленовым сиропом, яичница с беконом, и он подумал: как все-таки восхитительно просыпаться каждое утро рядом с любящей женщиной, в теплой постели на тщательно проглаженных простынях, под тихую музыку Вивальди и поднимающийся из кухни запах жареных тостов.








