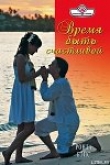Текст книги "Неуловимый Сапожок"
Автор книги: Эмма (Эммуска) Орци (Орчи)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Могу ли я получить его? – спросил Шовелен. Робеспьер передернул плечами и рассмеялся.
– Вы говорите, что они принадлежали семейству Марни. Джульетта Марни в Англии, и я хочу ее встретить. Не буду предсказывать, что может произойти, но чувствую, что это историческое ожерелье может сослужить неплохую службу. Впрочем, как вам будет угодно, – добавил бывший посол равнодушно. – Это всего лишь мысль, пришедшая мне в голову после ваших слов, не более.
– Чтобы доказать, как безгранично верит вам наше правительство, гражданин Шовелен, – начал с утонченной вежливостью Робеспьер, – я лично распоряжусь, чтобы ожерелье Марни оказалось у вас в руках. А также сумма в пятьдесят тысяч франков на ваши расходы в Англии. Видите, – мягко добавил он, – мы не оставляем вам ни малейшей надежды на прощение в случае второго провала.
– Я в нем и не нуждаюсь, – сухо ответил Шовелен и, удовлетворенно вздохнув, встал наконец со своего места, явно довольный тем, что аудиенция окончена.
Однако Робеспьер тоже встал и, отодвинув кресло, сделал несколько шагов в сторону Шовелена. Он был намного выше бывшего посла. Худощавый, со стройной осанкой, он теперь странно и загадочно возвышался над собеседником в неверном свете свечи. Бледный оттенок сюртука, светлые волосы, белизна белья – все придавало его внешности в этот миг необычный, призрачный вид.
Шовелен почувствовал даже нечто вроде дрожи омерзения, когда Робеспьер, вежливо и мягко, положил ему на плечо свою длинную костлявую руку.
– Гражданин Шовелен, – сказал Неподкупный с какой-то значительной торжественностью. – Мне кажется, что в этот вечер мы очень хорошо поняли друг друга. Вы наверняка догадались, какова цель вашего визита сюда. Вы говорили также о постоянной надежде, что революционное правительство даст вам когда-нибудь единственный, но превосходный шанс отыграть прошлогоднее поражение. Я всегда, в свою очередь, настаивал на предоставлении этого шанса, поскольку читал в вашем сердце, возможно, несколько глубже, чем мои коллеги. Я видел там не только энтузиазм во имя народа Франции, не только неприязнь к врагу своей страны, но личную смертельную ненависть к конкретному человеку, неизвестному и таинственному англичанину, который в прошлом году оказался слишком умен для вас. А поскольку я уверен, что ненавидящий действует более дальновидно, чем самый альтруистичный патриот, то я заставил Комитет общественной безопасности разрешить вам осуществить личную месть и тем самым послужить своей стране более эффективно, чем это мог бы сделать какой-нибудь слабоумный патриот. Вы едете в Англию хорошо обеспеченным, что необходимо для успеха ваших планов. Революционное правительство будет помогать вам деньгами, документами, условиями; разместит своих шпионов и агентов по вашей диспозиции. Оно даст вам практически неограниченную власть повсюду, куда бы вы ни отправились. Оно не будет вмешиваться ни в ваши предприятия, ни в ваши намерения, если они не начнут отклоняться в сторону от цели. Но что бы ни побуждало вас – частная месть или патриотизм – вы должны осуществить наше требование и предоставить нам человека, известного как Сапожок Принцессы. Мы требуем его, по возможности, живым или мертвым, если тому суждено будет случиться, а также столько его приспешников, сколько удастся отправить следом за ним на гильотину. Доставьте его во Францию, и мы найдем ему прекрасное применение, и пусть вся Европа летит к чертям!
На некоторое время он замолчал, но рука его продолжала лежать на плече Шовелена, который, похоже, впал в транс под взглядом бледно-зеленых глаз. Однако он не испугался и продолжал молчать. Он был совершенно уверен в триумфе; его плодотворный ум уже погрузился в свои планы, а поскольку сердце его никогда не знало страха, он совершенно спокойно ожидал завершения робеспьеровской речи.
– Возможно, гражданин Шовелен, – продолжил наконец последний, – вы уже догадались о том, что мне осталось сказать вам. Но чтобы в голове у вас не оставалось относительно этого никаких сомнений, позвольте мне все-таки высказаться. Революционное правительство дает вам шанс отыграться – и не более. Если же вы провалитесь вновь, то оскорбленная родина забудет о прощении и сострадании. Вернетесь ли вы во Францию или останетесь в Англии, будете ли вы на севере, юге, востоке или западе, пересечете ли вы океаны или взберетесь на Альпы, рука мстящего народа достанет вас. Ваш второй провал будет стоить вам жизни, где бы вы ни были; на гильотине, если вы будете во Франции, или от ножа наемного убийцы, если вы будете где-нибудь искать убежища. Вдумайтесь в это, гражданин Шовелен. На этот раз не будет спасения, даже если вы умудритесь создать свою империю и самого себя возвести на трон.
Тонкий и напряженный голос порхал таинственным эхом по тесному будуару. Шовелен молчал. Ему было нечего сказать. Все, что торжественно произнес Робеспьер, он никогда не забывал, даже продумывая самые отчаянные предприятия.
Это было «или-или», предложенное теперь ему. Он вновь вспомнил о Маргарите Блейкни и той ужасной альтернативе, которую он предложил ей менее года назад.
Отлично! Шовелен был готов пойти на риск. Теперь он уже не провалится! Он поедет в Англию на этот раз на самых благоприятных условиях; он знает того человека, которого должен заманить во Францию и погубить.
И маленький человечек, не дрогнув, ответил на угрожающий взгляд Робеспьера. Затем взял шляпу и плащ, открыл дверь и на мгновение всмотрелся в темный коридор, где едва были слышны отдаленные шаги одинокого часового. Шовелен надел шляпу, еще раз оглянулся на комнату, где стоял, спокойно наблюдая за ним, Робеспьер, и отправился своей дорогой.
ГЛАВА IV
ПРАЗДНИК В РИЧМОНДЕ
Возможно, это был самый восхитительный сентябрь из всех известных когда-либо в Англии. Стояли последние дни умирающего лета.
Странно, что в этой стране, где упомянутый сезон сияет славой, в языке не нашлось специального выражения, которым в точности можно было бы его определить. Посему мы вынуждены называть его по-французски fin d'efe – конец лета. Но не окончательный финал, не самое категоричное прощание, а горячее томление друга, вынужденного вскоре нас покинуть и расположенного остаться еще на день или два, на неделю или чуть больше, и излучающего трогательное, неизбежно приближающееся прощание, вынося на поверхность лишь самое нарядное, самое желанное, самое достойное для его последующего сожаления.
И в этом великом 1793 году отбывающее лето щедро разбрасывало все сокровища своей палитры на царство деревьев и прибрежных берегов. Оно слегка тронуло горячим налетом золота грубую зелень елей и лиственниц, припорошило тонами теплой ржавчины дубы, наложило малиновые мазки на старые буки. В садах все еще цвели розы. Не изящные бутоны июньских лимонных, не бледные и вьющиеся по решеткам беседок, нет, а ярко-кровавые розы уходящего лета и глубоко насыщенные абрикосовые со свернувшимися верхними лепестками, которые уже слегка поцеловала изморозь. В укромных местах еще томились пурпурные клематисы, в то время как за ними мерцали бриллиантовые георгины, будто выстоявшие в своей роскошной дерзости и щеголяющие теперь своими грубо окрашенными лепестками на фоне умиротворенных лужаек, покрытых опавшими листьями, и на фоне древних стен цвета мха.
Праздник проходил в конце сентября. Природа берегов реки наиболее этому способствовала, там всегда можно было найти укромную тень, в которой легко терялись муслиновые платья новейших фасонов и пикейные юбки бледных тонов. Земля была суха и тверда, то есть одинаково хороша и для прогулок, и для установления палаток и тентов. Кроме того, здесь всегда происходило всеобщее смешение нарядов и лиц; казалось, здесь были шарлатаны, фигляры и фокусники со всего света; можно было встретить и человека с лицом черным, как треуголка милорда, и человека с плоскими и желтыми щеками, наводящими на мысль о масляном пудинге, о весеннем волчьем корне, о яичных желтках и о прочих чрезвычайно желтых предметах.
Еще там был навес, под которым находились всевозможнейшие собаки, большие и маленькие, черные, белые и желтовато-коричневые, которые занимались такими вещами, что истинному христианину, уважающему свое происхождение, лучше было бы не смотреть на них.
Был и еще один навес, под которым сидел старичок с загадочным лицом; он играл с бобовыми стебельками и прочими палочками, королевскими монетками и кружевными платками, появляющимися и исчезающими у всех на глазах.
Все это было мило и замечательно; можно было сидеть прямо на траве и слушать прекрасную музыку, которую играл находящийся тут же оркестр, и наблюдать за важно прогуливающейся по газонам молодежью.
Общество еще не собралось, и народ попроще, покончив с ранним обедом, стремился провести несколько приятных часов всего за пять пенсов, взимавшихся в виде пошлины при входе.
В парке можно было много чего увидеть, чем заняться. Игры с деревянными шарами на траве, прекрасная тетка Салли, кегельбан и две карусели, обезьяны, актрисы и танцующие медведи; женщина настолько толстая, что трое мужчин не смогли бы ее обнять, и мужчина настолько тощий, что мог бы надеть женский браслет на шею и женскую подвязку на талию.
Здесь были забавные маленькие карлики с раскрашенными лицами и галантными манерами, и великан, пришедший, как говорили, пешком из России.
А еще был большой аттракцион механических игрушек; достаточно было опустить в маленькую прорезь на коробке один пенни, чтобы кукла начала танцевать и пиликать на скрипке. Был и целый волшебный завод, где также за одну скромную монету вереница сморщенных крошечных фигурок, одетых в подобие лохмотьев, маршировала унылой процессией по ступеням лестницы в некий замечательный домик, для того чтобы в следующее мгновение появиться из другой двери этого домика молодыми, веселыми и танцующими, в роскошных одеждах; после чего, сделав еще несколько шагов, они окончательно скрывались из глаз.
Но самым замечательным, собравшим наибольшее количество зевак и монет, было миниатюрное представление событий, развивающихся в настоящий момент во Франции.
И вы никак не могли вмешаться и были уверены в том, что происходящее – совершенная правда, так убедительно было все сделано. Задник игрушечной сцены представлял собой дома на фоне неестественно багрового неба. «Слишком красное», – говорили некоторые, но тут же бывали пристыжены голосом разума, утверждающего, что это всего лишь закат. На этом фоне стояло несколько маленьких фигурок величиной с ладонь, с деревянными личиками, ручками и ножками, эдакие великолепно сделанные куколки, одетые преимущественно в изодранные юбки и бриджи, а также в сюртучки и деревянные туфельки. Они толпились группками, с руками, опущенными вдоль тела. В центре этой небольшой сцены на подвижной платформе были установлены миниатюрные столбы с длинной гладкой доской с правой стороны у их подножья. Все было выкрашено в ярко-красный цвет. На другом конце доски находилась маленькая корзиночка, а между столбов в верхней части – миниатюрный нож, бегающий вниз и вверх по желобкам и приводимый в движение посредством колесика и шкива. Наиболее посвященные утверждали, что это модель гильотины.
Глазейте и наслаждайтесь сколько хотите! Стоило бросить пенни в прорезь, находящуюся под деревянной стеной, как фигурки начинали двигать маленькими ручками и ножками, затем одна из них поднималась на движущуюся платформу и ложилась на красную доску у основания деревянных столбов. После чего фигурка в алом блестящем костюме поднимала руку для того, чтобы коснуться колесика, крошечный нож катился вниз на бледную кукольную шейку – и голова откатывалась в корзинку, находящуюся за доской.
Затем громко трещали колеса, жужжал внутренний механизм, все фигурки замирали с опущенными руками, пока обезглавленная куколка скатывалась с доски, пропадая из виду, чтобы приготовиться, конечно же, вновь участвовать в этой ужасной пантомиме.
Было страшно до дрожи; дыхание настоящего безмолвного ужаса царило в палатке, где помещалось механическое диво. Сама палатка стояла в отдалении от входа, и от оркестра, и от шумных каруселей; вокруг нее был натянут черный навес, на котором огромными красными буквами было написано: «Пожалуйста, пожертвуйте медяк ради голодающих бедняков Парижа!»
Время от времени под навесом можно было увидеть даму в серой пикейной юбке с хорошеньким в серо-черную полоску панье, прогуливающуюся и периодически исчезающую в дверце за пологом. Она возвращалась, неся в руках вышитый ридикюль, и, держа его открытым, медленно обходила толпу, монотонно повторяя «Ради голодающей бедноты Парижа, будьте так любезны, смилуйтесь»
У нее были темные глаза, несколько узкие и раскосые, что придавало лицу порой не очень приятное выражение. Но все же глаза были хороши, и, когда она проходила по кругу, прося милостыню, большинство мужчин опускали руку в карманы бриджей и роняли монетку в ее вышитый ридикюль.
Она произносила слово «Париж», забавно перекатывая «р», а слово «смилуйтесь» у нее состояло из одной длинной ноты, из чего можно было заключить, что она француженка, собирающая милостыню для своих нуждающихся сестер. Через определенные интервалы дня механическая игрушка откатывалась назад, серая дама вставала на платформу и пела чудные песенки, слов которых никто не мог разобрать.
– «Jl était une bergère, et ron et ron petit pataplon…[3]3
Он был пастух, и круглый-круглый толстячок… (фр.)
[Закрыть]» Все это оставляло ощущение грусти и подавленности в умах и чувствах добропорядочных ричмондских парней, пришедших со своими возлюбленными и женами поразвлечься среди забавных чудес, и поэтому все стремились выйти из наводящей тоску палатки к солнечному свету, к яркому и шумному празднику.
– Клянусь, она очень меня растрогала, – сказала хорошенькая миссис Полли, конторщица из «Колокола», харчевни, расположенной ниже по течению реки. – Но тем не менее я должна сказать, что вовсе не понимаю, почему англичане должны отдавать свои трудовые денежки этим убийцам за Каналом. Голод, я считаю, не делает из убийцы святого, если он продолжает убивать, – добавила она с непоколебимой логикой нелогичности. – Пойдем посмотрим лучше что-нибудь веселое.
С этими словами она направилась в более приветливые места площадки, неотступно сопровождаемая краснолицым, немного похожим на барана, молодым человеком, явно ее неизменным ухажером.
Время приближалось к трем, и общество начало съезжаться. Лорд Энтони Дьюхерст был уже здесь и щекотал подбородки всем хорошеньким девушкам, щедро одаряя более красивых. Дамы все прибывали и прибывали.
Женщины, одетые попроще, то и дело вздрагивали при виде богато расшитых платьев и новых «шарлотт», перевитых бархатом и украшенных легкими перьями марабу.
Повсюду слышался громкий оживленный разговор. То тут, то там, перекрывая общий гул, раздавалась французская речь. Французов можно было легко распознать даже на расстоянии, поскольку одежда их имела грустный и скорбный вид и была менее богата, чем у англичан их круга. Среди них встречались важные дамы и господа, зачастую даже герцоги и графини, оказавшиеся в Англии из-за опасения быть убитыми этими дьяволами в своей собственной стране. Как раз сейчас Ричмонд был полон ими, поскольку в роскошном доме сэра Перси и леди Блейкни их приветствовали не менее радостно, чем во дворце.
Появился и сэр Эндрью Фоулкс со своей женой. Она выглядела изящно и прелестно в своем сшитом по новой моде платье. Она была словно фарфоровая куколка, каштановые волосы мягкими волнами обрамляли гладкий лоб, большие глаза смотрели с ненаигранным восхищением на своего галантного мужа, идущего рядом.
– Без сомнения, она совершенно влюблена в него, – вздохнула хорошенькая миссис Полли, приседая перед миледи. – Ах, сколько отваги он проявил ради любви к ней! Вырвал ее у этих французских убийц и доставил живой и невредимой в Англию, голыми руками победив несметные полчища врагов, как я слышала. Или я ошибаюсь, мастер Томас Джедарт? – вызывающе посмотрела она на своего покорного кавалера.
– Ба, – ответил с совершенно неожиданной горячностью мастер Томас, глядя в провоцирующие карие глаза. – Все это сделал не он, миссис Полли, как вам хорошо известно. Сэр Эндрью Фоулкс действительно галантный джентльмен, в этом вы можете даже поклясться на Библии, но побеждает убийц-лягушатников голыми руками тот, кого все зовут Сапожком Принцессы, храбрейшим джентльменом во всем мире!
Однако, упомянув имя национального героя, Томас понял, что восторг, возникший вдруг в глазах Полли, относится не к нему, и добавил кое-какие контраргументы.
– Я слышал, что этот самый Сапожок весьма неприятной наружности, а потому никогда никому и не показывается. Говорят даже, что он совершенное пугало для ворон, и ни один француз не в силах дважды взглянуть ему в лицо – поэтому они предпочитают отпускать его на все четыре стороны, лишь бы больше не видеть!
– Если и в самом деле так, то это какой-то нонсенс, – возразила миссис Полли, передернув хорошенькими плечиками. – Ведь если бы это была действительность, то и вы могли бы отправиться во Францию вместе с ним, потому что, клянусь, ни один француз не захочет увидеть ваше лицо еще раз!
Остроту встретили дружным смехом; молодая пара уже как раз присоединилась к небольшой группе своих товарищей, и теперь они представляли из себя веселую компанию сидящих и стоящих людей, пришедших, чтобы насладиться всем, чем только можно, на ричмондском празднике. Это были Джонни Гуллен – ученик зеленщика из Твикен-хэма, Урсула Квикетт – дочь бакалейщика, еще несколько молодых повес и несколько людей постарше. Все поспешили ответить на только что прозвучавшую шутку, но миссис Полли оборонялась чрезвычайно остроумно. А поскольку она располагала двумя сотнями фунтов, своей собственностью, оставленной ей бабушкой, то благодаря этой безграничной силе судьбы заслужила репутацию красивой и умной, чего никогда бы не удалось достигнуть какой-то девке без гроша в кармане.
Но миссис Полли была еще и добросердечна, и, хотя ей нравилось терроризировать мастера Джедарта, неутомимого созерцателя ее хорошеньких юбок, легкие победы над которым придавали ей некоторую «нахальность», при виде досадного смущения, разбавленного несчастьем, на лице парня ее добрая натура быстро брала верх. Она поняла, что шутка ее оказалась чрезмерно и незаслуженно обидной, и, желая несколько смягчить боль, проливая бальзам на оскорбленное тщеславие доблестного Томаса, кокетливо сказала:
– Ой, мастер Джедарт, мне все-таки кажется, что вы заливаете! Вы сами распространяете эти небылицы о Сапожке Принцессы, – добавила она, обращаясь к компании с таким видом, будто мастер Джедарт пытался ей возразить. – Почему он скрывает от всех свое настоящее лицо? А те, кто знают его, не говорят об этом? Я-то знаю наверное, от горничной Люси, что одна молодая дама, остановившаяся в доме леди Блейкни, в самом деле разговаривала с Сапожком. Она прибыла из Франции, она и джентльмен, которого зовут мусье Деруледе. Они оба видели Сапожка Принцессы и говорили с ним! Он привез их из Франции сюда. Почему же они ничего не рассказывают?
– Рассказывают что? – вмешался Джонни Гуллен, ученик зеленщика.
– Кто этот Сапожок Принцессы есть.
– А может быть, он и не есть? – выпалил старый Клаттербук, служащий клерком в приходе Святого Иоанна Евангелиста.
– Да, – филосовски добавил он, поскольку всегда был очень доволен своими перлами и любил повторять их, прежде чем расстаться навсегда. – Это так. Можете мне поверить. Очень даже может быть, что он и не есть…
– Но что вы под этим подразумеваете, мистер Клаттербук? – спросила Урсула Квикетт, поскольку прекрасно знала, что старик всегда с удовольствием объясняет свои мудрые сентенции, а так как ей очень хотелось выйти замуж за его сына, она прощала возможному свекру все. – Что вы подразумеваете? Он не есть что?
– Не есть и все, – пояснил Клаттербук с каким-то туманным торжеством.
Но, увидев, что привлек к себе внимание всей компании, старый клерк решил прибегнуть к более логичной фразеологии:
– Я подразумеваю, что мы и не должны спрашивать, кто есть этот таинственный Сапожок Принцессы. А вот кто был этот бедный несчастный джентльмен?
– Так вы думаете… – произнесла миссис Полли, чье оживление значительно уменьшилось от такого заявления.
– Я знаю это точно, – все так же туманно сказал мистер Клаттербук. – Тот, кого все называют Сапожком Принцессы, более не существует. Он схвачен французами за шиворот и пропал навеки или же, выражаясь языком поэтов, никто более никогда о нем не услышит.
Мистер Клаттербук был очень горд своей цитатой из настоящих авторов, чьих имен он никогда не упоминал, поскольку они существовали для него под одним общим названием поэтов.
Сколько бы он ни употреблял фраз, взятых из этих великих и никому не известных авторов, он всегда торжественно приподнимал шляпу, оказывая тем самым почтение грандиозным умам.
– Вы думаете, что Сапожок Принцессы мертв? Мистер Клаттербук? Что эти ужасные французы убили его? Ради всего святого, ведь вы не это хотели сказать? – жалобно взмолилась миссис Полли.
Мистер Клаттербук поднес руку к шляпе, явно намереваясь еще раз вернуться к таинственным поэтам, но в самый последний момент приготовлений к произнесению возвышенных мыслей вдруг был прерван громким смехом, раскатистым эхом долетевшим из отдаленного угла парка.
– Клянусь, я узнала бы этот смех из тысячи! – воскликнула Урсула, в то время как взоры всех присутствующих устремились в сторону, откуда он донесся.
На полголовы возвышаясь над своими друзьями, окружившими его, зорко осматривая синими глазами из-под тяжелых век пеструю толпу, среди небольшой, празднично одетой группы, только что миновавшей ворота, шел блестящий сэр Перси Блейкни.
– Превосходный образчик мужчины, вне всяких сомнений! – объявил Джонни Гуллен.
– О, в этом можно даже поклясться на Библии! – подхватила миссис Полли, всегда склонная к сентиментальности.
– Как говорят поэты… – сентенциозно вставил мистер Клаттербук, – не дюймы делают мужчину!
– Так же как и не прекрасная одежда, – добавил мастер Джедарт, которому не пришелся по вкусу чувствительный вздох миссис Полли.
– А вон миледи! – прошептала мисс Барбара, неожиданно схватив клерка за руку. – Господи, как хороша она сегодня!
Воистину прекрасная, святящаяся счастьем и молодостью, в ворота вошла Маргарита Блейкни и направилась вдоль газона по направлению к оркестру. На ней было звенящее, переливающееся платье зеленого оттенка, с высокой талией по последней моде, эффектно облегающее грациозную фигуру Большая «шарлотта», в отличие от платья сделанная из бархата, бросала глубокую тень на верхнюю часть ее лица, придавая линиям лба и шеи прелестную мягкость.
Длинные кружевные перчатки закрывали ее руки до локтей, а шарф из прозрачной ткани, окаймленный тусклым золотом, потерянно лежал на плечах.
Да, она была прекрасна! Ни один самый придирчивый летописец не смог бы этого отрицать! И ни один из тех, кто знал ее раньше и кто увидел ее впервые в этот осенний день, не мог бы не отметить очарования ее магнетической личности. Стоило ей повернуть голову, что давало возможность увидеть оживленное лицо, – и радость жизни в ее глазах, которой совершенно невозможно было сопротивляться, покоряла вас навсегда.
В данный момент она дружески разговаривала с молодой девушкой, шедшей с ней рядом, и весело смеялась.
– Нет, мы найдем, найдем вашего Поля, не бойтесь! Господи, дитя, вы разве забыли, что он теперь в Англии, а здесь нечего опасаться, будто вдруг его снова похитят прямо средь бела дня на полянке!
Девушка слегка вздрогнула, и ее детское лицо побледнело еще больше. Маргарита взяла ее за руку и бережно пожала. Джульетта Марни, недавно прибывшая в Англию, вырванная из-под ножа гильотины в последний момент подоспевшей отчаянной помощью, все еще никак не могла поверить, что человек, страстно любимый ею, также находится теперь вне опасности.
– А вот и месье Деруледе, – улыбнулась Маргарита и после небольшой паузы, чтобы дать своей молодой спутнице прийти в себя, указала на группу мужчин, стоящих неподалеку. – Как видите, он среди друзей.
Две женщины, стоявшие рядом на фоне зеленой травы под бриллиантовым солнцем, бросающим золотые отблески и прозрачные тени на их гибкие формы, представляли собой прелестную картину Маргарита, высокая, подобная королеве в своем роскошном платье и драгоценностях, с величественной гордостью носящая незримую корону счастливого замужества, – и Джульетта, подвижная, подобная девочке, одетая во все белое, с мягкой глубокой шляпой на прекрасных кудрях, несущая на своем юном, совсем детском личике тяжелую печать ужасных страданий, которые довелось ей пережить, печать смертельной внутренней битвы, выпавшей на ее долю.
Вскоре они присоединились к друзьям; среди последних был Поль Деруледе, а также сэр Эндрью и леди Фоулкс, между которыми лениво прогуливался, спрятав руки в карманах великолепных штанов, поводя широкими плечами, на которых авантажно сидел безукоризненный сюртук, неподражаемый сэр Перси Блейкни.