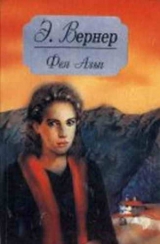
Текст книги "Развеянные чары"
Автор книги: Эльза (Элизабет) Вернер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Капитан поклонился и отошел прочь. Все было сказано самым непринужденным тоном, словно без всякого умысла, но певице был вполне ясен злой смысл, таившийся в его словах; она крепко сжала губы, как бы в приливе сильного внутреннего волнения, и еще быстрее стала обмахиваться веером.
Гуго между тем отыскал своего брата, оживленно беседовавшего с маркизом Тортони; они стояли немного в стороне от остального общества.
– Нет, нет, Чезарио! – говорил Рейнгольд, от чего-то отказываясь. – Я только что вернулся из М., и мне немыслимо снова покинуть город. Может быть, после…
– Но ведь опера отложена, – продолжал маркиз просительным тоном, – и жара уже дает себя знать. Через несколько недель вы все равно переберетесь куда-нибудь на дачу… Помогите мне, капитан! – обратился он к подошедшему Гуго. – Ведь и вы, думаю, не прочь познакомиться с нашим югом, а, право, вам не представится лучшего случая сделать это, чем у меня в «Мирандо».
– Ты уже знаком с маркизом? – спросил Рейнгольд. – Значит, вас не надо представлять друг другу.
– Совершенно лишнее, – весело ответил Гуго. – Я сам представился уважаемым синьорам, как раз когда речь шла о тебе, и в качестве незнакомого слушателя позволил себе невинное удовольствие несколькими замечаниями подстрекнуть их против тебя. К сожалению, мой замысел достиг своей цели лишь в отношении единственного человека; маркиз Тортони, напротив, страстно защищал твои интересы, я попал у него в совершенную немилость из-за того, что осмелился усомниться в твоем таланте.
Рейнгольд покачал головой:
– Так он уже и с вами успел сыграть одну из своих шуток, Чезарио? Берегись, Гуго, поменьше шути! Ведь мы на итальянской почве, здесь шутки не имеют того невинного характера, что у нас на родине.
– Ну, в данном случае вам достаточно было назвать себя, чтобы примирение состоялось, – с улыбкой сказал маркиз. – Но мы уклонились от предмета своего разговора, – продолжал он, – и я все еще не получил ответа на свою просьбу. Я твердо рассчитываю на ваше посещение, Ринальдо, и, само собой разумеется, на ваше, капитан!
– Я гость своего брата, – объявил Гуго, к которому были обращены последние слова. – Согласие зависит исключительно от него и… от синьоры Бьянконы.
– От Беатриче? Это почему? – быстро спросил Рейнгольд.
– Она и так уже недовольна тем, что мое присутствие отвлекает тебя от нее, и еще вопрос, отпустит ли она тебя на долгое время, как того желает маркиз.
– Неужели ты думаешь, что я покорюсь всем ее прихотям? – В тоне Рейнгольда послышалась обида. – Ты увидишь, что я могу принять решение и помимо ее согласия! Мы приедем, Чезарио, в будущем месяце, я обещаю.
При этом быстром согласии на лице маркиза мелькнуло радостное выражение; он любезно обратился к капитану:
– Синьор Ринальдо давно знает «Мирандо» и всегда оказывает ему предпочтение, надеюсь сделать приятным и ваше пребывание в нем. Вилла расположена очень живописно, на самом берегу моря…
– И уединенно, – прибавил Рейнгольд с неожиданной грустью. – Там можно снова свободно вздохнуть после душной салонной атмосферы… Однако уже садятся за стол, – сказал он, бросая взор на террасу. – Придется и нам примкнуть к остальным. Не хочешь ли ты, Гуго, вести к столу Беатриче?
– Нет, благодарю, – холодно отклонил предложение капитан. – Ведь это твое исключительное право, и я не хочу им воспользоваться.
– Насколько я заметил, твой разговор с ней был очень коротким, – сказал Рейнгольд, когда они поднимались по ступенькам террасы. – Что произошло между вами?
– Ничего особенного, – ответил капитан. – Маленькая стычка на аванпостах, и только. Синьора Беатриче и я сразу заняли позиции друг против друга. Надеюсь, ты ничего не имеешь против этого?
Он не получил ответа, так как в следующую минуту возле братьев зашумело шелковое платье синьоры Бьянконы, и она очутилась между ними. Капитан с рыцарской вежливостью поклонился красавице. К его поклону никак нельзя было придраться, и Беатриче любезно кивнула в ответ, но взгляд, которым она окинула его при этом, достаточно ясно показывал, что и она уже заняла свою позицию. В ее взоре вспыхнула вся ненависть разгневанной южанки, правда, всего лишь на миг, и тотчас погасла; в ту же минуту она повернулась к Рейнгольду, взяла его под руку и вместе с ним направилась в зал.
«По-моему, это ни более, ни менее, как объявление войны, – пробормотал про себя Гуго, следуя за ними. – Без слов, но в высшей степени понятно. Итак, неприятельские действия открыты. К вашим услугам, синьора!..»
Глава 11
Маркиз был совершенно прав: несмотря на раннюю весну, жара уже давала себя чувствовать. Правда, сезон еще не кончился, но многие семьи уже покинули город и отправились в излюбленные дачные местности в горах и на морском побережье. Те, кто еще не сделал этого, готовились раньше, чем обычно, рассеяться во все стороны до самой осени, которая снова собирала всех в город.
В доме синьоры Бьянконы еще не было заметно приготовлений, свидетельствующих о скором отъезде, но разговор между ней и Рейнгольдом Альмбахом, по-видимому, шел именно об этом. Они были одни в роскошно убранной гостиной певицы. На красивом лице Беатриче выражалось сильнейшее волнение. Откинувшись на подушки дивана, сердито сжав губы, она безжалостно обрывала лепестки одного из великолепных букетов, в изобилии украшавших гостиную. Рейнгольд, мрачно нахмурившись и скрестив руки, шагал из угла в угол. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что разыгрывалась одна из тех бурных сцен, которые, по словам маэстро Джанелли, были так же часты между ними, как и солнечная погода.
– Прошу тебя, Беатриче, избавь меня от дальнейшей сцены, – запальчиво сказал Рейнгольд. – Она ничего не изменит в принятом мною решении. Я обещал маркизу Тортони, и наш отъезд в «Мирандо» назначен на завтра.
– В таком случае ты возьмешь свое слово назад, – возразила Беатриче не менее запальчиво. – Ты дал его без моего ведома всего несколько дней тому назад, тогда как мы уже давно решили провести этот дачный сезон в горах.
– Конечно, и тотчас же по возвращении из «Мирандо» я приеду к тебе туда.
– Тотчас по возвращении? – сердито крикнула Беатриче. – Тортони по обыкновению употребит все старания, чтобы удержать тебя там подольше, а поскольку ты едешь вместе с братом, то само собой разумеется, что твое отсутствие еще более продлится.
Рейнгольд вдруг остановился и окинул ее мрачным взглядом.
– Не будешь ли ты так добра раз и навсегда оставить в покое эту избитую тему? – резко спросил он. – Я уже отлично знаю, что между тобой и Гуго не существует симпатии, но он по крайней мере щадит меня, не распространяясь об этом, и не требует, чтобы я разделял с ним его антипатию. Впрочем, ты ведь не станешь отрицать, что он всегда безукоризненно вежлив по отношению к тебе.
Беатриче швырнула букет на пол и вскочила с дивана.
– О, да, с этим я согласна, но вот эта-то безукоризненная вежливость и возмущает меня… Любезный разговор с язвительной усмешкой на губах, учтивое внимание с затаенной ненавистью во взоре… истинно немецкая манера, от которой я страдала на вашем севере, которая сжимает нас кольцом так называемых общественных приличий и подчиняет себе, как бы мы ни сопротивлялись! Твой брат мастерски владеет этим искусством, ничто не касается и не задевает его, все разбивается о его вечную усмешку. Я… я ненавижу его, и он не менее того – меня!
– Ну, едва ли, – с горечью воскликнул Рейнгольд, – в искусстве ненавидеть трудно поспорить с тобой, в чем я неоднократно имел случай убедиться, когда ты считала себя кем-нибудь оскорбленной. Твоя ненависть переходит всякие границы. Однако на сей раз ты должна помнить, что она направлена против моего брата и что я не позволю ей отравить наше кратковременное свидание после долгих лет разлуки. Я не потерплю ни оскорблений, ни нападок на Гуго.
– Потому что ты любишь его больше меня! – в бешенстве крикнула Беатриче. – Потому что в сравнении с ним я для тебя – ничто! И в самом деле, что я для тебя?!
Плотина прорвалась, и хлынули упреки, жалобы, угрозы, закончившиеся целыми потоками слез. В этом порыве сказалась вся страстная натура итальянки, но ничто не могло склонить Рейнгольда к уступчивости. Он несколько раз пробовал остановить потерявшую самообладание даму, и когда это ему не удалось, в гневе топнул ногой.
– Еще раз повторяю тебе, Беатриче, прекрати эту сцену! Ты знаешь, что этим ничего не добьешься от меня, и, кажется, уже давно должна была убедиться, что я не безвольный раб, для которого твое слово, твой каприз – закон. Я не выдержу вечных сцен, которые ты устраиваешь по всякому поводу!
Он выбежал на балкон и, повернувшись спиной к гостиной, стал смотреть на Корсо, где жизнь била ключом. Из гостиной еще несколько минут доносились всхлипывания Беатриче, затем она умолкла, и тут же Рейнгольд почувствовал ее руку на своем плече.
– Ринальдо!
Он нехотя обернулся и встретил пылкий взор темных глаз Беатриче; в них еще стояли слезы, но уже не слезы гнева. Ее все еще взволнованный голос звучал теперь мягко и ласково.
– Ты говоришь, что я – мастерица ненавидеть. Неужели только ненавидеть, Ринальдо? Разве ты не испытал на себе совершенно противоположное?..
Рейнгольд вернулся в гостиную.
– Я знаю, ты умеешь и любить, – несколько теплее заговорил он, – горячо и безгранично любить. Но способна и мучить своей любовью, мне приходится чуть ли не ежедневно испытывать это.
– И от этой муки ты и хочешь сбежать, по крайней мере, на время?
Вопрос прозвучал резким упреком.
Альмбах сделал нетерпеливое движение.
– Я ищу покоя, Беатриче, и вблизи тебя никогда не нахожу его. Ты не можешь дышать без постоянных волнений, для тебя они – необходимость, жизненная потребность, и ты увлекаешь в их огненный круговорот всех тех; кто близок к тебе. Я… устал.
– От общества или от меня? – спросила Бьянкона, снова начиная горячиться.
– Неужели ты не можешь не отыскивать в каждом слове шпильки? —
вскрикнул Рейнгольд. – Я вижу, сегодня мы опять не понимаем друг друга… Прощай!
– Ты уходишь? – не то испуганно, не то с угрозой воскликнула итальянка. – И прощаешься таким образом, расставаясь со мной на месяц или больше?
Рейнгольд был уже у дверей, но тут он одумался и медленным шагом вернулся.
– Да, да, я и забыл о том, что уезжаю. Прощай, Беатриче!
Но, не так скоро удалось ему уйти. Бьянкона уже давно разучилась упорно стоять на своем перед этим человеком, сумевшим покорить себе ее капризную волю, и теперь, когда он снова подошел к ней, о дальнейшем противоречии не было и помина.
– Неужели ты и впрямь хочешь уехать один, без меня? – спросила она дрогнувшим голосом.
– Беатриче…
– Один, без меня? – страстно повторила она.
Рейнгольд попытался было отнять у нее свои руки, но ему это не удалось.
– Чезарио непременно ожидает меня, – уклонился он от прямого ответа, – а я уже объяснил тебе, что ты не можешь сопровождать меня туда.
– В «Мирандо» не могу, – перебила его Беатриче, – я знаю. Но что мешает мне изменить наш первоначальный план и вместо гор провести начало лета в С, куда съезжается на летний отдых так много иностранцев? От «Мирандо» это довольно близко, и ты можешь за полчаса приехать ко мне на лодке. Можно мне поселиться там… вслед за тобой, Ринальдо?
Трудно, почти невозможно было устоять перед ласково-просительным тоном, перед покорным взором. Рейнгольд молча смотрел на эту красавицу, любовь которой когда-то казалась ему высшим счастьем. Ее чары еще не потеряли своего могущества над ним и сильнее всего действовали именно тогда, когда он пытался развеять их. Вслух, правда, он не выразил своего согласия, но, когда наклонился к ней, Беатриче сразу увидела, что на этот раз она победила. Когда полчаса спустя он уже действительно уходил от нее, перемена ее планов относительно дачи была делом решенным, и они расставались уже не на месяц, а на несколько дней.
Наступили сумерки, и луна медленно всходила над горизонтом, когда Рейнгольд вернулся к себе домой. Он жил довольно далеко от Бьянконы, в менее населенной части города. В гостиной он нашел капитана, видимо, только что прочитавшего строгую нотацию своему слуге, так как Иона стоял перед ним с весьма сокрушенным видом, к которому примешивалось выражение досады, но из уважения к своему господину он не смел выразить ее вслух.
– Что случилось? – спросил Рейнгольд.
– Заседание инквизиции, – сердито ответил Гуго. – Уже целые годы я тщетно тружусь над воспитанием этого закоренелого грешника и неисправимого женоненавистника, но на него не действуют ни назидания, ни примеры… Иона, ты сейчас же отправишься наверх к хозяйке, попросишь у нее прощения и дашь мне слово впредь быть любезнее с ней. Кругом… марш! Ничего не поделаешь, придется отправить его на «Эллиду», – продолжал он, обращаясь к брату, после того как Иона вышел из комнаты. – Там ведь судовая кошка – единственное существо женского пола, и с нею Иона, надеюсь, поладит.
Рейнгольд бросился в кресло.
– Ах, если бы я обладал твоим неистощимым юмором и твоей счастливой способностью легко смотреть на все в жизни. Я никогда не был способен на это.
– Нет, характерной для тебя всегда была элегия, – согласился капитан, – и ты, мне кажется, никогда не считал меня равным себе, потому что я не мог романтически уноситься в заоблачные выси и постигать всю глубину идеалов, как свойственно твоей артистической натуре. Мы, моряки, всегда скользим по поверхности, а если буря иногда и взбаламутит пучину, нам это нипочем, мы все равно останемся наверху.
– Совершенно справедливо, – мрачно отозвался Рейнгольд. – И оставайся на своей ясной, озаренной солнечным светом поверхности. Верь мне, Гуго, что на глубине, где ищут сокровища, – лишь ил и грязь, а на заоблачных высях, куда стремятся в грезах о золотом солнце, дует холодный, леденящий ветер. Поверь мне, я испытал и то, и другое.
Гуго пытливо посмотрел на брата, который полулежал в кресле с устало откинутой головой, между тем как его мрачный взор скользил по окрестности и наконец остановился на слабо освещенной линии горизонта, где угасал последний солнечный луч.
– Послушай, Рейнгольд, ты мне очень не нравишься. После многих лет разлуки я приезжаю повидать своего брата, имя которого прогремело повсюду, которого судьба наградила всем, что только может она дать человеку. Найдя тебя на вершине славы и счастья, я полагал увидеть тебя совсем другим.
– Каким же именно? – спросил Рейнгольд, не поднимая головы от спинки кресла и не отрывая взора от вечернего неба.
– Не знаю, – серьезно ответил капитан, – но уверен, что я не мог бы выдержать и две недели той жизни, которую ты ведешь уже в течение нескольких лет. Этот вихрь удовольствий и ни минуты душевного покоя, эти постоянные переходы от дикого возбуждения к смертельной усталости слишком чужды моей натуре. Тебе же следует обуздать свою.
Рейнгольд сделал нетерпеливое движение.
– Глупости! Я давно привык к этому, да и… ты ничего не понимаешь, Гуго!
– Возможно! По крайней мере я еще не нуждаюсь в забвении.
Рейнгольд вскочил и устремил гневный взор на брата, попытавшегося заглянуть в тайники его души. Но тот, нисколько не смутившись, продолжал:
– Разве изо дня в день ты не гоняешься за забвением, не ищешь его повсюду… и не находишь? Оставь эту жизнь… прошу тебя! Ты губишь себя и нравственно, и физически; ты не выдержишь в конце концов и занеможешь.
– С каких это пор жизнерадостный капитан «Эллиды» превратился в проповедника? – насмешливо произнес Рейнгольд. – Кто бы мог предположить, что ты будешь читать мне наставления? Но не трудись над моим обращением, Гуго, я раз и навсегда отрекся от благочестивых идей юношеских лет.
Капитан молчал. В последних словах Рейнгольда звучала обидная насмешка, с помощью которой он умел, когда хотел, становиться неприступным. При этом всякая попытка повлиять на него делалась невозможной, всякие юношеские воспоминания звучали диссонансом, и теплые отношения братьев становились натянутыми и отчужденными. Гуго и теперь не пытался ничего изменить, зная, что это будет напрасно. Схватив со стола книгу, он отвернулся и стал ее перелистывать.
– Ведь я еще не слышал от тебя ни слова о моих произведениях, – снова начал Рейнгольд после минутной паузы. – Ты был здесь на моих операх, как ты находишь их?
– Я не знаток в музыке, – уклончиво ответил Гуго.
– Я знаю и тем более дорожу твоим мнением, что это мнение беспристрастной и проницательной публики. Как ты находишь мою музыку?
Капитан бросил книгу на стол.
– Она гениальна и…
Он запнулся.
– И?
– И необузданна, как ты сам. Ни в тебе, ни в твоей музыке нет чувства меры.
– Убийственная критика! – не то насмешливо, не то изумленно заметил Рейнгольд. – Хорошо, что я слышу ее с глазу на глаз, в кругу моих поклонников ты заслужил бы порицание. Следовательно, ты все же не отказываешь мне в гениальности?
– Да, там, где слышен ты сам, – с величайшей убежденностью ответил Гуго, – а значит – довольно редко. Чаще преобладает тот чуждый элемент, который дал направление твоему таланту и до сих пор еще господствует над ним. Ничего не поделаешь, Рейнгольд, это влияние, которому ты подчинился с первых же шагов и которым восторгаются повсюду, не было благотворно для тебя как для артиста. Без него ты, может быть, был бы не так знаменит, но безусловно более велик.
– Конечно, Беатриче совершенно права, считая тебя своим непримиримым врагом, – с непритворной горечью заметил Рейнгольд. – Правда, она предполагает в тебе только личную неприязнь. Для нее будет неожиданностью, что ты придаешь такое отрицательное значение ее артистическому влиянию.
Гуго пожал плечами.
– Она заставила тебя совершенно проникнуться итальянщиной. Правда, ты бушуешь там, где другие забавляются, но тем не менее… Почему ты не творишь, как немец? Впрочем, что я говорю? Ты навсегда отвернулся от родины и от всего, что связано с нею.
Рейнгольд оперся головой на руку.
– Ну что ж… навсегда!
– В твоих словах слышится тоска, – возразил капитан, устремив пристальный взгляд на брата.
Рейнгольд мрачно взглянул на него.
– С чего ты взял? Не думаешь ли ты, что я тоскую по старым цепям, потому что не нашел грезившегося мне счастья на свободе? Если я и сделал попытку сблизиться, то…
– Ах, так! Ты пытался сблизиться? Со своей женой?
– С Эллой? – переспросил Рейнгольд с выражением презрительного сострадания, которое всегда появлялось на его лице, как только он заговаривал о своей жене. – К чему это могло привести? Тебе известно, как я ушел оттуда, произошел совершенный разрыв с ее родителями, и такое ограниченное и зависимое существо, как Элла, разумеется, присоединилось к их обвинительному приговору. Если между нами и без того лежала широкая пропасть, то теперь, после всего случившегося, она неизмерима. Нет, об этом не могло быть и речи! Но я хотел лишь узнать о своем ребенке: невыносимо знать, что мальчик далеко, что я не могу его видеть. У меня нет даже его портрета… Я жаждал вести о нем и потому избрал кратчайший путь – написал его матери.
– Ну и что же? – нетерпеливо спросил Гуго.
Рейнгольд горько усмехнулся.
– Ну, я мог бы избавить себя от этого унижения. Ответа не было… что, впрочем, было достаточно красноречивом ответом. Но я непременно хотел знать, что с ребенком; я предположил возможность какого-нибудь недоразумения – письмо могло затеряться, не дойти по адресу, словом, все то, во что верят в подобных случаях; написал второе и… получил обратно нераспечатанным. – Он в бешенстве сжал кулаки. – Нераспечатанным!.. И это мне, мне! Это дело дядюшкиных рук, нет никакого сомнения! Элла не посмела бы так поступить со мной.
– Ты думаешь? – иронически спросил Гуго. – Так ты совершенно не знаешь своей жены. Значит, она «посмела», потому что никто, кроме нее, не осмелился бы сделать это – ведь ее родители умерли уже несколько лет тому назад.
Рейнгольд быстро обернулся к нему.
– Откуда ты знаешь? Разве ты не прервал своих отношений с Г.?
– Нет, – спокойно ответил капитан, – тебе нетрудно понять, что настроенность всей семьи против тебя отчасти отразилась и на мне. Покинув Г. через несколько дней после тебя, я уже не приезжал туда более, но до сих пор состою в переписке с бывшим бухгалтером фирмы «Альмбах и Компания», к которому перешли все торговые дела дяди. От него-то я и узнал обо всем.
– И ты говоришь мне это только теперь, почти через месяц после своего приезда! – вспылил Рейнгольд.
– Само собой понятно, что я не хотел касаться предмета, которого ты, по-видимому, намеренно избегал, – холодно возразил Гуго.
Рейнгольд взволнованно зашагал по комнате и наконец спросил:
– Так родители умерли? А Элла и ребенок?
– Относительно них тебе нечего беспокоиться: дядя оставил далеко не маленькое состояние – много больше, чем могли предполагать.
– Я знал, что он был гораздо богаче, чем считалось, – быстро сказал Рейнгольд, – и эта уверенность развязала мне руки при моем отъезде. Жена и ребенок не нуждались во мне, они были обеспечены и ограждены от случайностей судьбы и в мое отсутствие. Но где они теперь? Все еще в Г.?
– Консул Эрлау стал опекуном мальчика, – коротко и сухо ответил Гуго. – По-видимому, он принял самое живое участие в молодой и совершенно одинокой женщине, потому что тотчас по окончании траура она переселилась с ребенком в его дом. Полгода назад они оба жили там, более поздних известий у меня нет.
– Так! – задумчиво протянул Рейнгольд. – Но не понимаю, как может Элла с ее воспитанием и необщительностью жить в аристократическом доме Эрлау? Правда, для нее могли отделать две-три дальние комнаты, откуда она никогда не выходит, занимая, несмотря на свое богатство, положение приживалки. Она не может подняться выше такого уровня. Если бы не это обстоятельство, я многое, все вынес бы… ради ребенка.
Он подошел к окну, распахнул его и высунулся далеко наружу. В душную комнату повеяло вечерней прохладой. Теперь там наступило долгое молчание, так как у капитана, по-видимому, тоже не было ни малейшего желания продолжать разговор; через некоторое время он встал и произнес:
– Наш отъезд назначен на завтра утром, нам нужно пораньше встать. Покойной ночи, Рейнгольд!
– Покойной ночи! – ответил тот, не оборачиваясь.
Гуго вышел.
– Хотелось бы мне, чтобы эта Цирцея Беатриче видела его в такие минуты! – пробормотал он, захлопнув за собой дверь. – Вы победили, синьора, и завладели им, как своей неотъемлемой собственностью… но счастья вы ему не дали.
В продолжение нескольких минут Рейнгольд неподвижно стоял у окна, затем выпрямился и направился в свой кабинет. Для этого ему нужно было пройти целый ряд комнат. Его квартира, занимавшая весь нижний этаж большой виллы, отличалась менее шикарным, чем у синьоры Бьянконы, но зато более ценным убранством: произведения искусства, украшавшие комнаты Альмбаха, намного превосходили своей стоимостью всю ту роскошь, которая царила в квартире примадонны. На стенах висели картины, в оконных нишах стояли статуи, ценность которых определялась тысячами; здесь были также великолепные копии с лучших художественных произведений Италии. Повсюду взор ласкали вазы, гравюры, художественные безделушки, которые сами по себе могли составить полное украшение гостиной, а здесь, в изобилии рассеянные повсюду, служили только дополнением убранства. Такое богатое собрание прекрасных произведений искусства было возможно лишь для такого человека, как Рейнгольд, который обладал изысканным вкусом и к которому вместе со славой обильным потоком лилось золото.
Посреди кабинета стоял роскошный рояль – подарок восторженных почитателей, пожелавших преподнести ему вещественный знак своей благодарности за доставленное им наслаждение. На письменном столе лежала груда визитных карточек и писем, авторы которых были аристократами по уму и происхождению, тем не менее они были небрежно сдвинуты в сторону, как будто тот, кому они адресовались, не придавал им ни малейшего значения. Против балконной двери на стене висел большой портрет синьоры Бьянконы во весь рост кисти знаменитого художника и поразительно похожий. Примадонна была изображена в костюме одной из своих коронных ролей в опере Рейнгольда, исполнением которой она не только прославила ее, но и сама стяжала славу первоклассной артистки. Художник воплотил в портрете все очарование, всю прелесть оригинала. Красавица стояла, с неподражаемой грацией полуобернувшись к роялю, и ее темные глаза, как живые, смотрели на человека, которого давно бесповоротно приковали к себе; она как бы не желала даже здесь, в святилище его творчества, оставить его одного.
Рейнгольд сел за рояль и начал импровизировать. Кабинет не был освещен, и только свет луны широким потоком лился через окно и стеклянные двери балкона. Из-под пальцев пианиста неслось море звуков, бушевавших, словно в бурю грозные валы, то вздымающиеся, как горы, то низвергающиеся в бездну. Страстная, пламенная, упоительная мелодия лилась и вдруг разом оборвалась резким диссонансом. Это была музыка, благодаря которой Рейнгольд стал настоящим властителем умов. Она увлекала за собой, потому, может быть, что пробуждала тот демонический элемент, который таится в душе каждого смертного и присутствие которого всякий ощущает в себе со страхом и сладким трепетом. В этих мелодиях звучали бешеная погоня за наслаждением, резкие переходы от лихорадочного возбуждения к смертельной усталости, стремление к забвению, которого вечно ищут и не находят, и в то же время что-то еще, могучее, вечное, что не имеет ничего общего с демоническими страстями, постоянно борется с ними, побеждает и все же в конце концов покоряется им…
В саду благоухали цветы апельсиновых деревьев, и их аромат лился в кабинет через открытые двери балкона. Вечный город, озаренный лунным светом, был полон бесконечной красоты и покоя. Даль исчезала в голубоватом тумане. Внизу, среди цветущих деревьев, мечтательно журчал фонтан. Лунный свет отражался в падающих каплях воды и ярко озарял комнату; в его лучах красавица-примадонна на портрете в широкой золотой раме казалась живой и не спускала глаз с человека, нахмуренное лицо которого и здесь, среди всей этой красоты, оставалось по-прежнему мрачным.
Долгие годы отделяли ту длинную северную зимнюю ночь, когда композитор создавал свое первое произведение, от этой благоухающей южной ночи. «Знаменитый Ринальдо» бесконечно варьировал главную тему своей новой оперы. Прошедшие годы отразились на нем, как и многое другое, что казалось более тяжким бременем. Но в эти минуты все было забыто. Медленно оживали в памяти давно минувшие дни, давно поблекшие образы: маленький павильон в саду со старомодной мебелью и жалкими виноградными побегами над окном; унылый клочок земли с несколькими деревьями и кустами, окруженный высокими тюремными стенами; тесный, мрачный дом и ненавистная контора… Тусклые, бесцветные образы, но они стояли перед глазами Рейнгольда, а из-за них смотрели на него голубые глаза ребенка, которые улыбались отцу только там и взгляда которых он тщетно жаждал здесь, под лазурным небом чужбины.
Рейнгольд так часто видел их на лице сына и один только раз еще, где же еще? Воспоминание об этом почти исчезло; всего только раз, и то лишь на мгновение, они взглянули на него и тотчас опустились, всего раз в течение многих лет. Но эти глаза, только эти грезились ему, и им навстречу лилась из хаоса звуков чарующая мелодия. Она говорила о невыразимой тоске и боли, о том, чего не могли высказать уста, и словно перебрасывала мост к далекому прошлому. Гений разбил оковы, давившие и угнетавшие его, Рейнгольд был на высоте, о которой мечтал. Все, что может дать жизнь, – счастье, слава, любовь – досталось ему в удел, и вот… Снова неслась буря звуков, страстных, вакхических, и снова сквозь них пробивалась все та же мелодия со своей трогательной скорбью, с неутолимой тоской.








