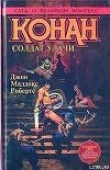Текст книги "Свежее сено"
Автор книги: Эля Каган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Пусть все радуются

В субботу, когда он не работает, старый Бере, он все же не может усидеть дома и уходит осматривать поля. Он ходит, а в голове у него субботние мысли. В будни он о другом думает.
Субботняя мысль: вся жизнь произрастает из земли. Мы питаемся ее соками. Если бы все люди обрабатывали землю, тогда всем известно было бы, откуда жизнь, тогда, может быть, знали бы, как нужно жить, и было бы тогда хорошо на свете, и не было бы никакой опасности войны.
И бывает, что, блуждая так по полям, он встречает дочь свою с Ерошкой, с комсомольцем из деревни. Близко подойти к ним старику не подобает, но он издали следит за ними сердитыми отцовскими глазами.
А они притворяются, будто не видят его, сворачивают в сторону, и старику видны уже лишь спины их. У Ерошки спина широкая, у дочки узенькие плечи.
Не нравятся старику эти встречи с Ерошкой. Рассказывает он об этом старухе. Не нравится это и старухе. Выговаривает она дочке. А дочка высмеивает своих стариков перед Ерошкой. Нравится это Ерошке, и он смеется.
Однажды приходит Ерошка и передает такую новость:
– Наша деревня хочет вступить в колхоз. Мы видим, что работаете вы неплохо. И нам хочется, чтобы наше было вашим и ваше – нашим. А машины, можно сказать, мы будем покупать вместе.
И реб Бере теперь ходит по полям, ходит и думает, что с хозяйственной точки зрения это, конечно, выгодно – чем больше хозяйство, тем лучше. «Евреи, – думает он, – такой древний народ, так много мытарились, а теперь вот, может, и кончатся все мучения. Их сыновья будут брать наших дочерей, и не надо будет больше думать „еврей – не еврей“, и заботиться будут только о работе».
Кто знает… может быть, это не так-то хорошо, но такова интернациональная линия, будут вариться все в одном котле, и еще будут гордиться, что происходят из единой интернациональной семьи.
«Со всеми, со всеми это произойдет», – думает старик, и тогда уж это не его личное дело, что дочь его идет за «нееврея».
И он доволен, старик, что теперь это уже не его забота.
И в ближайшую субботу, когда он вышел в поле развивать свои субботние мысли, он, увидев свою дочь с Ерошкой, надвинул козырек и притворился, будто ничего не видит.
Не его это забота, пусть все заботятся.
А если нужно радоваться, пусть все радуются.
От весны до осени

1
Сердца у деревьев из древесины, а у иных вместо сердца – дупло. Но и они знают, что такое весна. И они машут тысячами зеленых рук, приветствуя ее приход.
А у людей сердца из плоти, а рук у них только две. Поэтому они приветствуют весну всем существом, каждой кровинкой, сами иногда не сознавая, что за новый поток бурлит в них с приходом весны.
Проникла весна и в слесарную мастерскую. Солнце рассыпает видимые и невидимые лучи, и эти невидимые лучи пронизывают Файтеля, у которого глаза как бы ввинчены в металлическое лицо. Но сердце у Файтеля тоже из плоти, и в нем, в этом сердце, тоже что-то согрелось, что-то разлилось.
Что он знает, Файтель Блоз? Он работает у огня, на большой жаре. Из тысяч отверстий, из тысяч пор течет пот по телу. Может быть, поэтому и внутри что-то разливается. Особенно копаться в своей душе ему неохота. Зачем? Что, кроме копоти, найдешь на сердце!
Но, помимо желания, – он даже не думал об этом – у него раскрылись шире глаза, и он заметил ее, Броньку, новую ученицу и единственную женщину в мастерской.
Он глянул – так себе. Девушка-слесарь. Это ему нравится. Он видел как-то девушку, гонявшую голубей. И это ему тоже понравилось. Ему нравится, когда девушка делает мужскую работу. Но только ли это ему нравится в Броньке?.. Больше копаться в себе он не хочет. Вдруг под копотью и сердце обнаружится.
А Бронька – девушка хорошая. Как все голубоглазые, которые одной рукой отталкивают, а обеими притягивают, которые в шутку сердятся и всерьез целуют.
И Файтель Блоз задумывается. Какая-то метелочка внутри сметает накипь, и он ощущает сердце.
Но Файтель Блоз надувается, как мехи, и молчит. Кому он может об этом рассказать? Того и гляди посоветуют полечиться касторкой.
А придушенный огонь потлеет, потлеет и потухнет.
И никто не узнает, что на сердце, и никто не догадается.
2
Солнечные лучи не проникают в мастерскую, но жара в ней ужасная. И после работы недурно отдохнуть.
Файтель тоже не прочь пройтись и, прогуливаясь, собрать свои разрозненные мысли. Никогда он в размышлениях не нуждался, но нынешней весной… Обычно Файтель смотрел пристально только на металл, теперь он разглядывает также человеческие лица – у всех ли лица меняются, как у него в последнее время.
Вдруг будто искра попала ему в глаз, и стремительная волна вскипевшей крови обожгла ему все тело. Он увидел Броньку об руку с двумя подмастерьями из его мастерской – с Анцелем и Эйзером. Он быстро прошел мимо, но какая-то непонятная сила заставила его повернуть и пойти следом за ними.
Так и влечет его…
На углу ребята распрощались с Бронькой, и, оставшись одна, она обернулась, и они столкнулись лицом к лицу.
Почему она улыбается такой странной улыбкой?
Она, значит, заметила его, когда он пробежал мимо, и ей, должно быть, нравится, что он, такой огромный медведь, следит за ней, глядит на нее телячьими глазами.
Но вдруг она сухо обращается к нему:
– Ну, чего? Чего увязался? Куда идешь?
Обиженный таким вопросом (что он – братишка ее маленький?), он ответил ей:
– Куда мне нужно, туда и иду.
А она ему:
– Так-то ты с барышней разговариваешь? Ничего себе кавалер. Тебе у Анцеля и Эйзера поучиться надо….
Это его совершенно вывело из себя, и он неожиданно для самого себя прорычал:
– Ты с кем же меня равняешь? Это мне у них учиться? Да ведь это щенки. Они только случая ищут. А я…
– А ты… А ты большой дурень. Дурачок ты! – отрезала она и тут же повернулась к нему спиной, оставив его в оцепенении.
3
Зло подшутила над Файтелем весна. Теперь Анцель и Эйзер посмеиваются над ним. Броньку он в этом не обвиняет. Но они ему досаждают. То они советуют не так пристально смотреть на огонь – ведь это не Бронька, то они ему говорят: «Ну чего на Броньку пялишь глаза – это ведь не пламя». A v Броньки в это время щеки как раз огнем пылают, но она улыбается и молчит.
Нет! Бронька не может издеваться над ним, над Файтелем… Да и они, Анцель и Эйзер, хотя не такие уж добряки, но и не плохие ребята. Они просто мало что понимают.
Кузнец Хоня уже много весен прожил, и одна или несколько из них и его за душу брали. Он старик, понимающий все или думающий, что понимает все. Стыдно ведь прожить жизнь и вдруг открыть, что ничего не понимаешь. Старики вообще добряки, потому что они вволю вкусили горя, или злюки, потому что они в жизни добра не видали. Но старый Хоня добряк, и ему Файтель может во всем довериться, ему он может открыть душу.
Хоня сердится на ребят:
– Как им не стыдно грязными сапогами топтать самое чистое, самое красивое!
И говорит он душевным, летним голосом, согревающим и как бы светящимся. Но если кто и прислушивается к нему, то это Бронька. И она иногда сочувствует Файтелю. Но показывать это она не хочет. Она все же обижена на него.
А ребята?.. Те не понимают даже, что такое летний голос.
4
Пришла осень. Желтые, увядшие листья, умирая, падали на землю, и земля превратилась в огромное кладбище непохороненных листьев.
В слесарной мастерской неожиданно беда стряслась: внезапно на работе упал старый Хоня и тут же скончался.
Анцель и Эйзер продолжали перестукиваться молотами, будто ничего не произошло.
Неистовый крик Файтеля прервал на миг их работу. Но их ничего не должно волновать. Мало того: они еще стараются показать, что их это не трогает, и они еще пытаются острить.
Эйзер спрашивает:
– Что? Скончался старый пожиратель кур?
А Анцель, кивая на Файтеля:
– Гляди, как он вопит!
Файтель первый раз в жизни кричал. Словно фонтан слов забил в нем. Он кричал, что они звери, а не люди, что они бессердечные… Он долго еще кричал бы… Но он обернулся и вдруг увидел плачущую Броньку.
О, она добрая, Бронька.
Теперь она плачет. Она тоже возмущена. Да кто не возмутился бы. Человек умер на работе, а они, эти двое, как ни в чем не бывало продолжают работать…
Она плачет. И она даже подошла и положила руку на его, Файтеля, плечо… и еще горше заплакала.
И Файтель вдруг почувствовал себя маленьким обиженным мальчиком. Ему что-то подарили – он и смеется и плачет.
Сердце на веслах
Посвящается Мейше-Хоне

Отплытие
Деревянные гвозди, если их подогреть немного, легче лезут в подошву. Работа, подогретая песней, легче подвигается.
Сапожная братва вбивает подогретые гвозди в подошвы, усердно натирает воском каблуки и поет – кто во весь голос, а кто мурлычет песенку, сочиненную Мейшке Колодкиным и напечатанную в стенгазете. Песня посвящена женскому дню. В ней говорится только о женщинах:
Нет больше слабых, нет и главных
Среди мужчин и женщин.
И женщины – средь равноправных,
Лишь номером поменьше.
Наш лозунг – женщинам дорогу.
Всех жен – на производство.
Имеем в женах мы подмогу,
А холостым быть – скотство.
Последние две строчки глубоко запали в сердце Пачуры. Генех Пачура – сапожник, как все, но жены у него нет. А думает он, что жена все-таки нужна.
«Пара сапог стоит двенадцать рублей, а какая цена одному? Один сапог не стоит деревянного гвоздя. Сапоги должны быть в паре».
И Пачура в последнее время стал заглядываться на девушек. Первым заметил это мастер, и он ему посоветовал:
– Жену надо иметь полненькую, на два номера больше, с запасом на усушку. Возьмешь сразу тесный сапог – все время жать будет.
Пачура недолго выбирал. Уборщица Сташка – кругленькая девушка, зачем же время тянуть, словно дратву?
И он объяснился ей в любви очень просто:
– Послушай, Сташка, ухажор у тебя есть?
– Есть, – пожеманилась Сташка.
– Ухажор у тебя есть? Холера у тебя есть! Давай-ка пройдемся, Сташка, в загс.
В мастерской сразу узнали про новую парочку. Мейшке Колодкин тут же сочинил песенку.
Пачура смотрит женихом, и все подтрунивают над Пачурой. Глаза у него блестят, как начищенные ваксой сапоги, а волосы аккуратно расчесаны на пробор.
Гуляет Пачура в саду со Сташкой, держа ее крепко под руку. Идут они и смотрят на луну, и Пачура восхищается:
– Ну и луна сегодня!
И луна действительно хороша. Она сегодня румяная и полная, как Сташка.
Они увлеклись разговором и не заметили даже, как черные тучи закрыли невесту-луну черным балдахином.
Они присели на скамейку, все друг другу высказали, и больше говорить не о чем. Но как же все-таки сидеть и молчать? Мимо люди проходят, и все разговаривают.
Пачура вспомнил о луне.
– Ну и луна сегодня!
Прохожие, услышавшие слова Пачуры, посмотрели на него с удивлением. Сташка глянула вверх. На небе черные тучи. Никакой луны. А Сташке и так было хорошо.
Сердце на веслах
До того как Сташка стала женой Пачуры, он часто подкрадывался к ней на работе и щекотал ее.
Она громко смеялась:
– А мне нипочем!
Теперь стоит ему только подойти к ней, как она начинает дурить. Что ей нужно, Сташке? Ей хочется к матери пойти.
– А кто тебя не пускает?
Сташка давно уже жалуется. Она говорит, что ей нельзя пойти к матери, она не может показаться ей на глаза. Мать у нее грамотная, богомольная. Не на что было жить, и она отдала Сташку в мастерскую. Но теперь, когда Пачура расписался с ее дочерью, а свадьбы не было, так она передала через одну женщину:
– Скажите ей, что ее золотко не комсомолец, и он мог бы настоящую свадьбу устроить, а до тех пор пусть и не показывается мне на глаза. То же говорит и брат мой – раввин…
Сташка была привязана к своей матери.
Однако свадьбы Сташка добиться не могла. Пачура не хотел, чтобы была свадьба. Ребята будут смеяться, в стенгазету попадешь.
Но все же Пачура, как подошва, сначала был тверд, но стоило немножко размочить – и он становился гибким. А после женитьбы он был в руках у Сташки.
Отец Пачуры – Файтель Пузырь – с наслаждением бил подростка по мягкой части, бил, как выражался отец, на чем свет стоит, и Пачура удивлялся: нашли на чем свет поставить!
Пачура обязан был выполнять все беспрекословно. Может быть, поэтому Пачура вырос человеком без собственной воли. Теперь им управляли два весла, ворочая его то вправо, то влево. Одно весло – сапожный коллектив со стенной газетой, а другое – Сташка со своей матерью.
И вот однажды Сташка, которая была уже в декретном отпуске, завела с ним разговор:
– Если у меня родится мальчик, я обязательно совершу над ним обряд обрезания. Тут уж я не уступлю.
Когда Пачура заикнулся, что он не допустит обрезания, Сташка решительно сказала:
– Тогда я совсем не рожу…
После паузы Пачура нашелся:
– Но ты ведь, Сташка, еще можешь родить девочку!
Сташка вытерла глаза:
– Ну конечно…
Пачура задумался. А все-таки лучше ведь мальчик… Хотя нет, с такой путаницей… пусть уж лучше будет девочка.
В тот вечер, когда Сташка должна была родить, Пачуре невмоготу стало дома. Он ушел в клуб, сидел там, играл в домино и гадал – девочка или мальчик?
Придя домой, он рывком открыл дверь и выпалил:
– Мальчик или девочка?
– Мальчик! – буркнули ему в ответ. – Мальчик-куколка! Мальчик с двумя щечками.
На семейном совете было решено:
– Завтра, во вторник, мы устроим гулянку для коллектива, а затем, без шума, – обрезание…
Сташка налегла на свое весло, и Пачура сдался.
Веселые, радостные, пьем мы пиво
У Пачуры сегодня весело. Сапожная братва умеет веселиться. Душа у всех у них одна, одна общая душа,
Ребята кричат, поют:
Пиво —
На диво.
Пиво —
На диво,
Пиво —
Дивного разлива.
Яшка, представитель культкома, подготовил большую речь о новом быте, о маленьком Пачурике и еще, и еще.
Скрипач Бандура играет, и Мейшка Колодкин поет песню, сочиненную в честь маленького большеголового Пачурика:
Эх, Пачура, эх, Пачура,
Чура, чура, чура, чура!
У Пачуры губа не дура,
Чура, чура, чура, чура.
А сам Пачура ходит озабоченный. Ему предстоит еще заварушка – обрезание. И так как Бандура музыкант и к тому же родственник, то Пачура подходит к нему и шепчет ему на ухо. Он, Бандура, должен прийти на обрезание.
Бандура весь расплывается в улыбке и гнусавит:
– Приду, конечно, приду…
Утром, только Яшка из культкома открыл глаза, как сразу вспомнил, что речь-то свою он не сказал, забыл на радостях… Так разгулялся, что и про речь забыл…
Да… А главное-то забыли – подарки. Подарки маленькому Пачурику!
Придя в мастерскую, Яшка тут же поговорил с сапожниками, и все решили, что подарки – это не «срочный заказ», вчера не принесли – сегодня можно принести.
Когда Сташка пришла к своему дяде, раввину, звать его на обрезание, он спросил:
– А на свадьбу вы меня звали?
И бедной Сташке пришлось рассказывать с самого начала, так и так, мол, – свадьбы у нас не было. Муж мой, дай бог ему здоровья, заупрямился… Хотя он и не комсомолец…
– Что ж, раз вы делаете обрезание, – сказал он, – то совершите уже и свадебный обряд. Если не было свадьбы, зачем обрезание? Но вам хочется обрезание, значит, нужна и свадьба.
Когда она сказала, что Пачура не согласится, раввин заулыбался своей хитрой улыбкой.
– Прийти, я, конечно, приду, – сказал он Сташке, – почему же не прийти? Это богоугодное дело, обязательно приду…
Обрезание – свадьба – развод
Когда раввин и могель[2]2
Могель – совершающий обрезание.
[Закрыть] пришли, миньен[3]3
Миньен – 10 мужчин, обязательных при совершении обряда.
[Закрыть] был уже в сборе.
Пачура немедля поднес ребенка могелю:
– Режьте, раби!
Но могель о чем-то долго шептался с раввином. Наконец он обратился к Пачуре:
– Что за спешка такая, молодой человек, поздравляю вас, бог благословил вас наследником, многие лета здравствовать ему… Когда он родился? Покажите, пожалуйста, ксубу[4]4
Ксуба – свадебный договор.
[Закрыть].
– Какая ксуба, раби? При чем тут ксуба? Вы, ведь не на свадьбе. Вы ведь на обрезание приглашены.
– Да, – улыбается раввин хитро, – но нам нужно знать и о свадьбе, одно с другим связано…
– Какое там одно с другим, – говорит Пачура, – какое там связано.
Он еще многое наговорил бы, потому что наш брат-сапожник подобен сапогу – если уж начнет промокать, то промокает…
Но раввин неожиданно чихнул. Сильно запахло нюхательным табаком.
У Пачуры тоже в носу защекотало. Его красноречие иссякло.
Раввин наклонился к могелю и сказал ему что-то на ухо. Приговор был вынесен.
– До свадьбы нельзя производить обрезание. Необходимо поставить хупе[5]5
Хупе – балдахин, под который вводят новобрачных для совершения обряда бракосочетания.
[Закрыть],– сказал могель Пачуре.
Пачура все еще никак не мог понять, какое отношение имеет одно к другому. Он волновался:
– Вам, раби, говорят резать – режьте!
В комнате тихо… Слышно только, как Сташка всхлипывает. Потому что она, Сташка, на все готова, хоть сию минуту, и пусть там стенгазета пишет, что хочет.
Пачура стоял с окаменевшим лицом.
«Деревянный гвоздик, – думал он, – забивают двумя ударами: первый – посильнее, второй – послабее».
С ним, с Пачурой, то же произошло. Тоже два удара, но второй, нынешний, покрепче…
И у Пачуры вырвалось:
– Расставляйте палки, раби, только поскорей!..
Бандура тут же послал за балдахином и заулыбался от удовольствия.
Пачуру подтолкнули под балдахин, и вот уже раввин диктует:
– Гарей ат[6]6
Первые два слова из обращения жениха к невесте во время бракосочетания.
[Закрыть].
А Пачура, повторяя за ним слово в слово, тычет Сташке в руку серебряный полтинник и шепчет:
– Не потеряй только!..
– Есть какая-нибудь треснувшая тарелка? Бросайте ее, бейте!
Тарелка отзвенела… Но что это там еще за грохот?
Колотили в дверь. Яшка с ребятами тут как тут.
Мучительная тишина.
Сташка уставилась на маленького Пачурика и больше ничего не видит.
Бурю принесли с собой сапожники.
Яшка говорил словно топором рубил. Он говорил о мелкобуржуазности, о старом быте и еще, и еще, сильно налег Яшка на весло.
И Пачура закричал не своим голосом:
– Это она виновата, Сташка. Я был против обрезания… Это она, она настаивала!
И еще более повысив голос:
– Она, она! Все она! Я не хочу, Яшка, не хочу я жить с ней… Я не могу жить с ней.
Но Яшка не слушал, он все твердил, что Пачура виноват, что колодку вкладывают в башмак, а не башмак в колодку. Несознательный он, Пачура, элемент…
Пачура орал благим матом:
– Нет, нет! Не хочу! Я отказываюсь от нее…
А Яшка все твердил:
– Ты виноват! Ты! Ты!
Пачура порывисто подбежал к раввину:
– Послушайте, раби, пишите, раби, сейчас же развод.
Бандура покатывался со смеха:
– Обрезание – свадьба – развод…
Раввин упирался:
– Дайте завершить бракосочетание!..
– Потом, потом, – кричит Пачура, – прежде пишите развод.
Маем зеленым

1
Вот что передают о последней любовной истории Моньки Минкина.
Он шел с работы с Фейгеле Воробейчик и Тайбеле Голуб. Он говорил без умолку. А когда Монька Минкин говорит, то он в конце концов до чего-нибудь договаривается.
– Я безумно влюблен, – сказал он.
– В меня? – чирикнула Фейгеле.
– В меня? – проворковала Тайбеле.
– В обеих, – ответил Монька.
Фейгеле работает накладчицей в типографии. У нее зеркальные глаза. Когда вы смотрите в эти глаза, вы видите себя. А когда смотритесь в зеркало, перед вами возникает она, Фейгеле. Фейгеле – девушка что надо. У девушки должно быть круглое личико, – так оно у нее есть. В личике должны быть два круглых голубых глаза, – так они на месте. В глазах должны сверкать круглые смешинки, – так они сверкают. Словом, Фейгеле – девушка что надо.
И когда Монька приходит усталый с работы, ему приятно отдыхать вместе с ней.
Тайбеле – наборщица. И у нее, словно нарочно, все наоборот: у нее лицо продолговатое, с заостренным подбородком, с колкими глазами, и вся она такая ершистая, колкая, а своими остротами она хоть кого проймет.
Она Моньку отдохнувшего умаять может.
Моньке обе девушки нравятся. Они дополняют одна другую.
Само собой понятно, что ничего хорошего из этого не получилось. В первый раз они обе его целовали и сами по ошибке расцеловались.
Нетрудно догадаться, как дальше дело пошло.
Горячие поцелуи, поцелуи по привычке, поцелуи холодные, редкие поцелуи, поцелуи нехотя, размолвки, ссоры.
В конце концов диалог, придерживаясь начального стиля:
– Ах, как мне все безразлично.
– Даже я? – чирикнула Фейгеле.
– Даже я? – проворковала Тайбеле.
– Даже обе, – пробормотал Монька.
Лежал белый снег. Снег растаял. Плавают мутные облака.
Монька Минкин попыхивает трубкой, и мысли его растягиваются, курчавятся и расползаются, как облака, мутнеют и тают. Как ему это все надоело!
Трубка погасла, он достает щепотку табака, и тут из кармана вываливается какая-то скомканная бумажка. Он разглаживает ее, и лицо его светлеет.
Это, оказывается, вчерашняя записочка Пилинки, новой накладчицы. Она вчера забыла ее на столе в буфете. Он перечитывает записочку снова:
«Сонечка, дорогая! Сегодня самый лучший день в моей жизни! До сих пор жизнь моя двигалась, как часовая стрелка. Часы идут, но движения часовой стрелки не видно. Точно так же незаметно текла моя жизнь… Но сегодня у меня самый лучший день…»
Читая записку в первый раз, он на этом месте остановился. Он был уверен, что дальше речь пойдет о каком-нибудь парне, который ей подвернулся. Ничего более важного он, Монька Минкин, представить себе не мог. Но, читая теперь, он совершенно был ошарашен.
«Дорогая моя, – писала далее Пилинка, – ты даже не можешь себе представить! Сегодня я в первый раз пришла в типографию! Я работаю. Шумит машина, шуршит бумага… Словно шорох листьев на деревьях… словно шепот колосьев в поле… Совсем как в детстве».
Монька Минкин когда-то сам это чувствовал. Теперь он воспринимает только грохот железа…
Ему нужно серьезно взяться за свое изобретение. Нужно обязательно закончить работу. Нужно выбросить муть из головы, чтобы ничто не мешало ему заниматься делом.
Но вот Монька Минкин выходит из дома. Кто-то задел его зонтиком. Перед глазами испуганная девушка, и он слышит всего два слова:
– Ох, простите!
Но разве это слова? Это пение весенних птичек в вечернем воздухе, это ночные звуки скрипки в лодочке. Он отвечает «Спасибо!» – и очень рад своей шалости.
Чихнул он и вдруг слышит:
– Будьте здоровы! – Это, улыбаясь, пожелала ему молодая мать с ребенком на руках.
– Спасибо, спасибо и еще раз спасибо за хорошее пожелание и за милую улыбку.
Он испытывает теперь большое удовольствие от этих мелочей. Как хорошо! Как хорошо!
Первый дождь. Длинными водяными проводами соединились небо и земля, и кажется, будто небо притягивает к себе землю.
Монька Минкин на работе. Ему приятно, что он находится под крышей. Дождь усиливается, в цинкографии темнеет, но на душе у него светло.
Он шлифует клише. На клише выгравирован весенний пейзаж. И Монька чувствует, будто его осыпали цветами, – его изобретение почти готово.
В полдень прояснилось. Дождь, по своей старой привычке, лил, лил и вдруг перестал. Оборвались водяные провода. Земля снова отодвинулась. Небо ушло ввысь.
Монька, по своей старой привычке, придвинулся к девушкам, но тут же спохватился. Как это он забыл, что они все ему надоели, да еще как надоели. Надоело ему всегда помнить о них.
Но одна девушка его окликает:
– Глянь-ка, Моня, на эту новенькую. Она думает, должно быть, что пришла на гулянку. Приперлась в новом платье…
Монька всматривается. Да это же она, эта новенькая, забыла вчера записочку!
– Ха-ха-ха! – продолжает девушка. – Мы вчера сказали ей смочить форму, а она понесла ее под кран и давай лить воду.
Монька смотрит: красивое личико. Но она какая-то странная. Стоит недотрогой, как греческая скульптура или, проще сказать, как школьница старших классов. А подойдет кто-нибудь к ней, и она меняется в лице. Она виновато улыбается, пялит виноватые глаза и старательно прислушивается к тому, что ей говорят.
Когда от нее отходят, в ней снова появляется что-то от греческой богини, и в то же время она продолжает виновато улыбаться. Она еще больше теряется. Ей, этой маленькой, нужно приобрести другой, новый вид, но пока у нее и свой, прежний, неясен.
А тут, как назло, гурьбой надвигаются ученики-наборщики. Они взялись за руки и подступили вплотную к ней:
– Ах ты, душенька моя! – восклицает один, который посмелее.
Она не знает, как ей быть. Она пытается улыбнуться, но вместо улыбки получается какая-то гримаса.
И вот она уже окружена со всех сторон. Она, должно быть, чувствует себя как рыба, выброшенная на берег.
Подойти спросить ее – как-то неловко…
– А ну, кыш отсюда!
Эти слова вырвались с такой силой, словно они на пути своем запоры сорвали. О, Монька может прикрикнуть!
Ребят как не бывало. Монька подходит к ней. Глаза ее не то смеются, не то плачут. Но она улыбается неискривленной улыбкой.
Она, видать, благодарна ему. Он подает ей ее записочку:
– Вы вчера оставили на столе.
Как тонущее в реке солнце блестит иногда всеми цветами радуги, так заблестели, засияли вдруг глаза Пилинки.
Только бы они, как солнце, не зашли, пусть сияют они и сияют. Но она задернула белые занавески.
Почему же и он, Монька, опустил глаза? Может, он вглядывается в пол – не отражается ли в нем сияние ее глаз?!
Она его благодарит. Она подает ему руку. Ее зовут Пилинка.
Какая красивая рука у нее. Какие заостренные пальчики. Да и вся она такая красивая. Вряд ли он когда-нибудь видел такую красавицу. И даже булавочка, которая будто невзначай приколота к блузке, блестит каким-то особым блеском.
И Монька заговорил. А когда Монька говорит, то он до чего-нибудь договаривается. Нет, ему нельзя говорить. Необходимо прервать на полуслове. Ему нельзя затевать новой истории. Как они липнут к нему, эти истории! Они отрывают его от работы. Они не дают ему довести до конца изобретение.
– До свидания! – говорит он.
– Всего вам хорошего! – словно птички, сорвавшиеся с ветки, слетели у нее с губ эти слова.
По дороге у Моньки вдруг возникает странная мысль. Это, конечно, чепуха. Но ему кажется, что Пилинка нарочно оставила записочку на столе.
2
Записки мотыльками летят в президиум. Одна из них угодила в стакан воды для оратора и плавает, как утопающая бабочка.
Говорит заведующий типографией. У него длинные белые зубы, и слова вырываются, как будто из-под клавишей. Изнеженные, холеные слова, округлые звуки «р» и плоские «л».
Торжественный вечер. В зале горят огни. И – да простится мне банальное сравнение – огни горят и в сердцах, огни горят и в глазах, огоньками переливается колокольчик на столе, огоньки на пуговицах, на женских булавках, огоньки на полированных лысинах членов президиума.
От такого множества огней зал распален. И не взыщите, если Моня Минкин в президиуме вспотел, он потеет, и ничего с этим не поделаешь. Потому что, если ты додумался, как самим вырабатывать дешевую литографскую краску, не грех тебе и попотеть, принимая почет, оказываемый тебе твоими товарищами – рабочими.
Вот говорит лысый корректор. Он говорит как машина. Он столько «воды налил», что сам начал тонуть в своих словах. Он еле выбрался.
Слово получает товарищ Метер.
Монька знает его, этого тихого, скромного наборщика. Он не очень-то нравится ему, этот Метер, своим аристократизмом, который выражается главным образом в густых закрученных усах.
Монька никак не ожидал, что этот человечек вдруг станет говорить о нем. Это произвело на него такое впечатление, будто он услышал свое имя от прохожего в чужом холодном городе. И эта неожиданность вызвала в нем какое-то особое чувство к Метеру.
Метер говорит, язык у него свободно поворачивается и словно подталкивает каждое слово, которое вырывается сквозь редкие зубы со свистом. И тем не менее слова слабо доходят до слушателей, слова запутываются в густых усах.
Но Монька слышал все его слова. Каждое слово проникало в сердце и усаживалось там зрителем. И Монька чувствует, как эти чужие, но родные слова аплодируют у него внутри. Хлопают, хлопают, именно потому, что тихий Метер тоже заговорил о пользе изобретения товарища Минкина.
Когда Метер закончил свое выступление, он подошел к Моньке, и они крепко пожали друг другу руки.
Монька посмотрел в зал, заметил Пилинку. У нее глаза сегодня почему-то больше стали. У всех почему-то сегодня глаза стали больше. Да вон даже лампочки и те сегодня светят сильнее.
Чего они, собственно говоря, так светят сегодня, эти огоньки? Это они разливают светлую близость по всему залу.
Посмотрите только, как крепко пожимают друг другу руки Метер и Минкин, как стараются они друг другу выразить свое восхищение и свою благодарность.
Посмотрите, как печатники и наборщики, обычно насмешники, сегодня стали такими серьезными.
А накладчицы – с каким девичьим вдохновением глядели они. Моньке обидно даже, что он не может все эти улыбки и взгляды положить в карман и захватить их с собой домой.
Выходишь на улицу в первые весенние дни. Зеленый май. Светит солнце, лучи его пляшут по крышам. Травка лезет под ноги. Деревья распускаются.
А на работе в типографии никто не думает о деревьях с зелеными листочками. Каждый думает, как бы поскорее набрать свои строчки, потому что к утру должны быть готовы полосы.
Строки… Полосы… Набор… Шпоны… Петит…
И когда Монька Минкин из цинкографии, где он работает, зайдет во время перерыва в наборную, то он услышит, как говорят об изобретении. Нет! Не о его изобретении. Это уж кто-то другой что-то изобрел.
И на Моньку Минкина будут глядеть обычные насмешливые глаза, и высокий широкоплечий наборщик Клоц с жирным корпусом, который не прочь всегда набирать «жирный корпус», еще будет смеяться над ним:
– Говорят, что ты изобрел какую-то помаду…
Конечно, со стороны Моньки Минкина глупо, что он обижается, почему не говорят больше о нем, – вечно говорить об одном нельзя. Все проходит.
Вот пусть он выйдет во время перерыва на улицу, и он увидит…
Уже поздняя весна. И люди ходят, не замечая даже весеннего солнца, деревья распускаются – пусть себе распускаются.
Трава лезет под ноги – кого это трогает. Плюют на траву.
И на солнце не глядят, часто глядеть на солнце – ослепнуть можно.
И на луну нечего смотреть – будешь долго смотреть, и тебе покажется, что она слепая.
И теперь, когда он на улице встречает усатого Метера с той же торжественной улыбкой, которая была на его губах во время торжественного вечера, и тот говорит ему на ухо по-товарищески интимно: «Я собираюсь жениться», Монька Минкин преисполняется к нему такой благодарностью за то, что он сохранил для него торжественную улыбку.
Монька даже не знает, как выразить Метеру эту благодарность, но он чувствует, что он должен похвалить невесту, которую он даже не знает:
– Хорошая девушка! Очень хорошая!
И Монька чувствует, что он приобрел верного товарища.
А когда подходит Пилинка, эта новая накладчица, со свежей печатной краской на лице и говорит: «Я напишу заметку в стенную газету о вашем изобретении», то он, конечно, ей благодарен.
Он глядит на нее и видит, что она уже не так часто меняется в лице, что теперь на ее личике одно установившееся выражение. Она, должно быть, уже привыкла, уже сжилась с типографией.
Но какая она красивая, какие у нее красивые руки, какие заостренные пальчики, и даже булавочка, которая будто невзначай приколота к блузке, блестит каким-то особым блеском.