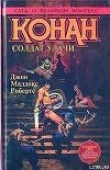Текст книги "Свежее сено"
Автор книги: Эля Каган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Большой пожар

В Минске сегодня всюду вывешены флаги. Народный праздник. Люди наводнили улицы, и все выглядят орденоносцами – Белоруссия награждена орденом Ленина. Сегодня, 11 июля, день освобождения республики от белополяков.
Ветер, прогуливаясь по красным знаменам, навевает воспоминания. И всегда, когда ветер будет развевать красные знамена, у нас будет о чем вспоминать.
В моем возрасте мечты занимают еще обычно место воспоминаний, но во всех анкетах мы (я и все находящиеся в моем возрасте) пишем, что мы в гражданской войне не участвовали. А ну-ка припомним, а может быть, все-таки участвовали.
Мы не боролись с винтовкой в руках, мы не метали гранат. Но мы были детьми, детьми бедных людей. Мы бегали босиком, и случалось, что мы босыми ногами ступали по крови.
Меня пугала смерть. Смерть – густая, черная, с огненными кругами, с блуждающими мерцающими точками. Я с замиранием сердца проваливаюсь в бездну, я хочу крикнуть и не могу…
Маленький худой карличек, с трепетом носящий свою маленькую жизнь. Не по-детски проходили мои ранние детские годы (до десяти лет), детские годы, которым надлежит быть светлыми, которые, по совести говоря, должны длиться, как долгий прекрасный сон, обрывки которого при пробуждении тут же забываются.
Ужас смерти. Потому что кругом бушевала война, люди убивали друг друга.
Мы – я и товарищ мой Буля – ужасно боялись смерти. Даже ада мы не так боялись. В аду ведь живут. Правда, в аду колотят, но разве тут нам мало попадает?
Отцы наши брали нас с собой в синагогу. После вечерней молитвы они останавливались на улице и спорили о войне, о Дарданеллах, Константинополе. Спорят они, спорят, и мне начинает казаться, что внутри у отца что-то оборвалось и он уже не может закрыть рот и будет так говорить и говорить без конца. Сердце у меня начинает щемить, щемить, и мне кажется, что вот-вот я упаду мертвым.
Дома одна и та же картина: соседка Менуха, одетая во все свои десять платьев и повязанная всеми своими платками (чтобы ее не обокрали), распростерла свои крылья, как орлица, над своим сыном Нохемом, спасая его от когтей смерти. Она изо всех сил старалась, чтобы ее единственного сына, единственное ее украшение в жизни, ее нежного Нохема, не забрали на войну. Она выкапывала для него яму в сенях, она замуровывала его в стенку, она прятала его на чердаках. Она защищала его, как защищает львица своих детенышей.
Менуха оберегает больных от смерти. Она ставит им банки и клизмы. Она и заговаривать умеет.
Я был уверен, что она и ее Нохем будут жить вечно, как солнце на небе, как луна и звезды. Потому что Менуха ест бобы из большого чугуна, пьет квас из большой бутыли, спит в чем ходит и никогда ничем не болеет, разве только рожей, когда кто-нибудь сглазит. Она всех, всех переживет.
А на лице ее – на лице этой вечно живущей Мафусаилки – я вдруг вижу смертельный ужас, когда она заговорит о своем сыне Нохеме. В складках ее верхнего черного платка кроется этот ужас. У меня захватывает дыхание, и я боюсь смотреть на тени, наступающие изо всех углов.
На улице я забываю об этом. Но вот солнце заходит, оно проваливается в реку и желтит там уху, и на меня нападает куриная слепота. Словно свечка, потухает мир перед моими глазами, и меня, маленькую щепочку, окутывает мрак, въедается в мои глаза. Будто все исчезло, а меня одного оставили на высокой крыше. Я тяжело дышу. Вдруг кто-то берет меня под руку и уводит домой. Это Буля.
Я долго не могу уснуть. Голова горит. Я все время переворачиваю подушку. Но подушка в конце концов вся нагревается, и тогда я кладу ее в ноги. Но все равно наплывают огненные круги с точечками.
Из всех родных один только двоюродный брат Беня догадывался, что со мной что-то неладно. Он всегда приносил мне игрушечных лошадок. Стараясь открыть секрет жизни, я вспарывал им животы.
Чем Беня занимается, я не знал. Но когда вспыхнула революция, его первое время не видно было. Потом он стал появляться в шинели, и в глазах его был какой-то холодный, нездешний блеск. Когда Беня исчезал, во дворе каждый раз поговаривали, что его уже на свете нет. Иные с усмешкой отвечали:
– И куда ему там деваться, на том свете? Ад не отапливается – дров нет, а в раю нечем кормиться.
А когда Беня появлялся, никто не верил в его долговечность. В его глазах был какой-то холодный, нездешний блеск. Не жилец этот человек. Он порхает как бабочка. Для него жизнь – игрушка, он пропадет ни за что, не жить ему на свете.
Особенно не нравилась его жизнь соседке Менухе – Мафусаилке.
– От него пахнет порохом, – говорила она, – и гнилыми листьями. Его уже десять раз обстреливали и десять раз избивали. Отчаянный! Нет, таким людям деньги взаймы, даже на самые высокие проценты, давать нельзя. Наследников, у кого бы можно было истребовать заем, у них не будет…
Когда вошли белополяки, Беня исчез.
К нам во двор пришел офицер. Ему очень хотелось узнать, кто бросил бомбу. Пусть ему покажут, кто бросил бомбу, иначе он тут же расстреляет Нохема, сына Менухи.
Но Менуха и ее сын Нохем будут жить вечно.
– Панове, – сказала она ему, – я фельдшерица, я ставлю банки и клизмы, пойдемте, я сейчас вам дам чего-нибудь успокоительного.
И она повела его к себе в конуру.
Офицер был сердитый, с налитыми кровью глазами и красным, цвета заходящего солнца, носом…
В один прекрасный день белополяки отступили из Минска. Они подожгли город. В тот день казалось, будто солнце заходит со всех сторон.
Я, крошечный каганец, стоял среди этого адского огня и ничуть не пугался.
Языки пламени, дым, снопы искр, – какая великолепная картина! То появляются львы, леопарды, тигры с огненными гривами, то вдруг поднимается огромная глыба дыма, утыканная множеством искр. Но в маленьком мозгу работает уже и крошечное сознание – вот пожарный извлек обгоревшего ребенка, и мое детское сердечко сжалось.
Я стою с открытым ртом. Женщины голосят с таким знанием дела, будто они специально готовились, репетировали. Но в этот монотонный плач вдруг врываются душераздирающие звуки. По этим воплям видно, какая тяга, какая неимоверная тяга у этих людей к жизни, а жизнь горит на их глазах. Мужчины онемели от хрипоты, у каждого в глазах весь пожар города, и, кажется, вот-вот у всех глаза забрызжут искрами и клубами вырвется дым изо рта.
Но вон уже кричит и моя мама.
Солнце заходит, и я ничего не вижу. Мать ведет меня за руку домой.
Я видел одни только огни, и ночью голову мне жгла подушка, будто она не перьями, а горячими углями наполнена была.
Мы, дети, на пожарище потом перестреливались камнями.
Воевали ребята Кацана против ребят Нени, а Кацан и Неня были на конях. Коней тогда очень легко было достать – они блуждали по всему городу.
На пожарище высыпали тогда и взрослые. Рыжая Неха нашла золотые часы, а кузнец Завл нашел живую индейку. Вокруг все еще дымилось, а индюшка затесалась куда-то и осталась живой.
Кое-кто из женщин в этот день попадал в ямы. Соседка Менуха, которая, как мне казалось, должна была жить вечно, которая так крепко цеплялась за жизнь своими черными ногтями, умерла нехорошей смертью, такой нехорошей смертью, что, вспоминая, я долго не мог прикоснуться к еде. А сын Менухи – Нохем, свет очей ее, умер через месяц от чахотки. Менуха заморила его в подполах.
Во дворе соседи говорили, что поляки убили двоюродного брата Беню. Целую роту комсомольцев зарезали поляки, и среди них и Беню.
Но через два дня на вспененном коне прилетел Беня. От него пахло порохом и махоркой. Шлем был прострелен и шинель продырявлена. Но сам он был цел и невредим, волос с головы не упал.
Я глядел на него с восхищением. Этот временный человек жив, а Мафусаилка, вечно живая, умерла.
Он тут же спросил у меня, где с оседка Менуха.
– Соседка Менуха, – ответил я ему, – утонула на пожаре в гадости.
Он сплюнул.
Хотя у него особого уважения не было к памяти соседки Менухи, он мобилизовал всех соседей. Он заставил их очистить все ямы, оставшиеся после пожара.
И тот, кто не ставил жизнь Бени ни в грош, и те, кому казалось, что Беня – блуждающая тень, мимолетная жизнь, теперь лишь почувствовали живую руку этого человека.
Беня уехал на броневике и оставил мне своего коня, чтобы я отвел его в «ТРАМОТ». Он сам посадил меня на коня.
В это время из дома послышался голос отца, он звал меня молиться, но я его не послушался.
Отец выбежал на улицу, а я сижу на коне.
Первый раз в жизни отец побоялся подойти ко мне.
Стегнув коня, я вдруг почувствовал такую свободу, как будто я из темницы вырвался.
Свежее сено
Юмореска

Иголочкин. Портной. Рабкор. Славный парень. А то, что он у меня сразу влюбится, так это не страшно. Случается же иногда с человеком несчастье.
Наинка Нейман. Она только что поступила в цех женского платья швейной фабрики. Она приехала из маленького местечка. Она молоденькая. Мне нужна молодая, потому что в старых швеек не влюбляются, потому что старые швейки все замужние, а если и нет, то это уже залежавшийся товар.
А она новенькая. Она довольна, что все на нее глядят. И те, кто глядят, тоже довольны. Дотронутся до нее рукой, и она, кажется, тоже довольна.
Один только Иголочкин не доволен. Зачем превращать девушку в игрушку. Он даже написал об этом заметку. Опровержения не поступило. Потому что это-таки правда.
И Иголочкин понимает, что нужно создать вокруг нее теплую, товарищескую атмосферу. Он понимает, что после работы нужно ее проводить домой.
Вот они идут вдвоем. Идут в ногу. Он правой, она правой. Он делает один шаг, она успевает сделать два маленьких шага. Он старается сменить ногу. Невольно наступает на ее ножку. Он говорит ей: «Простите». Она почему-то отвечает: «Спасибо».
Иголочкин – парень вежливый. Он предлагает:
– Знаете что, наступите мне тоже на ногу, и я вам тоже скажу «спасибо».
А она снова ему отвечает:
– Спасибо.
А ночь, конечно, прекрасная. Снег под ногами, и луна над головой. Воздух весь напоен лунным бальзамом, а земля вся залита снежным молоком. Молоко и бальзам. Прелесть!
Иголочкин вдруг чувствует приятный аромат. И аромат этот исходит от головки Наинки. Впору носом уткнуться в ее волосы.
Непонятно, почему ему так нравится этот запах. Может быть, потому, что и он из маленького местечка и спал он всегда на сене… Теперь зима, и он вдруг почувствовал что-то летнее, что-то в нем словно зазеленело, расцвело.
А фантазировать можно сколько угодно и при первой встрече. И вот он представляет себе, будто он ей пишет письмо:
«Выслушав резолюцию о ваших волосах, которые пахнут свежим сеном, я решил предложить вам выйти за меня замуж!»
«Черт знает что! – спохватывается он. – Так пишут только протоколы на собраниях!»
– Эй, берегись!
Громкий крик извозчика прерывает его мысли. Он так задумался, что чуть не угодил под сани.
– Гей, гэй! – кричит извозчик.
«Гэй[1]1
Гэй – по-еврейски – сено.
[Закрыть], – думает Иголочкин, – свежее сено».
На фабрике все уже знают, что у Наинки фамилия будет Иголочкина. Иные удивляются: что он в ней такое нашел? Однако, когда Иголочкин не видит, все считают своим долгом погладить ее.
Но стоит Иголочкину показаться, и у всех руки заняты то ли выворачиванием кармана на левую сторону, то ли, наоборот, водворением его на место, как подобает. Потому что на фабрике все уже знают, что фамилия Наинки скоро будет Иголочкина.
Редактор отдела «Рабочая жизнь» получил заметку Иголочкина. Заметка – о срывающих работу бузотерах. В ней автор жалуется главным образом на плохое обращение с женщиной-работницей.
Редактор замечает, что почерк у рабкора почему-то крупнее, чем обычно, и ломаный, И он понимает, что настроение у автора заметки не блестящее. Он выражает ему свое сочувствие тем, что крупными буквами делает надпись: «Печатать».
Долгое время совсем не поступает заметок от Иголочкина, и редактор понимает, что ему теперь не до них. Но вот вдруг стихотворение за подписью Иголочкина.
«Ну, – решает редактор, – значит, дело на мази».
Гуляет Иголочкин с Наинкой. Она, конечно, девушка как все девушки. Но что же он все-таки в ней нашел? Должно же быть что-нибудь такое? Ах да, ее волосы. Она привязала его к себе своими волосами.
Прекрасные зимние ночи. Одна в одну. Луна – над головой, и снег – под ногами.
Наинка и Иголочкин не наступают больше друг другу на ноги. Пусть портняжная молодежь знает, что так бывает только при первых встречах. Теперь дружбу завязывать можно руками.
А прощаясь, ему приходит на ум: нельзя ли ее поцеловать?
Как на беду, тут подвернулся редактор «Рабочей жизни» со своей гладкой бумажной улыбочкой. Рабкор Иголочкин растерялся перед своим редактором…
Но он быстро нашелся.
– Ну, счастливого тебе пути, дорогая! – воскликнул Иголочкин. – Привет тете Лее.
Пусть он, редактор «Рабочей жизни», слышит, пусть слышит, что Наинка – его, Иголочкина, родственница. А с родственницей почему бы и не поцеловаться?
Редактор – человек понятливый, и он улыбается. Что ж, улыбается, и пусть!
Вот уже месяц, как Иголочкин гуляет с Наинкой. Целый месяц. Теперь он может себе позволить зайти к ней.
Комната прибрана. На стене – фотографии. Окна занавешены. А вот сена нет. «Какая глупость, – думает Иголочкин, – какая глупость может в голову прийти».
Сидит Иголочкин у Наинки. Молчит она, и он молчит. Она улыбается, и он улыбается. Она хохочет, и он хохочет. Она чихнула. Хочется и ему чихнуть, но это у него не получается. Что ж, нет так нет.
Наинка достает с этажерки пузырек.
– Хочешь подушиться? – говорит она.
На пузырьке золотыми буквами выведено: «Духи „Свежее сено“».
Иголочкин нюхает и не чувствует запаха. Пропал летний аромат…
Наинка говорит, что у нее что-то голова разболелась. Пусть он потрогает рукой.
Иголочкин говорит:
– И у меня голова разболелась. Пора домой.
Город без церквей

В этом городе люди не ходят, а бегают. Улицы в нем широкие. Весь он просторен, как поле. И все же люди нередко натыкаются друг на друга. Люди озабочены, люди хлопочут.
Теперь, в семь часов вечера, перед глазами Васюткина пробегают люди, которых он вовсе не знает, но они, может быть, очень знатные люди. О них, может быть, слышала вся страна, их знает, может быть, весь Союз. Это, может быть, люди, которым газеты служат крыльями. Газеты окрыляют их имена, и имена их разлетаются по всем городам.
Потому что в этом городе очень много людей-героев.
Вот пробегает девушка-грузинка. Она инженер. Может быть, отец ее – один из двадцати шести расстрелянных бакинских комиссаров.
Вот проходит группа рабочих. Это они, может быть, отремонтировали горячее нутро домны. Для такого ремонта домну нужно было бы остановить месяца на два. Нужно было бы затушить ее и потом снова растапливать, а они полезли в непогашенную домну.
Бегут рабочие, инженеры, студенты, школьники. Они все мелькают перед глазами Васюткина, но Васюткин их не видит, он никого из них не знает, да и вряд ли кто из них знает его, Васюткина.
Маленький желтый человечек в пожелтевшей одежде – вот кто Васюткин. Желтое пятно на зеленом фоне. Потому что он нашел клочок зеленой земли и на нем разлегся.
Это был клочок земли с настоящей травой. Отсюда не поднимались столбы пыли к небу. Здесь играл только легкий ветерок в траве, переливая ее зеленый бархат то в более темную, то в более светлую окраску. Трава текла, как река.
На душе у Васюткина было неспокойно.
В этом городе, занимающем, может быть, в десять раз больше площади, чем другой какой-нибудь город с таким же количеством населения, в этом новом, просторном городе Васюткин растерялся. И ему захотелось выпить. Но врач запретил ему пить даже сырую воду. Кипяченую воду он пьет из столовой ложки, как лекарство, заедая конфеткой или кусочком сахара.
Лежа в этом зеленом оазисе, он не знал, что делать. Он незаметно для себя щипал с остервенением траву, словно собираясь ощипать всю землю до последней травинки в этом пыльном, ветреном, дымном городе.
А тут еще эти озабоченные люди, которые непрестанно снуют перед глазами…
Проходит делегация Донбасса, приехавшая заключить договор о социалистическом соревновании. Деловито шагают «фабзайцы», монтажники, техники… Вот один отстал, присел на траву, торопясь подтянуть ослабший шнурок ботинка.
С детских лет Васюткин обладал способностью заговаривать с первым встречным и изливать ему свою душу. Сначала он начинает говорить словно сам с собой, потом, глядишь, он уже держит человека за отворот куртки и рассказывает, и рассказывает…
– Вот скажи мне, пожалуйста, мил человек, – обратился Васюткин к присевшему на траву, – что за загадка такая: вот жил себе Васюткин в селе Васюткино, и был человек, как все люди, даже в президиуме сидел, даже плакаты на демонстрациях носил, и девушки к нему льнули.
– Простите, мне некогда, – перебил его человек, улыбаясь.
– Тебе некогда? Ах так? А может быть, и мне некогда?.. А может быть, я тону и меня спасать надо?..
Человек нехотя снова присел на траву.
– Ночью пылают зеленые огни, а зачем они пылают?.. Ночью гора разрывается – а зачем?..
– Взрывы, – вставляет человек, – руду добывают…
– Знаю я, – перебивает Васюткин, – вы думаете, что меня еще только пеленать надо? Знаю… и все же я ничего не понимаю. И когда бригадир кричит «спецовку», я тоже кричу «спецовку», и когда бригадир кричит «шамовку», я тоже кричу «шамовку», и когда бригадир кричит «добавку», я тоже кричу «добавку»…
– Я спешу, – говорит человек, виновато улыбаясь, – мне некогда.
– Тебе некогда? А может быть, и мне некогда? Я может быть, тону? Может, меня спасать надо?..
И человек снова садится на траву, а Васюткин продолжает:
– Может, вокруг меня все темно и я света божьего не вижу?.. Понимаешь ты, что со мной случилось? Я вместе со всей бригадой висел на черной доске. Можешь ли ты, брат, это понять или нет? Ведь я повешенный! Вот так живого взяли и повесили: Васюткин! Мое имя – Васюткин – висело на черной доске… Я-то ведь сам, понимаешь, просто человек, просто, как, скажем, вон тот камень в поле, но у меня имя есть – Васюткин. Если бы не имя, то я ведь не был бы Васюткиным. И вот это имя мое висело на черной доске… Понял?..
– А ты кто же такой? – заинтересовался человек.
– Чернорабочий я…
Человек полез в карман за блокнотом. Но тут вдруг Васюткину надоел разговор. Ему уже не хотелось рассказывать главное – как его сняли с работы…
– Иди, мил человек, иди! – сказал Васюткин. – Тебе ведь некогда! Я, правда, не прочь поговорить с человеком, но я не люблю, когда меня тянут за язык… Иди, милый, мне тоже некогда…
Человек ушел. Человек на ходу писал что-то в блокноте. Человек спешил.
Все люди спешили. Еще больше спешили лошади в упряжках, еще больше спешили автомобили, еще быстрее несся ветер.
А Васюткин лежит на траве, лежит и перебирает свои горькие думы:
– Хоть бы спросили у меня, желаю я работать или нет!.. Может быть, я в душе ударник? Может, бригадир виноват в том, что мы не выполнили нормы? Черт этакий… глянет своими волчьими глазами – душа в пятки уходит… Вот и повинуешься ему… он кричит «спецовку», и ты кричишь «спецовку», он – «шамовку» и ты – «шамовку»…
Горько у Васюткина на сердце, очень горько: «И почему сняли меня с работы… Почему клеймят меня на собрании?.. Почему пишут обо мне в стенной газете?.. Почему повесили?..»
…Город окружен горами, и на него часто нападает с гор ветер… вот и теперь ветер срывает с прохожих то шляпу, то картуз, а они, люди, почему-то улыбаются… Почему это, когда гонишься за сорванным с головы картузом, обязательно улыбаешься?..
…О боже, когда человеку даже выпить нельзя, то хоть ложись да помирай…
Васюткин вдруг помянул бога, словно на этот раз была в нем особая необходимость. И, помянув его, он задумался. Он бога очень часто поминал, вплетая имя его в восьмиэтажные ругательства, бог для него был не больше, чем составная часть этого ругательства, а тут вдруг ему понадобился бог. Пальцы сами собой сложились, чтобы совершить крестное знамение.
…А что, если в церковь сходить, помолиться, – может, отляжет немного от сердца?..
Васюткин пошел бродить по городу. Городу всего четыре года от роду, и он, как здоровый ребенок, торопится впитать в себя побольше, поскорее подрасти, и он действительно растет не по дням, а по часам.
Боодит Васюткин в поисках церкви, а навстречу ему, в автобусе, дети со своей учительницей. Они едут за город, туда, где растут березы, – это такие высокие белые столбы, и на них растут зеленые листья. Надо показать их детям.
Посаженным вдоль улиц деревцам еще нужно подрасти, как детям, как домнам, как всему городу.
Васюткин пошел бродить по городу. Он никого больше не замечал, ни с кем не заговаривал.
Долго, долго он ходил – нигде не нашел церкви.
«В каждом, хоть самом маленьком сельце, – думал он, – есть церковь, на пеоекрестках дорог стоят кресты, а в этом города ни церкви, ни креста. Да он и на город-то не похож. Где же это видано – город, да без церквей».
– Тетенька, – обратился он к встречной старушке (и старушки-то редко встречаются в городе), – где мне тут церковь найти?
– Нету, нету, сынок, здесь церкви, – скрипучим голосом ответила старушка.
Город полон огней. Город переполнен светом. Вот так среди города остановиться и начать креститься как-то неловко.
Струи света от фонарей, от прожекторов, взблески молний от электросварки… Все небо в огне. В таком небе сам бог может сгореть или задохнуться от клубов дыма, постоянно вздымающихся к небу, Может, эта краснота не что иное, как божья кровь…
Кровь… Огонь… Клубы дыма… А тут вдруг еще какой-то адский шум…
– Что тут такое? – спрашивает Васюткин у молоденькой девушки. (Молодых в этом городе много, очень много. Все они такие загорелые. В этом городе бледных девушек не видать. Словно у ворот, у въезда в город стража стоит, и бледных в город не пропускает.)
– Цирк! – улыбается девушка.
Васюткину скучно одному, он не знает, куда ему деваться. Даже печального бога здесь нигде не найти. Покоя! Хотя бы капельку покоя… А что, если зайти в этот цирк?..
И Васюткин пошел в цирк.
Он хотел было присесть на обитый ковром барьер. Но никто сюда не садился, и он решил, что недурно и в первом ряду.
Грянул оркестр. У Васюткина сразу живот заболел. У него всегда от барабанного боя живот болит. Не нравится ему и лязг тарелок. Что тут мудреного?.. Гремят тарелкой о тарелку – что в этом?.. Вот скрипка – дело другое. Прекрасная выдумка! Водит человек смычком, и тебе кажется, будто кто-то плачет, да и сам играющий подкладывает под подбородок платочек, словно для того, чтобы слезы вытирать. Вообще музыка – мудреное дело, разговор без слов. А слова сам придумывай. И каждый придумывает такие слова, какие ему больше всего подходят, какие ему по душе. Играет музыка, и тебе кажется, будто серебряные реки падают со скалистых гор, или будто на скалах вырастают зеленые леса и в них поют птички, много-много разных птиц, или обрушиваются камни в реки, и из белой пены выглядывают золотые рыбки, или осколки луны погружаются в глубины, оставляя на поверхности серебристый след, а на черных челнах мерцают огоньки и льется, льется ночная песня…
Васюткин, извиняясь, снимает шапку с головы – он, оказывается, сидел опершись о плечо соседа…
Васюткину стало стыдно. Он узнал в этом человеке мастера со своего завода, работающего на блюминге, который еще только монтируется. Он, как и Васюткин, пришел на завод чернорабочим. Теперь он отличный мастер.
Странно как-то на душе у Васюткина – хоть плачь…
Вот выбежали двое. Рыжие волосы у них дыбом стоят, и становится смешно, хочется смеяться во весь голос.
Все хохочут, хохочет и Васюткин.
Вдруг один из клоунов обращается к Васюткину:
– Ты-то чего смеешься? Ведь ты такой же рыжий, как и я.
– И вовсе я не рыжий, – отвечает Васюткин, – я жгучий блондин.
И зал разражается хохотом. Зал одобряет остроту Васюткина. И Васюткин вдруг почувствовал, будто он у себя в деревне, где он был душой компании на вечеринках, где он был властителем умов на гулянках. И ему хочется блеснуть еще какой-нибудь остротой, но слова на язык не идут.
И снова тяжело на душе у Васюткина. Незаметно для себя он опять налег на плечо соседа.
– А сколько в вас весу, товарищ? – спросил мастер.
Васюткин извинился. Между тем клоуны на арене снова начали разыгрывать сценку. Один представляет, должно быть, симулянта. Он опрокидывает в горло бутылку и выпускает изо рта целый фонтан. При этом он пискливым голосом кричит во всю мочь:
– Что касается меня, то я думать не люблю! Раз в жизни я как-то задумался, и на меня чуть автобус не наехал… А я жить хочу. Пусть за меня другие думают. Кричит бригадир «спецовку», кричу и я «спецовку», кричит он «шамовку», кричу и я «шамовку», кричит он «добавку», и я за ним – «добавку»!
– Гляди-ка, – встрепенулся Васюткин. – Ведь это мои слова!..
И вдруг до Васюткина дошло:
«Да ведь это тот человек, который шнурок на ботинке завязывал там, на траве».
И Васюткина словно стрелой пронзило:
«А что, если все здесь сидящие вдруг догадаются, что это мои слова?.. „Вот-те и остряк, – скажут они, – а мы-то думали…“
Ну, а если они сами не догадаются, разве не может этот клоун в конце хладнокровно прибавить:
„Вот какие мысли у рвача и симулянта Васюткина с шестого строительного участка“.
Однажды ведь уже драмкружок разыграл так бригадира…»
Васюткину начало казаться, что клоун все время смотрит на него и вот-вот крикнет:
«Эй, Васюткин с шестого участка!»
И тут ему вспомнилось, что бригадир, который неоднократно уже попадался за непристойные дела, имеет обыкновение, не дожидаясь, пока его другие ругать будут, сам выступать с покаянием: виноват, мол, братцы!.. И ему все сходит с рук… Не лучше ли и ему, Васюткину, пока еще клоун не назвал его имени, выступить и самому сознаться… Публики он не боится. Публика его уже знает. Она уже раз аплодировала ему сегодня.
Васюткин перескочил через барьер.
Какое вокруг море голов. Но Васюткину эти головы показались ненастоящими. Он шмыгнул носом.
Все головы вдруг поднялись. Раздался бурный хохот.
Васюткин видел вокруг бесчисленное множество голов – голов черных как смоль, голов русых, голов плешивых, голов в красных платочках.
И ко всем этим головам он обратился, как подобает оратору:
– Товарищи во всем цирке! Уважаемый комедиант перед вами представил только что нежелательную в нашем обществе личность… Это он все в точности срисовал с меня. А все тут смеялись. Что ж, смейтесь на здоровье. Я на вас не в обиде…
И вдруг он запнулся. Ни тпру, ни ну. Слова вымолвить не может. Захватило дыхание, как после большого глотка спирта…
Отдышавшись, он продолжал:
– Я сам себе, товарищи, противен. Мне стыдно за свою жену, за детей своих, которых я запятнал. – Эти слова он произнес помимо воли, они сами собой пришли на язык, и он опасался, что других слов он так скоро не найдет. – Мне стыдно перед рабочим классом… Правильно поступили, что вывесили мое имя на черной доске… Товарищи! – произнес он еще громче. – Вот тут в третьем ряду сидит наш инженер. Я прошу у него прощения, что я не такой, как он, что я, можно сказать, мало ему помогал…
Публика уже не смеялась. Все аплодировали.
– Товарищи, – надрывался Васюткин, – в четвертом ряду сидит начальник рабоче-крестьянской милиции, герой гражданской войны. Я прошу прощения также у него…
Закончил Васюткин так:
– Прошу снова принять меня на работу.
И стараясь ни на кого не смотреть, стараясь никого не задеть, он вернулся на свое место.
Теперь уже сосед-мастер навалился на его, Васюткина, плечо, но Васюткин сидел не проронив ни слова.
Кончилось представление. Сосед вышел первым.
Так они и шли – мастер впереди на несколько шагов, за ним – Васюткин.
На небе полным ходом шла ночная смена. Небо все было усыпано мерцающими звездочками, словно искрами от огненных столбов, вылетающих из раскаленной пасти огромной коксовой печи.
Они шли и молчали.
Васюткину казалось, что все люди, проходящие мимо, кивают ему, хотят сказать ему что-то на ухо.
Вдруг он явственно услышал голос мастера:
– Придешь завтра утром к блюмингу.
И больше мастер ничего не сказал.
Но Васюткин понял, почему он так долго и упорно молчал. Он, должно быть, долго взвешивал, стоит ли говорить то, что он сказал…
Ярко светился город. Нигде не было таких огней, как в этом городе, над которым небо накалено добела и в котором нет ни одной церкви.
– До свидания, – сказал Васюткин, сворачивая к своему бараку.
– До завтра, – ответил ему мастер.