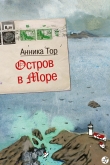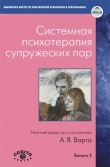Текст книги "Третья волна"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
Сегодня никто – от экспертов из Белого дома или Кремля до пресловутого человека с улицы – не может предсказать, как именно будет развиваться мировая система, какие новые организации и институты локального или глобального уровня возникнут в будущем, но развенчать некоторые популярные мифы все – таки возможно.
Первый из этих мифов пропагандируется такими фильмами, как «Роллербол» (Rollerball) и «Сеть» (Network), в которых негодяй со стальными глазами объявляет, что мир поделен или будет поделен между группой транснациональных корпораций. В наиболее обычной форме этот миф рисует единую общемировую Энергетическую корпорацию, Пищевую корпорацию, корпорацию Домостроения, Отдыха и т. д. Существуют варианты, в которых эти корпорации являются отделениями какой – либо грандиозной мегакорпорации.
Этот упрощенный образ основан на прямой экстраполяции тенденций Второй волны – специализации, максимизации и централизации – на мир будущего.
Это представление не только не учитывает фантастического разнообразия реальных условий жизни, столкновения культур, религий и традиций, скорости изменений и исторически обусловленной дифференциации общества, оно не только основано на наивном предположении, что такие потребности, как потребность в пище, энергии, жилье, можно строго разграничить, оно игнорирует фундаментальные изменения, которые ныне революционизируют структуру и цели корпорации как таковой. Короче говоря, это представление основано на устаревшем образе корпорации, сложившемся в эпоху Второй волны.
Другая, тесно связанная с первой, фантастическая картина изображает мир, которым правит одно централизованное Мировое Правительство. Оно обычно представляется как «продолжение» какого – либо ныне существующего государства или института – «Соединенные Штаты Мира» или «Планетное Пролетарское Государство» или просто как расширенная Организация Объединенных Наций. И в этом случае представление основано на упрощающем приложении принципов Второй волны.
То, что сейчас возникает, станет, по – видимому, не будущим, где господствуют корпорации, и не мировым правительством, а гораздо более сложной системой, организованной подобно тому, как организованы некоторые передовые отрасли промышленности. Мы, скорее, не создаем пирамиду мировой бюрократии, а плетем сеть из разных организаций со сходными интересами.
Например, в ближайшем десятилетии мы можем увидеть Океанскую Сеть, составленную не только из наций, но из регионов, городов, корпораций, организаций по охране окружающей среды, научных групп и т. д., чьи интересы связаны с морем. С течением времени будут возникать и вплетаться в эту сеть новые группировки, а другие начнут из нее выходить. Сходные организационные структуры возникнут, а по существу уже возникают, в других сферах – космическая сеть, пищевая, транспортная или энергетическая и т. п., вливающиеся друг в друга, перекрывающиеся и формирующие широко открытую, а не замкнутую систему.
Короче говоря, мы движемся в направлении мировой системы, скорее состоящей из тесно взаимосвязанных единиц, как связаны нейроны в мозгу, нежели представляющей собой подобие бюрократической административной единицы.
Когда это произойдет, следует ожидать серьезной борьбы в ООН по поводу того, останется ли эта организация «профсоюзом государств – наций» или в ней будут представлены другие единицы – региональные, возможно, религиозные или этнические и даже корпорации.
Поскольку нация распадается и реструктурируется, поскольку на мировой сцене появляются транснациональные корпорации и другие новые факторы, поскольку возрастают нестабильность и угроза войны, нам придется изобрести новые политические формы или «вместилища», чтобы установить подобие порядка в этом мире – мире, в котором государство – нация по многим причинам становится опасным анахронизмом.
Глава 23
ГАНДИ И СПУТНИКИ«Конвульсивные содрогания», «Неожиданная вспышка», «Резкий поворот»… Специалисты по заголовкам судорожно ищут термин для описания того, что они ощущают как нарастание беспорядка в мире. Их ошеломляет подъем мусульманства в Иране. Внезапное изменение курса маоистской политики в Китае, крушение доллара, воинственность отсталых стран, мятежи в Сальвадоре или Афганистане – все это рассматривается как неожиданные, волнующие и не связанные друг с другом события. Нам говорят, что мир стремительно приближается к хаосу.
И все же многое из того, что кажется проявлением анархии, на самом деле таковым не является. Рождение новой цивилизации не может произойти без разрушения старых связей, свержения режимов и потрясений в финансовой системе. То, что может показаться хаосом, – это в действительности глобальная перегруппировка сил, необходимая для их соответствия новой цивилизации.
Когда – нибудь, оглядываясь на сегодняшний день, мы будем видеть его как закат цивилизации Второй волны, и предстающая перед мысленным взором картина не сможет не показаться весьма печальной. Потому что при ближайшем рассмотрении выясняется, что индустриальная цивилизация оставила за собой мир, в котором лишь четвертая часть вида Homo sapiens живет в относительно приемлемых условиях, три четверти – в относительной бедности, а 8 млрд пребывает в состоянии, которое Всемирный банк именует «абсолютной бедностью»[511]511
Данные по нищете, здоровью, питанию и грамотности из обращения Роберта Макнамары к руководству Всемирного банка, 24 сентября и 26 сентября 1976 г.
[Закрыть]. 700 млн человек не доедают, а 550 млн неграмотны. К концу индустриальной эпохи приблизительно 1 200 млн живут в условиях, опасных для здоровья, и им даже недоступна нормальная питьевая вода.
Индустриальная цивилизация оставила после себя мир, в котором экономический успех двух – трех десятков индустриальных стран полностью зависит от скрытых поступлений дешевой энергии и дешевого сырья. Она оставила после себя глобальную инфраструктуру – Международный валютный фонд, Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле, Мировой банк и СЭВ, которые регулировали торговлю и финансы для сил Второй волны. Она оставила множество бедных стран с монокультурной экономикой, обслуживающей богатые страны.
Быстрый подъем Третьей волны не только знаменует конец империй Второй волны, он также сокрушает наши надежды на то, что можно покончить с нищетой на планете старыми способами.
Стратегия Второй волныС конца 40–х годов большинство попыток уничтожить пропасть, разделяющую бедных и богатых, подчинялось одной доминирующей стратегии. Я называю ее стратегией Второй волны.
Этот подход был обусловлен мнением, что общества Второй волны представляют собой вершину эволюционного прогресса и что для решения своих проблем любое общество должно повторить путь индустриальной революции в точно таком же виде, в каком его проделали Запад, Советский Союз или Япония. Прогресс заключается в перемещении миллионов людей из сельского хозяйства в массовое производство. Это требует урбанизации, стандартизации и всего остального набора Второй волны. Иначе говоря, развитие подразумевает преданное следование модели, оказавшейся успешной.
Правительства во многих странах пытались осуществить этот план. Некоторые из них, такие как Южная Корея или Тайвань, где существовали специфические условия, по – видимому, преуспевают в формировании общества Второй волны. Но большинство подобных попыток потерпели поражение.
Эти неудачи в одной из отсталых стран за другой пытались объяснить множеством умозрительных причин. Неоколониализм. Плохое планирование. Коррупция. Отсталая религия. Трайбализм. Транснациональные корпорации. Разведка. Слишком медленное движение. Слишком быстрое. Но какие бы причины мы ни называли, факт остается фактом: индустриализация по модели Второй волны гораздо чаще терпела крах, чем проходила успешно.
Наиболее впечатляющий пример – Иран[512]512
Индустриализация в Иране: «Iran's Race for Rices», «Newsweek», March 24, 1975.
[Закрыть].
В конце 1975 г. шах Ирана заявил, что, следуя стратегии Второй волны, он превратит Иран в самое высокоразвитое индустриальное государство Среднего Востока. «Строители шаха, – писала «Newsweek», – усиленно трудились над восхитительной массой шахт, плотин, железных дорог, шоссе и прочих составляющих полновесной индустриальной революции». В июне 1978 г. международные банкиры все еще сражались за право вложить миллиарды за мизерные проценты в Кораблестроительную корпорацию Персидского залива, Текстильную компанию Мазадерна, в «Тавинар», государственную электростанцию, металлургический комплекс в Исфахане, Иранскую алюминиевую компанию и т. п.[513]513
О вложениях в иранский проект см.: «Iranian Borrowing: The Great Pipeline Loan Will Be Followed by Many More» by Nugel Bance, «Euromoney», June, 1978.
[Закрыть].
Предполагалось, что эти нововведения превращают Иран в «современную» нацию, но в Тегеране господствовала коррупция. Бросающаяся в глаза разница в потреблении усугубила контраст между бедными и богатыми. Торжествовали иностранные интересы, главным образом американские, но не только. (Менеджер – немец получал в Тегеране в три раза больше, чем он получал бы дома, а его рабочие – десятую долю того, что получает рабочий в Германии[514]514
Немецким менеджерам платят: «Iran: A Paradise in a Powder Keg» by Marion Donhoff, «Die Zeit» (Hamburg), October 10, 1976.
[Закрыть].) Городской средний класс был крошечным островком в океане нищеты. Даже не считая нефти, две трети всех рыночных товаров потреблялись в Тегеране одной десятой населения страны[515]515
Доля иранских товаров, потребляемая одной десятой населения: «Regime of the Well – Oiled Gun» by Darryl D'Monte, «Economic & Political Weekly» (India), January 1974.
[Закрыть]. В сельской местности, где доходы едва составляли пятую часть доходов городского жителя, общая масса населения существовала в ужасающих условиях[516]516
Доходы от сельского хозяйства в Иране: «Iran: The Lion That Stopped Roaring», «Euromoney», June, 1978.
[Закрыть].
Вскормленные Западом, миллионеры, генералы и высокооплачиваемые технократы, стоящие у власти в Тегеране, пытались применить стратегию Второй волны, считая, что развитие – это в основном экономический процесс. Религия, культура, семейная жизнь, сексуальная роль – все эти проблемы решатся сами собой, если на долларовой бумажке будут нужные знаки. Культурная реальность мало значила для этих людей, потому что, погруженные в индустриальную реальность, они видели мир все более стандартизованным, а не двигающимся к многообразию. Сопротивление западным идеям считалось в этом кабинете, 90 % которого составляли выпускники Гарварда, Беркли и европейских университетов, просто – напросто признаком отсталости.
Несмотря на определенные уникальные обстоятельства – в частности, сочетание в Иране нефти и мусульманства, – многое из того, что там происходило, повторялось в большинстве стран, применявших стратегию Второй волны. С небольшими вариациями то же самое можно сказать о десятках беднейших обществ Азии, Африки и Латинской Америки.
Крах шахского режима в Тегеране породил широкие дебаты в других столицах – от Манилы до Мехико – сити[517]517
Хотя крах шаха и застал врасплох политиков и международных банкиров, он не был полной неожиданностью для тех, кто следил за потоком «неофициальной» информации из Ирана. Еще в январе 1975 г., за полных четыре года до переворота, «Bulletin № 8 of Iran Research», свободно циркулирующее издание левого крыла, сообщал, что движение за свержение шаха «достигло высшей точки». В сообщении описаны вооруженные выступления против режима, бомбежка кафельной фабрики, убийство владельца предприятия, бегство политических заключенных с помощью охраны. Там же напечатано обращение лейтенанта воздушных войск к «братьям – военным» с призывом «снять эту постыдную форму и взять в руки партизанскую винтовку». Кроме того, там печатается и восхваляется «Fatva», или прокламация изгнанного Хомейни, в которой он призывает к эскалации движения против режима.
[Закрыть]. Чаще всего звучал вопрос о темпах изменений. Были ли эти темпы слишком велики? Может ли правительство, даже располагая таким колоссальным источником доходов, как нефть, достаточно быстро создать средний класс, чтобы избежать переворота? Но иранская трагедия и смена режима шаха столь же деспотической теократией заставляют сомневаться в самих коренных посылках стратегии Второй волны.
Является ли классическая индустриализация единственным путем прогресса? Имеет ли смысл имитировать индустриальную модель в то самое время, когда индустриальная цивилизация переживает агонию?
Крах модели успехаДо тех пор, пока нациям Второй волны сопутствовал успех, т. е. они были стабильными, богатыми и богатели еще больше, их было легко рассматривать как модель для развития всего остального мира. Однако к концу 60–х годов наступил общий кризис индустриализма.
Забастовки, остановка производства, аварии, преступления и психологическая депрессия распространились по всему миру Второй волны. Журналы посвящали целые полосы обсуждению причин, по которым «все перестало работать». Пошатнулись как энергетика, так и семья. Нарушились система ценностей и система городского хозяйства. Загрязнение, коррупция, инфляция, отчуждение, одиночество, расизм, бюрократизм, разводы, бездумное потребительство – все эти силы сплотились для нанесения мощного удара. Экономисты предупреждали о возможности полного распада финансовой системы.
В то же время участники охватившего весь земной шар движения за охрану окружающей среды говорили о том, что загрязнение, а также истощение энергетических и прочих природных ресурсов скоро сделают невозможным нормальное функционирование уже существующих наций Второй волны. Кроме этого, подчеркивалось, что даже если стратегия Второй волны каким – то чудом сработает в бедных странах, то тогда вся планета превратится в гигантскую фабрику, что вызовет катастрофические экологические последствия.
По мере того как общий кризис индустриализма углублялся, наиболее развитые страны все больше погружались в печаль. И вдруг миллионы людей стали задаваться вопросом не о том, сработает ли стратегия Второй волны, а о том, захочет ли кто – нибудь создавать цивилизацию, которая сама себя загнала в такой чудовищный тупик.
Еще одно явление также подорвало веру в то, что стратегия Второй волны – единственный путь из нищеты к богатству. Эта стратегия всегда предполагала, что «сначала вы развиваетесь, а потом богатеете», что процветание – результат тяжелого труда, экономии, протестантской этики и длительного процесса экономического и социального преобразования.
Однако эмбарго СЭВ и неожиданный поток нефтяных долларов, хлынувший в страны Среднего Востока, перевернул это кальвинистское представление. В считанные месяцы миллиардные суммы обрушились на Иран, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливию и другие арабские страны, а мир увидел, что практически безграничное богатство скорее предшествовало преобразованию, нежели было его следствием. На Среднем Востоке именно приток денег обусловил стремление к «развитию», а не преобразования принесли их. Ничего подобного раньше никогда не происходило, по крайней мере в таких масштабах.
Тем временем нарастала конкуренция между развитыми странами. «При том, что южнокорейскую сталь используют в производстве в Калифорнии, телевизоры, произведенные в Тайване, продаются в Европе, а тракторы из Индии – на Среднем Востоке… При том, что Китай представляет собой главную потенциальную силу в экономике, возникает вопрос, насколько сильно развивающиеся страны подорвут индустриальные системы высокоразвитых стран, таких как Япония, Соединенные Штаты и Европа», – пишет токийский корреспондент для «Нью – Йорк Тайме»[518]518
Статья в «Нью – Йорк Тайме» называется «Third World Industrialized, Challenging the West…», February 4, 1979.
[Закрыть].
Бастующие французские сталевары поставили тот же вопрос более красочным образом. Они требовали положить конец «разгрому промышленности», а протестующие заняли Эйфелеву башню[519]519
Французские рабочие металлургической промышленности: «Steek's Convulsive Retreat in Euroipe» by Agis Salpucas, «The New York Times International Economic Survey», February 4, 1979.
[Закрыть]. То в одной, то в другой из старых индустриальных стран представители промышленности и их политические союзники резко критиковали «экспорт рабочих мест» и внедрение индустриализации в отсталые страны.
Итак, у всех стран, как грибы, вырастали сомнения относительно того, сможет ли сработать хваленая стратегия Второй волны и стоит ли вообще пытаться заставлять ее работать.
Стратегия Первой волныСтолкнувшись с провалом стратегии Второй волны, подстегиваемые раздраженными требованиями отсталых стран полностью перестроить мировую экономику, сильно обеспокоенные собственным будущим, развитые нации в начале 70–х годов стали разрабатывать новую стратегию для бедных стран.
Чуть ли не за один день многие правительства, «организации развития», включая Мировой банк, Организацию интернационального развития и Совет по развитию, переключились на программы, которые вполне заслуживали названия стратегии Первой волны.
Эти программы представляют собой как бы полную противоположность стратегии Второй волны: вместо отрыва крестьян от деревни и перемещения их в переполненные города они призывают сделать упор на экономику деревни. Вместо концентрации усилий на экспорте определенной сельскохозяйственной продукции предлагается самообеспечение продуктами питания. Вместо слепой погони за увеличением валового нацио нального продукта в надежде, что доходы «просочатся» вниз, к беднейшим слоям, новая стратегия призывает направлять ресурсы непосредственно на «удовлетворение основных человеческих потребностей».
Вместо развития экономящих труд технологий новый подход предполагает интенсивное производство, требующее малых капиталовложений и энергозатрат и неквалифицированного труда. Предпочтение отдается не строительству грандиозных металлургических комплексов и городских фабрик широкого профиля, а узкоспециализированным предприятиям, приспособленным для сельской местности.
Отвергая установки Второй волны, защитники стратегии Первой волны показали, что многие промышленные технологии, перенесенные в отсталые страны, не принесли ничего, кроме вреда. Техника ломалась и оставалась неотремонтированной. Такие технологии требовали высоких затрат и часто импортного сырья. Квалифицированной рабочей силы не хватало. Поэтому, согласно новым теориям, таким странам нужны «адекватные технологии», иногда именуемые «мягкими», «промежуточными» или «альтернативными», т. е. «нечто среднее между серпом и комбайном»[520]520
«Между серпом и комбайном» – цитата из «Second Class Capitalism» by Simon Watt, «Undercurrents» (Reading, Berkshire), October – November, 1976.
[Закрыть].
Скоро в США и в Европе возникли центры развития этих технологий, созданные по образцу Группы развития промежуточных технологий, основанной в 1965 г. в Великобритании[521]521
Группа развития промежуточных технологий и примеры технологий из «Appropriate Technology in the Commonwealth: A Directory of Institutions», publishaed by Food Production and Rural Development Division of the Commonwealth Secretariat, London.
[Закрыть]. Но в развивающихся странах тоже образовались подобные центры, которые начали во множестве поставлять технологические инновации.
Например, Бригада фермеров Мохунди из Ботсваны изобрела приспособление, в которое запрягаются ослы или волы и которое можно использовать для вспашки, посадки и внесения удобрений. Департамент сельского хозяйства Гамбии одобрил сенегальское изобретение – раму, на которую можно ставить одноотвальный плуг, сеялку, окучник или приспособление для сбора земляных орехов. В Гане разрабатываются молотилка для рисового зерна с педальным приводом, винтовой пресс для нужд пивоварения, деревянный отжим для банановых стеблей.
Стратегия Первой волны применялась и в более широких масштабах[522]522
Обращение Индии к методам Первой волны: «India goes Back to Using the Handloom», «Financial Times» (London), June 20, 1978.
[Закрыть]. Так, в 1978 г. новое правительство Индии, испытав некоторый шок от цен на нефть и удобрения и разочарование от стратегии Второй волны, которой пытались следовать Неру и Индира Ганди, прямым образом запретили экспансию механизированной текстильной промышленности, попытались расширить производство текстиля на ручных станках вместо электрических. Предполагалось не просто уменьшить безработицу, но и противостоять урбанизации, развивая сельскую экономику.
В этой новой формуле, в сущности, много полезного. Приток в город сельского населения уменьшается. Ее цель – сделать деревню, где концентрируется большая часть населения беднейших стран, более приспособленной для жизни. Она чувствительна к экологическим факторам, делает упор на локальные ресурсы, а не на импорт, бросает вызов слишком узкому представлению об «эффективности». Она предполагает менее технократический подход к развитию и принимает во внимание местную культуру. Делает упор на улучшение положения беднейших слоев населения, а не на перемещение больших сумм в надежде на то, что часть этих денег просочится к бедным.
И все же, отдавая должное этой политике, приходится признать, что «новая» формула, в сущности говоря, предлагает лишь адаптацию к условиям Первой волны без попытки их изменения. Это паллиатив, а не исцеление, и именно таким образом ее и воспринимают в мире.
Президент Индонезии Сухарто ясно выразил этот взгляд, заявив, что эта стратегия – «просто новая форма империализма. Если Запад будет вкладывать средства только в мелкие «домашние» проекты, мы никогда не сдвинемся с места»[523]523
Сухарто цитирует Мохаммеда Мади, индонезийского министра горнодобывающей промышленности, в «A Case Study in Disillusion: U.S. Aid Effort in India», «The New York Times», June 25, 1974.
[Закрыть].
Внезапная тяга к интенсивному труду может служить на пользу только высокоразвитым странам. Чем дольше отсталые страны будут находиться в условиях Первой волны, тем меньше конкурентоспособных товаров смогут они представить на мировой рынок. Чем дольше они будут делать упор на сельское хозяйство, тем меньше нефти, газа и других природных ресурсов останется на их долю и тем более слабыми они останутся в политическом отношении.
В стратегии Первой волны также присутствует порочное представление, что, в отличие от прочих факторов производства, время и силы работников экономить необязательно, что без передышки гнуть спину на рисовых полях совсем не страшно, если, конечно, это делает кто – то другой.
Самир Амин, директор Института развития и планирования африканской экономики, суммируя эти точки зрения, говорит, что методы интенсивного труда вдруг стали привлекательными «благодаря распространению идеологии хиппи, возврату к мифу о «золотом веке» и благородном дикаре и критике «капиталистической реальности»[524]524
Самир Амин цит. по [66], pp. 592–593.
[Закрыть].
Хуже того, формула Первой волны опасно преуменьшает роль продвинутой науки и технологии. Многие из тех способов производства, которые она считает «адекватными», еще более примитивны, чем те, которыми пользовались американские фермеры в 1776 г., и по существу они ближе к «серпу», чем к «комбайну». Когда американские и европейские фермеры начали 150 лет назад применять «более приемлемые технологии», перейдя от деревянного плуга к железному, они не считали нужным поворачиваться спиной к современной инженерии и металлургии – они взяли на вооружение эти достижения.
На Парижской выставке 1885 г. с величайшим успехом прошла демонстрация новоизобретенных молотилок. «Шесть человек были поставлены на молотьбу цепами, и одновременно с ними начали работу механические молотилки. После часа работы сравнили результаты:
«Шестеро молотильщиков с цепами 36 литров пшеницы
Бельгийская молотилка 150 литров
Французская молотилка 250 литров
Английская молотилка 410 литров
Американская молотилка 740 литров»[525]525
Данные о сравнении производительности молотилок в 1885:, pp. 303–304.
[Закрыть]
Только те, кто никогда в жизни не занимался тяжелым физическим трудом, могут с легкостью отметать механизацию. Обратите внимание, что уже в 1885 г. машина работала в 123 раза быстрее человека.
Многое из того, что мы обычно называем «продвинутой наукой», было изобретено учеными развитых стран для решения проблем этих стран, и очень мало усилий было приложено к тому, чтобы попытаться решить повседневные проблемы мира бедных. Тем не менее любая «политика развития», закрывающая глаза на возможности продвинутой науки и современных технологий, обрекает на постепенную деградацию миллионы отчаявшихся, обнищавших, голодных крестьян.
В определенное время и в каких – то местах стратегия Первой волны может способствовать улучшению жизни многих людей. Однако находится очень мало свидетельств в пользу того, что страна может обеспечить себя, используя методы Первой волны. И напротив, существует достаточное количество свидетельств обратного.
Путем героических усилий маоистский Китай, который изобрел и применял основные элементы формулы Первой волны, сумел избежать голода, причем не полностью. Это было выдающимся достижением. Но к концу 60–х годов упор на патриархальную экономику завел страну в тупик.
И это произошло потому, что сама по себе стратегия Первой волны подразумевает массовую нищету, поэтому она не более применима для большинства отсталых стран, чем стратегия Второй волны.
Очевидно, в мире, где происходит все большая дифференциация, мы должны не обращаться к моделям индустриального настоящего и доиндустриального прошлого, а искать совершенно новые пути и смотреть в будущее.