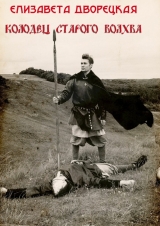
Текст книги "Колодец старого волхва"
Автор книги: Елизавета Дворецкая
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Медвянка не сводила глаз с лица Явора, словно старалась прочитать воспоминания, вдруг нахлынувшие на него переменчивой чередой. Еще вчера она и не задумывалась, откуда он да какого рода, а теперь ей все хотелось о нем знать и она ждала, не расскажет ли он о себе что-нибудь еще. В полутьме хатки на лице Явора лежали тени, и Медвянка вдруг осознала, будто впервые разглядела: а ведь если бы не нос, то Явор был бы и красивым. Где же раньше были ее глаза?
Ее взгляд пробудил Явора, и он обратился к хозяину:
– Зато и печенегов там в глаза не видали. А вы-то этой весной не видали их?
– Миловали покуда боги! – в один голос воскликнул старик и обе его старухи. – Покуда не видели, сохраните нас, Перуне и Велесе!
– Давеча проезжал Васильевский дозор, говорили, и у них тихо, – продолжал старик. – Да мы теперь колам колеса смазали – коли князь ушел в поход с большой дружиной, так всякий час надо беды ждать. Вы уж нас не позабудьте, упредите, ежели что…
* * *
Передохнув, белгородцы отправились дальше. Явор вел отряд по гребням оврагов, по высоким местам, откуда хорошо были видны окрестности. Негромко посвистывая, он поглядывал по сторонам и почти не разговаривал с Медвянкой. Близка была печенежская степь, и мысли о деле властно вытесняли все прочее. По мере приближения к опасным местам внутри у Явора как будто сжимался кулак: его зрение, слух, обоняние обострялись, все внимание сосредотачивалось на поисках опасности. Он стал похож на волка, чутко и целеустремленно ищущего добычу.
Путь дозорного отряда лежал вдоль длинной гряды земляных валов, протянувшейся между реками Рупиной и Стугной и защищавшей Киевщину с юго-запада. Валы были укреплены внутри дубовыми бревенчатыми срубами, верхние венцы которых выступали над земляной насыпью. У подножия валов с обеих сторон тянулись глубокие рвы. Высокая, крутая стена отгораживала землю, занятую славянскими поселениями и посевами, от дикой степи, где пасли свои многочисленные стада печенеги. Ни конница, ни тем более стада не могли одолеть эту преграду, а ворота в ней имелись только через сторожевые города, – чтобы пройти за валы, нужно было взять один из них. Иногда печенеги устраивали тайком проломы в линии валов, но княжеские дозоры, постоянно ездившие вдоль всей линии, быстро обнаруживали повреждения и привозили работников поправлять валы. Этой повинностью было обложено все ближайшее сельское население и жители сторожевых городов. Степняков, вторгшихся в русские пределы, отлавливали и продавали в холопы. По уговору с печенежскими ханами, кочевники не имели права ходить сюда, топтать поля и захватывать пастбища.
Положил Добрыня со Змеем заповедь великую,
Что не летать бы Змею на землю русскую,
Не зорить городов да сел,
Не водить людей во полон, —
пели кощунники, вспоминая походы и договоры со степняками князева дядьки Добрыни Малкича, чему шел уже второй десяток лет. Но степняки не очень-то старались соблюдать договор, заключенный с ханом за подарки, которые получил только он со своими приближенными. А то и сам хан, решив, что подарков было мало, возглавлял большой набег – тогда на башне Витичева над днепровским бродом загорался тревожный костер, люди спасались под защиту городских стен, а князь и воеводы поднимали свои дружины.
Впервые увидев степные укрепления, Медвянка удивилась, вытянула шею, стараясь разглядеть получше. Устроенные человеческими руками валы слишком заметно выделялись среди безлюдной степи, внушали впечатление чего-то особенного и значительного.
– Что это? – спросила она, обернувшись к Явору.
– Это, краса моя, Змиевы валы, – пояснил Явор. – Как же ты не знаешь – ведь твой же отец родной их городил!
Медвянка только повела плечами – отцовские рассказы о путешествиях и трудах его юности она слушала не слишком внимательно. И Явор продолжал:
– Здешние люди говорят, что сам Сварог-Отец Змея Горыныча в плуг запряг да поперек степи на нем пропахал, чтоб всю землю разделить надвое и каждому своей частью владеть. А за валы, по их уговору, Змей ходить не должен. А то, говорят, с давних времен повадился он в здешние земли летать, города да веси разорять и дань требовал красными девушками. Вот вроде тебя.
Явор усмехнулся – теперь и он мог немного подразнить Медвянку. А ей сейчас не хотелось смеяться. Посреди непривычного открытого пространства ей было неуютно, хотелось спрятаться куда-нибудь, словно самим пребыванием посреди чистого поля она навлекает на себя неведомые опасности, летящие с четырех ветров. С голубого неба ясно светило солнце, перелесок вдали радовал глаз ярким цветом молодой листвы, свежая трава, буйным ковром покрывшая степь, пестрела цветами, теплый чистый ветер нес сладкие, бодрящие запахи расцветшей весны. И все же Медвянке было не по себе: владения грозного Змея Горыныча находились совсем близко. Живое воображение тут же представило ей отвратительного змея, протянувшего к ней когтистые лапы. А Явор говорил об этом чудище так легко, чуть небрежно, словно басню рассказывал ребенку, но в этом было не пустое бахвальство, а твердая уверенность в себе и своем оружии. Почему Медвянка не замечала его уверенности раньше? Эта сила не бросалась в глаза в шумном городе, полном людей, но в неоглядно-просторной степи Явор вдруг стал будто бы выше ростом – как Перун, разъезжающий по небесным полям. Даже конь у него как у Громовика – вороной. И впервые Медвянка с уважением покосилась на две серебряные гривны на груди у Явора, осознав, что это не пустые украшения, а свидетельства ратной доблести. А она ведь и над гривнами его смеялась! Тебе бы, говорила, еще серьгу в ухо. Ликом не вышел, хоть нарядом покрасуешься. Ой, глупая!
– А давно ли валы устроили? – спросила она.
– В иных местах валы с незапамятных времен стоят, – рассказывал Явор. – Их, видно, и правда Сварог со Змеем устроили. А здешние помоложе будут – это князь Владимир-Солнышко за Сварогом дело доделывал. Дальний конец уже при мне насыпали да рубили.
Медвянка внимательно слушала, хотя никогда прежде ее не занимало одно и то же так долго. Полной правды о валах и Явор не знал, а если б знал, то она потрясла бы их обоих. Давно ли? Тысячу лет назад, за сто пятьдесят лет до рождения Христа, когда мир не знал еще имени славян, чьи-то руки насыпали в этих степях первый защитный вал. Далеко ему было до нынешних валов – огромных по протяженности, сложных по устройству, высоких и крепких. По важности и трудности сооружение их равнялось трудам богов – недаром предание приписало эти валы самому Сварогу, создателю мира. Через тысячу лет от их былой внушительности мало что останется, – но тысячу лет спустя остаткам Змиевых валов князя Владимира предстояло еще раз послужить обороне русской земли от нового, не менее страшного врага.
Вдоль Змиевых валов белгородский дозор доехал до самой реки Стугны. На ней Владимир Святославич поставил городки Треполь, Васильев и несколько других, соединенных сплошной линией земляных валов. Они составляли главный рубеж обороны Киевщины.
У оконечности линии валов, на крутом холме, и был несколько лет назад поставлен сторожевой городок Мал Новгород, разрушенный в прошлом году во время печенежского набега. Стены Мала Новгорода были устроены из срубов, на которые пошли двухсот-трехсотлетние дубы. Теперь городки были частью разрушены, частью обуглены, в стене тут и там пугающе зияли проломы. Уже захватив город, печенеги постарались разломать и сжечь все что можно, чтобы затруднить киевскому князю восстановление крепости. Но огромные дубовые бревна горели плохо – городок и после смерти сопротивлялся кочевникам.
Подъезжая ближе, Медвянка не вертелась по сторонам и не задавала вопросов. Впервые различив взглядом полуразрушенный городок на прибрежном холме, она в испуге подалась назад и прижалась к Явору, словно нежданно наткнулась на мертвое тело. Явор промолчал; он понял ее чувства, но утешить здесь было нечем. Он мог бы немало рассказать о гибели Мала Новгорода, но не хотел пугать девушку образами тех страшных дней. Медвянке было жутко, словно на краю поля недавней битвы, усеянного едва остывшими мертвыми телами. Целый городок был таким полем смерти, и Медвянка только теперь начала понимать, на что же она напросилась посмотреть. Сама земля дышала здесь скорбью, и даже самая легкомысленная и невнимательная душа не могла не почувствовать этого.
Белгородский отряд объехал холм, направляясь к единственным воротам в город, над которыми высилась полуразрушенная башня. Вокруг стен еще можно было отличить места прежних огородных наделов, снова заросших дикой степной травой. Трава покрыла и длинный ряд невысоких пологих холмиков. Явор молча кивнул на них Медвянке, и она с ужасом поняла, что там, под этими холмиками, лежат теперь жители и защитники Мала Новгорода. Где-то среди них пряталась и могила дядьки Ярца, и Медвянку потрясло их великое множество. Одно дело было слушать рассказы дружины о малоновгородском разорении или причитания беженцев оттуда, не принимая их слишком близко к сердцу, а совсем другое – своими глазами видеть эти холмики, под каждым из которых лежит воин, женщина, ребенок – десятки, сотни людей. Трава выросла над их прахом, равнодушным шелестом напевает над ними вечные песни степи, которой нет дела до людей, до их жизни и смерти. Такая трава так же колыхалась много веков назад, и спустя века она не изменит ни стебельков своих, ни напевов.
К воротам городища вместо дороги вела узкая, едва заметная тропинка, протоптанная в буйной, вольно разросшейся траве. Через глубокий сухой ров, окружавший город, была небрежно насыпана перемычка.
– Печенеги земли накидали, – сказал Медвянке пожилой гридь, Почин. – Раньше мост был, да рухнул, когда гады ползучие в город кинулись, – не выдержал их.
Отряд остановился, гриди спешились, один из них пошел по перемычке к воротам городища. Скоро он появился в проеме ворот и махнул рукой. Явор повел коня с сидящей на нем притихшей Медвянкой по тропинке к воротам, гриди потянулись за ним.
– Есть тут жив человек? – протяжно покрикивал шедший впереди. .
Миновав проем ворот под башней, Медвянка увидела коридор между двумя рядами срубов, шагов в двадцать длиной и узкий – три лошади в ряд едва могли пройти. Здесь было почти темно, только через щели разбитых срубов проникало немного закатных лучей, освещая остатки прежней неприступности, оказавшейся бессильной перед внезапным набегом.
Впереди, у выхода из коридора, возле приоткрытых ворот стоял старик в длинной серой рубахе и холщовых портах, с неподвижным лицом и погасшими глазами, едва видными из-под седых бровей.
Отведя створку ворот, он молча, без приветствия и поклона, пропустил белгородцев внутрь городища.
Там тоже царило запустение. Бросалось в глаза огромное черное пятно пожарища – здесь, верно, был воеводский двор с гридницами. Остатки обгоревших построек жители за зиму и весну растаскали на дрова, и прежний оплот безопасности города лежал теперь углем, пустым местом, без слов свидетельствуя, что само сердце крепости погибло.
Вдоль внутренней стороны крепостных стен выстроились сплетенные из прутьев и обмазанные глиной полуземлянки. Большей частью они обгорели и покосились, и только у нескольких стены были подправлены и на крыше лежал сухой камыш. Молодой мужик с русой бородой стоял перед ближней землянкой, держа в одной руке топор, а в другой полуобтесанный кол.
– День добрый хозяевам! – сказал ему Явор.
– И вам добрый день, коли добрые люди, – ответил мужик с топором. Сначала он смотрел на гостей настороженно, потом скользнул взглядом по мечу и по бляшкам на поясе Явора и спросил: – Белгородцы, васильевцы?
– Белгородцы. Приехали степи послушать, разузнать, не видно ли печенегов.
Пока они разговаривали, возле низких дверей хаток показалось десятка два жителей. В основном это были старики и старухи; всего несколько детей прижималось к подолам женщин. Одежда их была бедна до крайности, на бледных исхудалых лицах отражалось боязливое любопытство.
– Заходите. – Русобородый показал на самую большую из обитаемых полуземлянок и прислонил свой кол к стене.
Пригласив гостей внутрь, он усадил их на лавки. Несмотря на молодость, он признавался старшим среди оставшегося в Малом Новгороде немногочисленного населения – на нем держалось хозяйство семей, в большинстве лишившихся кормильцев. Почти всех молодых и детей захватившие городок печенеги увели с собой. Остались только старики со старухами да несколько маленьких детей, которых матери сумели надежно спрятать. Многие из тех, кто уцелел после набега, ушли в Васильев или Треполь, да и оставшиеся подумывали об этом.
– Ко времени вы к нам приехали, – сказал Явору молодой старейшина. – Обратной дорогой не проводите ли нас до Васильева или к вам в Белгород? Ненадежно тут жить, боязно.
– Печенегов видели?
– Были и печенеги. Еще до первых всходов раз-другой прорыскивали мимо. Мало – то три коня слыхали, то пять. Дозоры, видать. А попусту печенеги не рыщут… Правду люди молвят, что князь на чудь собрался?
– Уже ушел.
– А нас, стало быть, оставил? Ты не гневайся, хоть ты и княжий человек, а сам посуди: как я своих дедов да баб стану топором оборонять? – Мужик кивнул на лавку, под которую бросил свой топор. – Мы почему тут засиделись – думали, может, князь стены поправит, дружину новую посадит и будем жить опять. А коли нет, надобно нам другое место искать. Ты скажи, берешь нас с собою?
Он говорил смело, напористо, требовательно впивался глазами в лицо Явора. Так держится человек, с которым все самое страшное уже случилось и бояться ему больше нечего. Заглянув в глаза смерти, он не дрожал перед земными властителями, а словно бы спрашивал с них ответа за те страх и горе, какие ему пришлось пережить.
– Возьму, что же с вами делать? – ответил Явор, не сердясь, что смерд разговаривает с ним будто равный. Живя в этом опасном месте, на самом острие копья, мужик сам был вечным воином и заслужил это право. – Лошадей-то у вас нет?
– Две на всех.
– Так вели своим родовичам собираться. Нам тоже ждать некогда, завтра на заре и поедем. И зови ко мне тех, кто печенегов видел-слышал, пусть сами расскажут.
Медвянка за все время не произнесла ни слова, как будто веселость и разговорчивость, неизменные ее спутники, не посмели войти в этот полуразрушенный городок. До самых глубин сердца, каких она в себе и не знала, поразили ее серые лица старух, слабые, худенькие, как лягушата, дети, на заре своей жизни обожженные огнем жестокого пожара.
И такой бедности и убогости хозяйства ей никогда не приходилось видеть. Очагом служила неглубокая продолговатая яма в земляном полу, обложенная камнями. Возле нее стояли потрескавшиеся и кривые, грубо слепленные руками самих хозяев горшки. На глиняных лежанках и прямо на полу были навалены охапки сухой травы, одеяла заменяли вытертые шкуры. «Пообносились, – угрюмо буркнул хозяин, заметя ее взгляд, устремленный на его потрепанную, кое-как починенную и давно не стиранную рубаху. – На торг-то ехать не на чем да и не с чем». И Медвянка почему-то стыдилась своей чистой, нарядной одежды, дорогих украшений, даже своей красоты, молодости и здоровья, словно она что-то невольно украла у этих людей. Судьба редко сталкивала любимую дочь богатого городника с бедностью и горем, а при своем веселом нраве она не склонна была думать о неприятном. Но здесь об этом нельзя было не думать. Вид городка, загубленного Змеем Горынычем, наполнил сердце Медвянки испугом, сквозь который пробивалось сострадание – непривычное, новое для нее чувство, которое заставляло ее ощущать себя несчастной и в чем-то виноватой. Это было слишком тяжело для нее, привыкшей, чтобы все вокруг было ясно и благополучно. Ей хотелось плакать отчего-то, хотелось домой, к родичам, было неловко и неуютно, и она старалась держаться поближе к Явору.
Женщины развели в очаге огонь и принялись варить кашу из привезенного гостями пшена. Землянка наполнилась дымом, мужчины поспешили выбраться наружу. Жители полумертвого городка суетились, радуясь, что белгородский десятник берет их под свою охрану, увязывали и укладывали в колы нехитрые пожитки.
Явор тем временем расспрашивал тех, кто видел печенегов или находил в степи их следы. Медвянка сидела на бревнышке возле землянки чуть поодаль. К ней подошел тот старик, что встречал белгородцев у внутренних ворот. Некоторое время он молча рассматривал Медвянку, а потом опустился на бревно возле нее.
– Ты чья такая будешь? – спросил он, медленно выговаривая слова, словно подбирая по одному.
– Я из Белгорода, – робко ответила девушка, все еще стесняясь себя, своей неуместности здесь. Медвянка любила рассказывать о том, что ее отец – именитый Надежа-городник, построивший дивные белгородские стены, но тут упомянуть об этом казалось неловко, и она больше ничего не прибавила.
– А к нам зачем? – так же медленно спросил старик. Ему как будто трудно было разговаривать с живыми – он слишком привык говорить с мертвыми.
– Дядька мой родной, матери брат, здесь схоронен.
– Из нашей дружины? Как звали-то его?
– Ярец.
Старик кивал головой, но молчал, и Медвянка не поняла, помнит ли он ее дядьку.
– Кто ж тебя привез?
– Явор.
– Что же он тебе, жених?
– Да, – чуть слышно ответила Медвянка. Она озябла, но виной тому была не свежесть весеннего вечера, а чувство холодной тоски, разлитое в самом воздухе полумертвого городка. Стараясь согреться, она обхватила себя руками за плечи и опустила глаза, не в силах смотреть в погасшее, как у мертвого, лицо старика. Ей было тревожно и горестно, хотелось спрятаться, как от лица самой Морены-Смерти. И лучше всего – за спину Явора.
– С таким молодцем ничего не страшно, – медленно говорил старик. – У меня тоже две внучки были вроде тебя. Увели их печенеги… Были у меня дети, внуки, женихи уж у внучек были. А теперь все там…
Он слабо повел иссохшей рукой, и Медвянка догадалась, что он говорит о череде пологих холмиков за стенами городища. Казалось, старик разговаривает с Медвянкой и не видит ее, а все его мысли – с его семьей, погибшей или рассеянной по свету. Огонь жизни едва-едва тлел в нем, движения его были медленными, глаза – погасшими. Сердце его было убито, и только какое-то злое волшебство поддерживало в теле видимость жизни, не пускало дух его в Сварожьи луга, где встречи с ним ждали не только предки его, но и потомки.
К ним подошел Явор.
– Пойдем, дядькину могилу покажу, – сказал он девушке. – Завтра на заре уедем, часу лишнего не будет.
Медвянка взяла свои припасы, приготовленные матерью, и следом за Явором вышла из городища. Старик побрел за ними. Пройдя меж холмиками, Явор остановился возле одного, длинного и широкого, на котором лежал валун с грубо выбитым изображением княжеского знака-трезубца.
– Здесь дружинная могила, – сказал он Мед-зянке. – Как бились вместе вои малоновгородские, так вместе и лежат…
Явор отошел, а старик сел на траву неподалеку от Медвянки. Старые ноги с трудом держали его с ношей горя, а сидя он был ближе к земле и к тем, кого она приняла в себя.
Медвянка села на землю возле валуна, развязала свои узелки, разложила яйца, пироги, блины и задумалась, пытаясь вызвать в памяти образ дядьки Ярца. Она видела его всего несколько раз за всю жизнь и знала плохо. Теперь ей никак не удавалось представить его мертвым. Ей виделся широкоплечий силач, изредка бывавший в Белгороде в гостях у семейства сестры, шумный, веселый, лицом похожий на Лелею, весь двор заполнявший своим громким голосом и раскатистым смехом.
А смерть была вокруг – она пела шепотом из-под трепещущей травы, смотрела с бледных лиц малоновгородцев, таилась в складках длинной рубахи старика. Жители понемногу выбрались из ворот и наблюдали за Медвянкой. Им не верилось, что эта красивая, здоровая и нарядная девица разделяет их горе. На многих холмиках виднелись остатки убогих приношений. Чей-то муж лежал здесь, чьи-то отец, брат, сын, мать, сестра – тоже воины в нескончаемой войне славян со степью. Гряда могильных холмиков казалась в переливах травы бесконечной, как волны.
Укатилося красно солнышко
На веки да вековечные! —
негромко начала причитать Медвянка, глядя, как красная вечерняя заря горит над черными обугленными бревнами заборола, словно отсвет давнего пожара. С зари, с травы над грядой могил в душу ее лилось сильное, неведомое ранее чувство великой, широкой, как степь, печали – не по дядьке своему, а по всему народу, которому выпала такая тяжелая судьба. Сама скорбная богиня Желя подсказывала ей слова причитания. И впервые Медвянка услышала ее, увидела перед собой согнутую на коленях фигуру женщины с бледным заплаканным лицом, с растрепанными, неровно висящими черными волосами, с исцарапанными от ударов о землю руками, со слезами, текущими из ее глаз нескончаемым ручьем. А глаза у Жели – огромные, без ресниц, пустые от неизбывной скорби, словно она душу свою выплакивает над каждым павшим. Павшим же на земле русской нет числа.
Как дух с телом расставался,
Очи ясные с белым светом прощалися,
Подходила тут скорая смертушка,
Она крадчи шла, злодейка-душегубица,
По крылечку ли она да молодой женой,
По новым ли сеням да красной девушкой,
С синя моря она шла все голодная,
С чиста поля она шла все холодная,
У дубовых дверей да не стучалася,
У окошечка смерть не откликалася,
Потихошеньку она да подходила,
Черным вороном в окошко залетала…
Женщины плакали, слушая Медвянку. Они молчали, словно исчерпали слова, но не вычерпали бездонного горя, и слезы текли по их безвременно увядшим, морщинистым лицам, словно ручейки, промывшие себе дорогу в земле.
– Всех пожрали змеи проклятые. Испокон веков не знала сия земля покоя, – тихим, безразличным голосом заговорил старик, когда Медвянка замолчала. Он глядел мимо девушки, куда-то вдаль, то ли на свое несчастье, то ли еще дальше, на многовековое горе этой щедрой, теплой земли. – Еще деды рассказывали:
Ветра нет, да тучу нанесло,
Тучи нет, да будто дождь дождит,
Аи дождя-то нет, да только гром гремит,
Гром гремит да свищет молния,
А как летит Змеище Горынище
О тех о девяти головах, о девяти хоботах,
Все травушки да муравушки к землеприклонилися,
А что есть людей – все мертвы лежат…
Сложена сия песня во времена незапамятные, деды ее от дедов слышали. Сколько люди помнят, ходят степняки на славян. Оборонялися люди, полки собирали, городища рубили, валы насыпали – и не счесть, сколько на них труда положено. Сколько воев тут полегло! Кабы подняться им всем, всем бы встать за нас – до самого Днепра протянулся бы строй нерушимый, крепче валов Змиевых. Да вот… сызнова змеи проклятые налетели да внучек моих унесли в темную нору… Уж и меня бы прибрали, старого, чего мне дальше жить? Или я еще не все беды увидал?
Старик замолчал, молчала и Медвянка. Пронзительная боль жалости и сострадания терзала ее сердце, слезы переполнили ее глаза и поползли по щекам – она заплакала, впервые за много лет. Она словно видела этих девушек, внучек старика, стройных, румяных, с цветами и лентами в косах они казались ей близки, как кровные сестры. Они тоже любили петь и смеяться, поглядывали на молодых гридей, весенними вечерами плясали с ними в хороводе, с бьющимся сердцем ловили слухом горячим шепотом сказанные слова любви, мечтали о счастье. Но вот их нет, и только пустоглазая Желя причитает над местом их прежних плясок и игрищ, заунывным голосом тянет одну и ту же песню, режет сердце холодным ножом. Сколько их было за века, таких горьких судеб? И неужели их слезы были напрасны, не вымолили у богов лучшей участи для потомков? Сколько еще родителей будут плакать по детям, а детей по родителям?
Явор сидел в стороне на пригорке, отворотясь, стараясь не смотреть на женщин, не слышать их причитаний и всхлипываний. В каждой их слезе, в каждом вздохе он слышал упрек себе – воину, призванному защищать. Его, здорового, сильного, с отроческих лет сроднившегося с оружием, мучил стыд перед этими состарившимися до времени женщинами и одинокими стариками. Казалось бы, кого ему жалеть, – сам сирота. Его осиротила не печенежская сабля, а голод и болезнь, сама Морена-Смерть, невидимая и неумолимая. Однако он выжил, вырос, добрая судьба дала ему другого отца, дядек, братьев. Только матери другой не дала, и Явор видел бережно хранимые в памяти черты своей матери в лице каждой пожилой женщины. В каждом женском вздохе он слышал последние вздохи своей умирающей матери, за которую он цеплялся в отчаянии изо всех сил, но не сумел удержать на земле. Давнее горе мальчика-сироты в груди кметя превратилось в ненависть к Морене-Смерти, ко всем ее обличьям. Здесь она прилетала на печенежских стрелах. Явор знал многие лица своего вечного врага, и ненависть к нему тлела в глубине его сердца, как угли под слоем пепла. В который раз Явор вспоминал прошлое лето – весть о захвате Мала Новгорода Родомановой ордой, спешные сборы, догорающее городище, усеянное еще не закоченевшими трупами славян и печенегов вперемежку, долгий и яростный гон по степи, битву. Часть малоновгородского полона была тогда отбита и спасена, но старший сын Родомана со своей дружиной и добычей сумел уйти. Долго потом Явор перебирал в уме несбывшиеся возможности догнать его. Не догнали. И сейчас, сидя на травянистом холмике – тоже, поди, чья-то могила! – Явор молча и яростно в который раз клялся богу Воителю: жизнь положу, а не пущу больше гадов на русской земле лиходейничать!
Видя, что Медвянка кончила причитать и сидит молча, Явор поднялся и подошел к ней.
– Ступай-ка спать, хозяйка тебе постелила где почище, моим плащом укроешься… – начал он, но вдруг увидел, что Медвянка плачет. И ее лицо, с блестящими на щеках полосками слез, с приоткрытым ртом, ловящим воздух, застывшее от напрасного усилия удержать рыдания, растерянное и горестное, потрясло его так, что он запнулся и остановился. Такой он ее никогда не видел и даже вообразить не мог. На миг у него мелькнула мысль: не обидел ли ее кто-нибудь? Явор перевел взгляд на старика и ни о чем не стал спрашивать, сам понял, о чем здесь шла речь. Никто не обидел задорную белгородскую красавицу, просто она отхлебнула из горькой чаши обиды всего своего племени.
Услышав голос Явора, Медвянка поспешно отвернулась и закрыла лицо руками, не желая показаться ему в слезах, боясь подурнеть от плача и разонравиться ему. А Явор смотрел на ее склоненный затылок и вздрагивающие плечи, и на душе у него внезапно полегчало. Ему тяжелее было б, если бы Медвянка и здесь смеялась. Но она плакала – значит, у нее все же есть сердце, а раз оно учится сострадать, то сможет и полюбить. Сейчас она казалась растерянной и несчастной девочкой. Явору стало жаль ее, и он начисто забыл свою обиду.
Молча он взял Медвянку за руки и поднял с земли.
– Ну а платок-то на что? – негромко, грубовато-утешающе сказал Явор. Медвянка неловко повела плечом: не знаю я, где он!
Явор вытащил из-за пазухи тот ее платочек, который носил с собой с самой драки гончаров и замочников, и сунул его Медвянке. Она поднесла было его к лицу и вдруг замерла. Ее платок, с засохшим смазанным пятном крови Явора, разом напомнил ей прежнее веселье и насмешки над кметем. И ей стало так стыдно, что она заплакала еще пуще, уткнувшись в платок, который так небрежно отдала и который Явор так бережно сохранил.
– Ну, ладно тебе, будет, – неловко повторял Явор, не зная, чем ее утешить.
Он взял ее за плечи, и Медвянка тут же подалась к нему и уткнулась заплаканным лицом ему в грудь. Явор обнял ее, прижал к себе ее голову и глубоко вздохнул – не словами, хоть так он мог обещать ей свою защиту и утешение. И Медвянка не противилась, не рвалась из его рук, как вчера на забороле, а сама обхватила его, крепче зарылась лицом в его рубаху. И все вдруг изменилась, тоска отступила, ослабела, растаяла. Тепло и сила его объятий дали ей чувство защищенности и покоя, спрятали от пустых глаз Жели и бледного лика Морены. И слезы ее превратились в слезы радости, благодарности Матери Макоши за священный спасительный дар. Грубоватая заботливость, сердечное сочувствие, которые ожившее сердце Медвянки угадало за сдержанными неловкими словами Явора, сделали ее счастливой, – ведь она любима им, и даже сам Змей Горыныч не вырвет ее из его крепких рук.
* * *
В обратный путь белгородский дозор и остатки малоновгородцев двинулись на самой заре. Две тощие лошаденки везли колы с пожитками, каждый из гридей посадил на запасного коня ребенка или старуху. Отряд двигался неспешно, чтобы кони, которым предстояло теперь проделать весь долгий путь до Белгорода с седоками, не слишком утомлялись. Явор шел впереди, ведя на поводу своего коня с сидящей на нем Медвянкой. Она была рада поскорее оставить позади вымерший безвозвратно городок, но то и дело оглядывалась на обугленные стены – они словно не отпускали ее. Ей очень хотелось домой, в Белгород, многолюдный, шумный, полный людских голосов и насущных забот, там она надеялась позабыть мертвенное запустение, увиденное здесь. Но в глубине души она понимала, что нигде и никогда не сможет забыть этот убитый Змеем Горынычем городок, погасшие глаза старика. Они останутся с ней навсегда.
Явор иногда оглядывался на непривычно серьезную и печальную Медвянку. Он понимал, что ей тяжело, и хотел бы помочь ей развеселиться, но вот этого он не умел.
День выдался невеселый: небо затянули легкие сероватые облака, солнце едва проглядывало меж ними. Медвянка тосковала по солнцу, а спутники ее, напротив, были довольны.
– Хорошо ехать, не жарко, – поговаривали люди.
– Хорошо-то хорошо, – задумчиво бормотал Явор, из-под руки оглядывая степь. – Да дома-то не скоро будем. С этими попутчиками нам путь неблизким встанет. За три бы дня добраться – и то спасибо, Господи. В той веси, где вчера обедали, теперь, видно, ночевать придется.
К полудню небо прояснилось, зелень заблестела под солнцем, стало жарковато. Белгородский отряд со своими спутниками вышел к маленькой степной речке. Здесь зелень была погуще: по правую руку остался небольшой перелесок, : впереди виднелась широкая лощина, поросшая дубами, орешником, серебристой ольхой. Место было удобным для отдыха, и Явор решил остановиться. Теперь, когда с ними были женщины, дети и старики Мала Новгорода, ему приходилось быть вдвойне осторожным и прятаться от любого случайного взора.
Здесь же стоял высокий курган – посмертное жилье какого-то древнего князя или воеводы. Обернувшись к гридям, Явор кивком послал Спорыша на курган. Парень поднялся по склону на самую вершину, придержал коня и стал осматривать округу. Явор приостановился, наблюдая за ним. Спорыш огляделся по сторонам и вдруг замер, приложил ладонь к глазам и даже привстал на стременах. Гриди подтягивали поводья, не сводя с него глаз. Каждого кольнуло: что-то увидел. Спорыш поспешно стронул коня с вершины вниз по заднему склону кургана – значит, это «что-то» тоже имело глаза.








