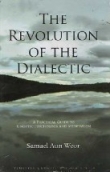Текст книги "Бунтовщица"
Автор книги: Елизавета Александрова-Зорина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
БУНТОВЩИЦА
У Марины не ладится в семье: муж пьёт, сын – бьёт, хоть на улицу беги. А менять жизнь на пятом десятке уже поздно. Остаётся поплакаться подруге, перехватив денег до зарплаты.
Был летний воскресный вечер, подруга возвращалась с дачи, и Марина измеряла шагами вокзальный перрон.
– Тёть, а тёть, дай денежку!
Под ногами крутился грязный оборвыш. Марина выгребла из кармана мелочь.
– На, Гаврош.
В глазах у беспризорного промелькнуло недоумение.
– Он про Гавроша не знает, другое поколение, – замаячил за его спиной долговязый бомж. – Говорю, как школьный учитель.
Марина инстинктивно прижала рваную сумочку, потом вспомнила, что в ней одни неоплаченные счета. Бомж был её моложе, напоминая мужа, когда тот ещё не пил, а мальчишка был вылитый сын в детстве.
– Что же он у тебя такой чумазый?
– А какая разница? – пожал плечами долговязый. – В городе человек себя не видит.
Электричка опаздывала, и Марина была рада неожиданному собеседнику.
– А почему сейчас не учишь?
Бомж почесал затылок:
– Как учить тому, во что сам не веришь?
В прошлом Марина детский врач, но, воспитав сына, потеряла квалификацию и подрабатывала где придётся – в няньках, уборщицах.
– Но как же все? Трудятся ведь.
Бомж ухмыльнулся:
– И я вкалывал, пока не понял, что у нас любой труд – сизифов. Водки?
Он протянул бутылку. Марина вспомнила домашние сцены, растущие долги и, поморщившись, выпила.
– А некоторые – как сыр в масле. И за что? Из грязи – в князи. – долговязый оскалился: – Полагаю, мы уже в Царстве Небесном: первые стали последними, а последние – первыми. Ещё?
Угол вокзальной площади облюбовали бродяги – сидели на корточках, лежали на голой земле. Никто не шелохнулся, когда долговязый, вынимая из штанин бутылку, подвёл Марину. Она взглянула так, будто впервые видела бомжей, и ей вдруг показалось, что все вокруг и она сама давно умерли, а вместо людей живут двойники. И ей захотелось отскоблить от масок человеческие лица, вернув людям их настоящую жизнь.
Марина захмелела.
– Эй, ты, с солдатской наколкой, – обратилась она к худому, жилистому парню, – ты же воевал, как же можешь так жить?
– И что? – откликнулся его сосед с одутловатым лицом.
– А то, что надо стучаться во все двери!
– У нас все двери чугунные.
– Я врач, напишем в Красный крест, в Гаагский трибунал.
Парень покрутил у виска.
– Вот такие и проспали Россию, небось, в Чечне тоже дрейфил?
Солдат сжал кулаки:
– Чечню не трожь, у меня два ранения.
– А генералы паркетные на твоей крови дачи выстроили!
Бомжи окружили Марину.
– А вы что терпите? Над вами издеваются, а сами жиреют!
Раскрасневшись, она всё больше воодушевлялась.
– Выпей, Орлеанская дева, – протянул стакан долговязый.
Но Марину уже несло.
– Надо только собраться, вместе мы сила, помните, что нет страшнее русского бунта!
Бомжи согласно кивали, маленький попрошайка замер с открытым ртом.
– У меня ствол припрятан, – неожиданно сказал «чеченец».
Марина испугалась.
«Правильно говоришь, док!» – доносилось со всех сторон.
– Вот я потомственный хлебороб, – тряс почерневшими горстями спившийся детина, – я бы и сейчас в деревне, да житья нет.
Табор загудел.
– Ох, дождутся они, ох, дождутся! – грозил кулаком сморщенный сизый пропойца. – И, покрывая голоса, хрипло пробасил: – Положи нас под капельницу, док, а потом веди на Кремль!
Началось брожение, некоторые смущённо отходили. От испуга Марина говорила всё быстрее, отчаянно жестикулируя, произносила слова, которых сама не понимала.
С визгом затормозил милицейский «уазик», тщедушный корявый сержант взял под козырёк.
– Ваши документы.
– Без документов хопа – в отделение! – пролаял другой, мордатый.
Марина закусила губы.
– Ну, чё, болтушка, язык-то проглотила?
– Паспорт у меня дома, можете проверить.
– Тогда шмыг в отделение!
– Гражданин начальник, – забубнили бомжи, – не забирай доктора!
– Та-ак, пасти позатыкали, гав-гав отставить!
– Но с какой стати? – начал было долговязый.
И тут же согнулся, как колодезный «журавль», – мордатый ударил его в живот.
Марина моментально отрезвела.
– Назвалась Груней – полезай в кузов! – подтолкнул к машине корявый.
За решёткой на заднем сиденье ютились проститутки с осоловевшими глазами.
– Прячь ценности, – по-свойски тронула за плечо одна.
– И бесплатно не давай, – подмигнула другая.
Марину затрясло. Она судорожно стащила с покрасневшего пальца обручальное кольцо, затолкала в носок. Подумав секунду, сунула туда же «проездной» и долговые квитанции.
– В этом отделении людьми торгуют, – прикрыв рот ладонью, зашептала проститутка. – Так что, подруга, не выделывайся.
В отделении было душно, хлопали двери.
– Оформляй, – кивнул дежурному корявый, – без документов, с бомжами. Призывала к свержению строя.
Дежурный раскрыл журнал.
– Деньги? Ценности?
Марина покачала головой.
– Что же вы, гражданка, прилично одеты, а с бомжами? Да ещё по такой статье.
– Я, я не хотела, – заикалась она. – У меня семейные обстоятельства, из дома выгнали.
У Марины заплетался язык.
– Муж, что ли? – хохотнул в дверях корявый.
– Ты баба – во! – поднял большой палец мордатый. – Пусти под бочок, мы его, раз-раз, приструним!
Марина почувствовала, как в уголках рта повисает кривая улыбка. За плечами выросла женщина.
– Пройдите на обыск, – карандашом указал на неё дежурный.
В соседней комнате было накурено, в пепельнице чадили окурки.
– Раздевайся, – равнодушно приказала женщина.
– Как? Совсем?
– Трусы можешь оставить.
Казённый, бесчувственный голос, проворные, шарящие пальцы. Марине сделалось дурно, она уже не понимала, что происходит. На столе появилось кольцо, «проездной».
– Отпустите меня.
Марина была готова расплакаться.
– Это как начальство решит.
Опять повели в дежурку.
– Личность твою установили, – встал со стула дежурный. – А вот что, гражданка, со статьёй делать будем?
Марина зарыдала:
– Меня дома сын ждёт…
– А ты нас не жалоби, преступление-то налицо!
– Ну, пожалуйста!
Дежурный опять сел, стал задумчиво грызть карандаш.
– Тебе, между прочим, до пяти лет грозит. Сейчас в «обезьянник», а завтра дело заведём.
Стало слышно, как в умывальнике капает вода.
– Есть, конечно, вариант, – задумчиво продолжил дежурный. – Машины мыть умеешь?
Марина быстро кивнула.
– Ну, тогда искупай вину перед Родиной!
Опять появилась женщина. Принесла два ведра, грязную полинявшую тряпку. Во дворе Марину подвели к тому самому «уазику», на котором привезли.
– Начни со стёкол, – холодно бросила женщина.
А вскоре высыпало всё отделение.
– И бампер драй, вжик-вжик! – весело крикнул мордатый.
– И колёса, – подхватил дежурный.
Собираясь в лужи, стекала пена, летели брызги.
– От забора – и до обеда! – ржали вокруг. – Это тебе не марафет наводить!
Но развлечение быстро надоело, и все разошлись. Через полчаса Марина вспотела. А ещё через час робко постучалась в отделение.
«Всё?» – поднял глаза дежурный. Марина громыхнула пустыми вёдрами. «Молодец, рву протоколы». Скомканные листы полетели в мусор. «И распишись за вещи, – он ткнул в бумагу. – А за квартиру, между прочим, платить надо». У Марины задрожали губы. «Свободна», – вывела её за ворота женщина в штатском.
Ночь была безлунная, по пустынным, холодным улицам мчались автомобили. Марина шла под жёлтыми, двоившими тень фонарями и думала о предстоящем дома скандале.
«А, чёрт с ним, – вдруг отмахнулась она, – могли ведь и наркотики подбросить…»
ПОКУПАТЕЛЬ
Свирид Лякиш проснулся с мыслью приобрести вещь. «Не иначе реклама», – покосился он на телевизор. Лёжа в постели, Свирид перебирал знакомых, у которых мог видеть эту вещь, но так и не вспомнил, у кого.
Воскресенье заблудилось в осеннем тумане. Лякиш соскоблил щетину, сварил всмятку яйцо и спустился в супермаркет. Обшарив все полки, он под пристальным взглядом охраны набрал целую корзину всякой всячины, но вещи не обнаружил. «Есть отличный китайский чай, – пожал плечами продавец. – Или вот рисовый пудинг…» Свирид пошёл к директору. «Всего не упомнить, – широко улыбнулся тот, отрываясь от компьютера. – Как вы говорите?» Свирид назвал. Порывшись в каталогах, директор развёл руками.
Поднимаясь в лифте, Свирид злился. Если чего-то нет, зачем всё остальное? Сумки оттягивали руки. Грузная, неопрятная соседка, с которой они, не здороваясь, прожили всю жизнь, равнодушно скользнула по ним взглядом, но Лякиш смутился – подумает, что обжора. Свирид обитал под самой крышей, выйдя на балкон, он закурил, рассматривая летавших под ним птиц, ползущих внизу прохожих, превращённых высотой в многоточия, и вдруг подумал, что вещь есть у каждого, кроме него.
В понедельник моросил дождь, из-за каждого поворота, как убийца, набрасывался ветер, и, выйдя из подъезда, Лякиш поднял воротник. До службы он добирался на метро и обычно, вглядываясь в лица, пытался угадать, кто занимает должность, уже не соответствующую возрасту, кого, как и его самого, молодые начальники покровительственно хлопают по плечу. Но теперь он определял, у кого из попутчиков есть вещь. Он осторожно поинтересовался про вещь у сослуживцев, но те лишь недоуменно хмурились. «Притворяются», – решил Лякиш.
И обратился к Интернету. Но и в поисковых системах вещь не значилась. Он разместил объявления на форумах, отправил заказы в интернет-магазины – отовсюду пришёл отказ. Вечером Свирид обошёл окрестные магазины, до сердечных колик объяснял, что ему нужно. «Да это может быть что угодно», – зевали ему в ответ. Свирид мотал головой и, схватившись за грудь, шёл дальше, недоумевая, зачем нужны слова, если ими нельзя объясниться?
С тех пор его жизнь изменилась. Остаток недели он ездил на окраинный рынок. Раньше там тянулся лес, теперь густели торговые павильоны. Прочёсывая бесконечные ряды, он находил всё, кроме вещи. Ему стало казаться, что её тщательно скрывают, как деньги, которые боятся сглаза. В одной из лавок на него накричали, в другой покрутили у виска.
Но это лишь укрепило его подозрения.
Когда рынок закрывался, Свирид с особенной силой ощущал одиночество. Он возвращался пешком мимо громоздившихся небоскрёбов, разглядывая пчелиные соты светившихся квартир, брёл мимо хаотично разбросанных ресторанов, родильных домов, моргов, больниц, станций метро, кладбищ, и город представлялся ему гигантской мусорной свалкой, на которой затерянные по своим норам люди, как крысы, снуют хожеными тропами.
«Лякиш-мякиш!» – раз окликнули его. Из машины, улыбаясь, вышел одноклассник. Свирид скривился, растерянно пожимая протянутую руку. Одноклассник постарел, расплылся так, что изображение в зеркале теперь старательно его избегало. Другой бы сошёл с ума, но одноклассник был психиатром. «Другим медицина поможет, – твердил он, как заклинание, – а тебе – нет!» И раскатисто заливался.
– Это как синяя птица, – выслушал он Свирида в японском суши, где они заняли столик у входа. – Помнишь школьный спектакль? Ты был «Молоком», боявшимся скиснуть…
Одноклассник запнулся.
– Им и остался, – договорил за него Свирид.
– Ну что ты, что ты! Только гоняться за вещью – зря время терять, найди лучше женщину. – Отправив в рот большой кусок, он поднял вилку: – Да, женщину с глазами, как море.
Играла музыка, мимо столика протискивались пары.
– Видел кого из наших? – перевёл разговор Свирид.
– Как же, встречались, они считали меня ровесником, а я их – нет!
Одноклассник захихикал и, наклонившись через стол, прошептал:
– Главное, Свирид, не связывайся со сверстниками, которые ждут от будущего только одного: чтобы оно и других обмануло так же, как их. – Он опрокинул рюмку, запивая перчёную рыбу. – Был у меня один убеждённый холостяк, который на старости женился. «Время пришло, – говорил он, трогая проплешины. – Когда уже ушло». – Отодвинув пустую тарелку, одноклассник закурил. – Знаешь, одни с рождения как заводные игрушки и, только наломав дров, понимают, где живут, – он выпустил ноздрями дым. – Другие, наоборот, быстро открывают, каков мир, и становятся как рыба, забившаяся под корягу. Ну, бывай!
Он встал и, расплатившись, вышел.
Виринея Либстук уже несколько раз приходила на рынок. Встав за прилавок, она выкладывала товар, на который никто не обращал внимания.
Через месяц у Лякиша мелькнула надежда. «А денег хватит? – уставился на его карман сгорбленный продавец. Потом хлопнул по его пиджаку – карман обратно не оттопырился: – Вот видишь.» И Свирид стал копить. Он продал всю обстановку, так что в квартире остались голые стены, а в гардеробе – заношенный костюм. Но когда пришёл в другой раз, в лавке сидел новый хозяин, высокий, сухой, точно распрямился прежний.
Той ночью Свириду постучали в дверь.
– Покупать будем?
На пороге стоял карлик и вертел в руках бумажный свёрток.
– А что это?
– Не всё ли равно?
– Но мне, может оказаться, не нужно.
– Зато мне нужно! – расхохотался незнакомец. – Выгадывает всегда продавец, а покупателя никто не спрашивает.
Свирид прикрыл дверь, но карлик уже протиснулся в комнату.
– Давай разберёмся, – защебетал он. – Что изменится, если я расскажу про свёрток? Он утратит привлекательность, ведь радует и огорчает только неожиданное. Предположим, он тебе понадобится, но тогда я подниму цену, и ты прогадаешь. А если не понадобится, ты всегда найдёшь дурака, такого же, как сам, и продашь с выгодой. Так что бери не раздумывая!
Свирид покачал головой. И свёрток полетел в окно.
– А тебе-то что? Раз ты не знал, что там было, значит, для тебя он ничего и не стоил. Но раз ты мне за него ничего не дал, получи сдачу!
И влепил пощёчину такую звонкую, что Свирид сразу проснулся.
Была весна, и, стоя за прилавком, Виринея наблюдала, как купаются в лужах воробьи, как мокрая собака, отряхиваясь в канаве, пугает брызгами ворон.
Свирид опустился, в дырявом, затёртом пальто он приставал к прохожим, выспрашивая про вещь. «Купи лучше яхту», – бросал на ходу один. «Или костюм», – мерил взглядом другой. «Есть прекрасная кухня, совсем новая», – вцепилась в него женщина, похожая на вьюнка. Свирид отвернулся. «Ну, хорошо, – схватила она за рукав, – возьми хоть стиральную машину!» Втянув голову в плечи, Свирид шёл по пустынной улице и думал, что на свете есть всё. И это всё – лишнее.
– Дядь, махнёмся не глядя? – вынырнул из подворотни веснушчатый мальчишка с холщёвой сумкой.
Глядя на него, Свирид подумал, что в детстве веришь всему, пока не обнаруживаешь, что в газетах нет правды, в жизни – счастья, а в церкви – Бога.
– Зачем мне кот в мешке? – заметил он вслух.
И погладил мальчишку по голове.
– А не пожалеешь? – сбросил тот его руку. – А вдруг я судьбой предлагал поменяться? Или возрастом?
– Так у меня ни того, ни другого.
– Да, у таких одни мечты, – задрал средний палец мальчишка. – Так и их продать не могут!
А Свирид весь день думал, что упустил вещь, что она, как судьба, у каждого своя.
Виринея строила воздушные замки и относила на базар.
Скорее по привычке Свирид обходил торговые ряды.
– Раньше случайного попутчика, кажется, всю жизнь знал, – услышал он хриплый, старческий голос, – а теперь кого всю жизнь знаешь – как первый встречный.
– Похожи были, как муравьи, – возражали ему со смехом, – вот и сходились легко.
Свирид остановился.
– Раньше всё покупалось, да не всё продавалось, – гнул своё старик. – А теперь всё продаётся. И сам покупатель.
Свирид ускорил шаг. Перед ним плыли неопрятная соседка, угрюмые сослуживцы, молодившийся одноклассник, как вдруг он заметил девушку с глазами, как море. А перед ней – свою вещь. Свирид затаил дыхание.
– Сколько это стоит?
– Отдам бесплатно, – зарделась продавщица. – Как котёнка, в хорошие руки.
И тут Свирид понял, что вещь ему больше не нужна.
ТАМ, ГДЕ ТЕПЕРЬ ЕЁ ДОМ
Она не знала, куда идёт, а метель шла следом, заметая детские следы. Она не знала, где теперь её дом. Какое из чёрных окон – её? У неё больше не было мамы – мама спала и уже не просыпалась. Спать с мамой стало холодно.
Ленинград умирал тихо, почти всегда – во сне. Умирал и никак не мог умереть. Бессмертный город.
А папа далеко, на фронте, от него давно не приходили письма. А они с мамой всё равно ждали. Но мамы больше нет.
Город был белый-белый, только чернели силуэты домов и тёмными пятнами лежали на снегу трупы. Город был белый-белый, словно художник наметил на чистом листе эскиз будущей картины, да так и оставил неоконченной. Редко навстречу ей шли люди, волокли на санках обёрнутые в простыни тела, или кучу дров, или вёдра, расплёскивая на глазах замерзающую воду.
«Если остановишься, станет ещё холоднее, – думала она. – Когда идёшь, не так холодно. Зато теряешь силы. А можно отталкиваться от столбов, оттолкнёшься – и до следующего фонаря. Оттолкнёшься – и до следующего…»
Фонари, точно часовые, стояли вдоль набережной, слепые и днём, и ночью. Купола Исакия были теперь не золотые, а деревянные. И лежал в гробу Медный всадник.
«А снег здесь не белый, а чёрный».
Она шла мимо сгоревшего дома, на тёмном от копоти снегу валялись обуглившиеся доски, камни, люди.
«А здесь снег не белый и не чёрный, он красный. Главное – идти прямо! Прямо, не делая лишних шагов. Так учила мама, так останется больше сил. Как хочется лечь на снег! Не совсем заснуть, а только чуть-чуть.
И пусть приснятся хлеб и мама. Тёплый хлеб и тёплая мама…»
Она не знала, куда идёт и где теперь её дом. Мамы больше не было.
В парадной было темно и холодно. Варя села на пол и закрыла глаза.
«Только бы не было холодно. Не хочу, чтобы холодно!»
Дверь тяжело открылась, снег влетел внутрь и, не тая, лёг на пол. Вошедшая женщина, держась за стену, поднималась по лестнице.
– Тётенька, дайте хлеба, – попросила Варя.
Женщина медленно, ступенька за ступенькой, шла дальше. Но вдруг, обмякнув, словно тряпичная кукла, опустилась на лестницу.
– Тётенька…
Варя поднялась к ней.
– Тётенька, дайте хлеба, – теребила она женщину за рукав, но та была мертва.
Девочка залезла покойнице в карманы и вытащила продуктовые карточки и кусочек сахара, который тут же проглотила.
«Тётенька мёртвая. Ей уже не нужно.
Если бы я не взяла, взяли бы другие. Какой сладкий сахар, не надо было сразу глотать его, надо было подержать во рту. У нас ведь украли карточки, а месяц ещё такой длинный. А тётеньке они уже не нужны».
Девочка осмотрела сумку женщины, нашла пачку писем.
«Хорошо быть почтальоном. Тебя пускают в тёплые квартиры, а если письмо хорошее, дают хлеба».
Варя сняла с женщины сумку и натянула на себя.
На первом этаже дверь никто не открыл, но, когда Варя толкнула её, оказалось, что квартира не заперта.
– Я принесла вам хорошее письмо!
Никто не ответил. Заиндевелые стены тускло мерцали в темноте, сквозь мёртвую тишину отсчитывал время метроном – где-то работало радио. Варя толкнула дверь, под которой белела полоска света: сквозь дыру выбитого окна комнату заметало, метель кружила, раскидывая по комнате старые письма, фотографии, укрывала снегом, словно пуховым одеялом, две неподвижные фигуры на кровати.
Варя поднималась выше и выше, но квартиры были заперты.
На последнем этаже щёлкнул замок.
– Ты кто? – вышла женщина.
– Я принесла вам хорошее письмо, – нагнувшись, девочка пролезла под её рукой.
– Какое письмо? Ты куда?!
– Хорошее письмо…
Варя, не останавливаясь, шла через длинный коридор к приоткрытой комнате.
«Я никуда отсюда не уйду! Здесь тепло. Здесь люди. Они меня покормят».
Комната была обставлена принесённой со всей квартиры мебелью, а стены увешаны старинными картинами. Добрый, ласковый огонь горел в буржуйке. У окна сидел за мольбертом взъерошенный мужчина. Художник был в пальто, вокруг шеи обмотан вязаный шарф, весь в разводах краски. Варя легла перед печкой и, сняв варежки, протянула руки к огню.
«Тепло… Тепло… Тепло…»
– Ну-ка, вставай! Какое письмо? Уходи домой, – женщина растерянно согнулась над лежащим ребёнком.
«Как тепло! Мамочка, как мне тепло. И во рту ещё сладко от сахара…»
Художник на мгновенье оторвался от работы и рассеянно посмотрел на девочку:
– Отогреется, пойдёт домой. Напои лучше чаем.
«Добрые. Такие добрые. А соседка выгнала из дома, когда мама совсем заснула. Ей было жалко кипятка. Пусть они оставят меня у себя. Мамочка, пусть они оставят меня!»
Варя проснулась на кровати, укрытая одеялами. На буржуйке, шипя обледенелыми боками, грелся чайник.
«Сейчас меня выгонят. Здесь тепло. Не хочу на улицу».
Варя снова закрыла глаза, но сидящая в кресле женщина заметила, что она проснулась.
– Отогрелась? Покажи письмо, почтальон.
«Они не покормят меня. У меня нет для них хорошего письма».
Женщина села на кровать рядом с девочкой.
– Я дам тебе немножко еды, а потом ты пойдёшь домой.
«Добрая… Оставь меня здесь…»
– Девочка, иди-ка сюда на минутку, – вдруг позвал из-за мольберта художник. – Вытяни руки. Представь, что держишь на ладонях голубя.
«Баночки с жёлтой и белой краской похожи на яичницу. А малиновая – на малиновое варенье. А зелёная краска – на листья. Мама плакала, когда я съела фиалки, которые стояли на окне. И листья, и цветочки – всё съела. Маме было меня жалко, и фиалок, наверно, тоже жалко было…»
– А у меня есть хлебные карточки, – сказала вдруг Варя.
«Добрые, оставьте меня у себя!»
– И я могу позировать. Меня обстригли из-за вшей, – она сняла шапочку и показала короткие, как у мальчишки, волосы. – Вы можете с меня и мальчиков рисовать.
«Оставьте!»
– Мы не можем тебя оставить, – ответила женщина. – Иди домой.
Варя кинулась на кровать и забралась под одеяло:
– Я не уйду, не уйду, не уйду!
«Злые! Выгоняют на улицу. Все теперь злые…»
– Пусть остаётся, – махнул рукой художник. – Видишь, ей некуда идти.
– Нет у неё карточек! Врёт, как с письмом. Пусть уходит!
«Добрый! Он добрый, а она злая».
– На кого ты стала похожа, – прошептал он. – Так нельзя.
– Пусть уходит! Не хочу видеть детей!
– У меня есть карточки, – Варя достала карточки, которые взяла у почтальона. – Вот, смотрите, есть!
«Оставьте! Оставьте! Оставьте!»
Женщина принесла в кружке кипяток, а затем вытащила из комода кусочек хлеба. Тяжело опустившись в кресло, смотрела, как девочка, обжигаясь, пьёт воду.
– Сразу не глотай, разжёвывай.
Варя сунула пустую, ещё тёплую кружку под свитерок, забралась с головой под одеяло и тут же уснула. Ей снилось, что мама держит тёплую руку на её ввалившемся, постоянно мёрзнущем животике.
«Мамочка… Мамочка… Тёплая и добрая…»
Горбатый мост перекинулся через извилистую речушку, берег которой был усыпан жёлтым бисером болотных цветов. Босоногий мальчик пускал деревянные корабли. Прорываясь сквозь тучи, солнце ложилось бликами на ютившееся у озера селение. Дети бежали через поле, пуская в небо воздушного змея.
Варя попробовала лизнуть куст сирени.
– Девочка, не трогай картины! – вошла в комнату женщина.
Варя жила здесь уже неделю, но она никогда не звала её по имени.
«Когда же она покормит меня? Всё время хочется есть…»
Женщина подкинула в печку распиленные ножки стула. Варя помогала, подбирая с пола стружку, отдавала ей. Одну стружку, самую вкусную, сунула за щёку.
«Как хочется есть!»
– Есть хочется… – тихо сказала она.
«Она не кормит меня. Ест мою порцию».
Вошёл художник. Огонь в «буржуйке» заметался от принесённого из коридора холодного ветра.
«Он добрый. Он сейчас покормит меня. Как хочется есть».
Женщина разгладила руками скатерть, расставила тарелки, разрезала ножом буханку. А Варя, забравшись на высокий стул, завороженно смотрела на липкий, водянистый хлеб, мысленно взвешивала каждый кусок, прикидывая, поровну ли. Сняв с ножа прилипшую хлебную слизь, женщина тайком положила её в рот.
«Я маленькая, а они большие. А кусочки одинаковые. У меня ещё спрятан сухарик, но я его оставлю».
Женщина достала кастрюльку с варёной картофельной кожурой и тоже разложила по тарелкам, затем подсушила на печке хлеб.
«Мама всегда ела без меня. Я никогда не видела, как она ела. Интересно, мама тоже делила поровну?»
– Ешь медленнее, – сказала женщина. – Запивай водой.
– Я знаю.
Варя ела руками, тщательно облизывая пальцы. Как страшно ей было оставить хоть крошку. Она совсем стала похожа на маленькую старушку: кожа на лице натянулась, будто её не хватало, рот ввалился. А ей было пять лет. Пять лет и четыре месяца и двадцать один день. А счёт шёл не на дни, а на часы, на минуты. На оставшиеся до конца мгновения, которые отсчитывал метроном в такт ещё бьющимся сердцам.
«Как вкусно!»
Женщина уже не вставала, её больные, почти остановившиеся глаза со страхом смотрели на тени, повисшие над кроватью.
«И она тоже навсегда заснёт».
Варя заворачивала горячий чайник в тряпки и клала к ней в постель, как грелку, чтобы хоть немного согреть её.
Художник осунулся, почерневшее от усталости лицо больше не улыбалось, когда Варя рассказывала, что убьёт Гитлера.
«Бедный… Хороший… Мне так хочется есть. Всё время хочется есть».
Мужчина взял стулья, ещё не пущенные на растопку, и ушёл.
– Девочка… – позвала женщина.
«Мне не хочется подходить к ней. Она холодная».
– Возьми в шкафу тёплые свитерки. Твои уже дырявые.
В ворохе детской одежды, среди шапочек и штанишек, лежал самодельный деревянный конь, расписанный красными и жёлтыми цветами.
– Я сама вязала. Они мальчуковые, но какая разница.
«У них был ребёнок, который умер. И она тоже умирает. Потому стала добрая».
– Хочешь, возьми лошадку.
– Не хочу.
«Мама шила кукле Маше красивые платья. А когда началась война, мы с Машей поднимались на крышу тушить зажигалки. А потом кукла умерла от голода. Бедная Маша!»
Глубоко вдохнув, Варя начала быстро раздеваться.
«Холодно-холодно-холодно!»
Оставшись в маечке, натянула сразу три свитера, а сверху – пальто и шубку.
«Надо говорить „тепло“, и будет тепло. Тепло-тепло-тепло!»
Она пыталась застегнуть пуговицы, но замёрзшие пальцы не слушались.
– Иди ко мне, – позвала женщина.
«Мне не хочется подходить к ней».
С трудом приподнявшись, женщина застегнула Варе пуговицы.
– У вас был сын?
– Да.
– И умер?
– Его убили соседи.
«Если сварить всех плохих людей, то можно накормить всех хороших. Плохих людей не будет, а хорошие не будут умирать. Но есть людей плохо».
В дверь громко постучали.
– Девочка, узнай, кто там.
«Не люблю этот коридор. Тёмный и холодный. А за дверью напротив – мёртвая женщина. Она умерла уже давно, а её никто не забирает. Когда её заберут?»
На пороге стоял незнакомый мужчина. Варе он понравился, от него пахло едой. По-хозяйски незнакомец направился прямиком в комнату.
«Когда приходили гости, они принесли полкарамельки. А этот, наверно, принёс целую. Или даже две. Мамочка, хоть бы он принёс мне две карамельки!»
Мужчина нетерпеливо прохаживался по комнате.
– У вас даже стульев нет. Вы умираете! А можете спокойно пережить голод.
– Уходите.
– Глупо! Мёртвым не нужны семейные реликвии.
– Уходите!
Незнакомец достал из кармана шоколадную плитку, настоящую шоколадную плитку в блестящей золотой фольге. Чудо! Варя смотрела на шоколад, жадно вцепившись глазами в руку мужчины.
– Ваша девочка тоже умрёт.
– Уходите.
«Хороший. Добрый. Я отдам ей половину шоколадки, хочу, чтобы она поправилась».
– Подумайте. У вас мало времени.
Но он не оставил шоколад, а лишь отломил крохотный кусочек, который положил на стол.
– Закрой за ним дверь, – сказала женщина Варе.
«Она съест. Съест без меня».
Мужчина вышел, не обернувшись, шумно спустился по лестнице.
«Она съела без меня! Ничего мне не оставила».
Войдя в комнату, Варя кинулась к столу – шоколад лежал нетронутый.
«Сладкий-сладкий шоколад. Папа приносил мне его по праздникам. Я оставлю ей кусочек, чтобы она поправилась».
– Не трогай! – женщина зашлась в приступе кашля. – Выбрось его в печь! Не ешь!
«Мама тоже бредила, ей казалось, что в комнате чужие».
Варя сначала положила шоколад в рот, но, откусив, протянула женщине. Она резко замотала головой, отвернувшись к стене.
«Как жалко, что она умрёт!»
Художник вернулся поздно, когда уже начинало темнеть. Он вернулся без стульев, принёс за пазухой маленький свёрток. Варя набрала в чайник снег и поставила греться на печку, затем начала расставлять тарелки, как это раньше делала женщина.
– Варя, сегодня мы не будем есть, – сказал художник. – Хлеба не было.
Девочка убрала со стола.
«Скорее лечь спать, чтобы не хотелось есть! Пусть мне приснится что-нибудь вкусное».
– Это всё, что я смог обменять на стулья. На рынке очень много дров.
Художник развернул бумажный свёрток и протянул жене кусочек масла.
Варя подняла с пола стружку и положила в рот.
«Как же хочется есть. Мамочка, как хочется есть!»
Варя забралась на кровать и прижалась к женщине.
«Холодная».
– Возьми.
Женщина протянула бумажку из-под масла. Варя облизала.
«Когда война кончится, я буду много есть. У меня всегда будет хлеб, шоколад, масло и деревянная стружка».
За водой отправили Варю, а когда она вернулась, по радио объявили воздушную тревогу.
«В наш дом никогда не упадёт бомба!»
– Я принесла воду.
На месте старинных картин на стенах остались лишь ровные прямоугольники не выцветших обоев, пустые рамы были сложены на полу. Пахло едой. Художник сидел за мольбертом, но в руках вместо кисти у него была тарелка каши.
– Садись обедать, мы тебя не дождались, – сказала Варе лежащая на кровати женщина. – Только не ешь сразу много.
Девочка бросилась к заваленному свёртками столу и, хватая всё подряд, запихивала в рот кашу, сухари, неварёную крупу.
– Варя, Варя, не ешь сразу много!
«Неужели кончилась война?! Неужели кончилась война?!»
Женщина вдруг заплакала. Она перестала плакать, когда началась Блокада. Не плакала, когда сын выковыривал из щелей паркета хлебные крошки и ел их. Когда он пропал, и когда из комнаты соседей разнёсся по квартире странный сладковатый запах, и когда нечего было хоронить, и когда уже не из-за чего было плакать, и не было ради чего жить. И когда выживала – тоже не плакала, не плакала, не плакала.
«Неужели кончилась война?!»
А теперь плакала, и когда Варю вырвало.
«Как жалко, совсем ничего не осталось в животе!»
Ночью огонь в печке погас, в комнате стало холодно. Варя спрятала голову под одеяло и теснее прижалась к женщине. А та не могла остановить слёзы, которые маленькими колючими льдинками застывали на лице.
Через неделю она начала вставать, растапливала печь, грела воду, чтобы купать Варю.
«Ласковая, как мама».
Обледенелая кухня была заставлена вёдрами, бидонами, кастрюлями с невской водой. Художник распилил почти всю мебель.
На календаре был март – первый месяц весны, а в ленинградских домах продолжалась холодная, безжалостная зима.
«Если доживём до лета, то будем целыми днями лежать на солнышке и греться. Мамочка, хоть бы дожили!»
Художник распилил мольберт и положил доски в общую кучу дров.
– Здесь, здесь война! А ты бежишь! – женщина вдруг сорвалась на крик. – Тебе страшно! Там стреляют! Там не едят детей, там дети не едят опилки!