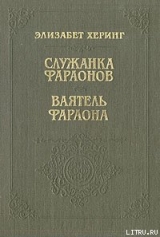
Текст книги "Служанка фараонов"
Автор книги: Элизабет Херинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Вдруг, еще вся во власти своих мыслей, я насторожилась. Голос Сенмута произнес, и произнес совершенно спокойно, как будто между прочим:
– А ты отправишься завтра на барке Хеви в каменоломни!
– Но ведь через десять дней Праздник долины! Я хотел…
– Тогда тем более тебе нужно ехать завтра же! Молча мы переправились на тот берег. Луна зашла. Река текла темная и спокойная. Кругом не было ни души. Никто не решался отправиться в путь ночью, ведь здесь каждого подстерегал Себек со своими подданными. У нас ожесточенно греб, я держала факел, Сенмут сидел на руле. Никто из нас не произнес ни слова.
На восточном берегу мы расстались с Унасом, который на своем челне отправился вниз по реке. Сенмут же открыл потайную калитку, ведшую в царский дворец, и впустил меня. Прежде чем отпустить меня, он крепко сжал мне руку и сказал:
– Я не знаю, о чем с тобой говорил Унас. Но что бы это ни было, не говори ничего Нефру-ра, если не хочешь навлечь беду на нее… да и на себя тоже!
Было уже очень поздно, ноги мои горели от усталости, а я все ворочалась на лежанке и не могла уснуть. Как бы мне хотелось распутать нити, которые плелись вокруг меня, как бы хотелось узнать, о чем говорили за закрытыми дверями!
Состоится ли примирение? И если да, то какой ценой? Нефру-ра… и Тутмос? Не будет ли провозглашена их помолвка на Празднике долины? Аменет твердила, что это был единственный выход, который разрешал бы все трудности и разогнал грозные тучи. Может быть, поэтому и отослали Унаса?
Хатшепсут? Значит, ее удалось переубедить? Не воспользовались ли Аменет и Пуэмра отсутствием Сенмута, а остальное довершили бессонные ночи? Примирение! Но тогда какое солнце вставало, а какое заходило? Кто будет давать распоряжения о налогах, выносить приговоры, назначать чиновников словом, править? Или же одно то, что сын Исиды принес жертву своему покойному отцу, решило все?
Какое мне до этого дело? Тутмос приносит жертву! В храме Амона! И Мерит поет… в храме Амона!
С этими мыслями я, наконец, уснула.
Хотя на следующий день мы рано отправлялись в храм, мне еще нужно было успеть сходить к садовнику за цветами и сплести венки для Нефру-ра и для себя. Хатшепсут распорядилась, чтобы ее дочь чаще выполняла свои обязанности в храме. Она опасалась, как бы на празднике систр не оказался для царевны слишком тяжелым, если ее руки не привыкнут держать и покачивать его.
Вскоре после восхода солнца Пуэмра забрал нас и повел к священному озеру, в котором супруга бога принимала очищение и в которое должна была окунуться и я, ибо служить божеству не дозволено никому, у кого на теле есть хотя бы крошечное пятнышко.
Затем мы вошли в одну из комнат, которые находятся позади святая святых. Там мне предстояло надеть на супругу бога украшения и головной убор в виде коршуна, что она неохотно позволила мне сделать.
Когда мы были готовы и собирались выходить, в дверях показался молодой жрец.
– Вам придется еще немного подождать, – сказал он, – статуя бога еще не одета.
Тысячу раз за эту ночь я рисовала в своем воображении тот миг, когда он окажется передо мной… и узнает меня… и скажет мне: «Ты Мерит! Я не забыл тебя!» Но он не посмотрел на меня, а когда я попыталась остановить его взглядом, он уже исчез.
– Это… сын Исиды? – спросила Нефру-ра, когда он вышел.
А я ответила:
– Не знаю, – и опустила глаза.
Я думала, что в этот день буду петь, как никогда еще не пела, но мой голос казался мне самой чужим. Один раз я даже запнулась, забыв следующее слово, так что все взоры обратились на меня, и я чуть не сгорела со стыда. Но это прошло, а молодой жрец больше не показывался.
Через несколько дней я взяла с собой лютню, которую до сих пор не приносила в царский дворец. Я сидела в отдаленной части сада, наигрывала одну из чужеземных мелодий и пела слова, которые мне приходили в голову, потому что я не запомнила чужих, непонятных слов:
Ты не смотришь на меня,
Хотя я стою перед тобой,
И не узнаешь меня,
Хотя я с тобой говорила,
А ведь все мои мысли были о тебе!
Ты не ищешь моего взора
И не читаешь в нем,
Ты не спрашиваешь меня,
Как я спала,
А ведь я не смыкала глаз всю ночь!
Ты не замечаешь,
Как красиво я нарядилась,
Ты не видишь
Венка в моих волосах
А ведь все цветы я рвала для тебя!
Не могу сказать, долго ли я ждала, пока он дал мне о себе знать в первый раз. Для меня это была целая вечность, но, вероятно, прошло всего несколько дней, потому что это случилось еще до Праздника долины. Хор уже закончил службу в честь богини, танец утомил меня, я села, прислонившись к стене, и закрыла глаза… и тут внезапно почувствовала, как чье-то горячее дыхание обожгло мой затылок. Я быстро обернулась.
– Приходи сегодня вечером к первой смоковнице! – прошептал он и в тот же миг прошел мимо, не обращая на меня никакого внимания, как будто и не видел меня.
К первой смоковнице? Это могла быть только одна из тех смоковниц, что росли на берегу Реки, куда примыкал дворцовый сад.
Как только все улеглись, я выскользнула из каморки. Счастье, что теперь не было рядом Небем-васт – моя нынешняя соседка спала очень крепко. Но я ждала напрасно. Он не пришел!
Глубоко обиженная, я после полуночи вернулась в свою каморку – на окнах не было решеток, а я уже давно научилась пользоваться как ступенькой выступом стены. Застонав, я упала на постель. На следующий день я видела его только издали и поклялась себе никогда больше не подходить к той смоковнице. Но когда все в доме уснули, я напрасно ворочалась на лежанке, и в конце концов ничего не смогла с собой поделать. Как по принуждению, от которого невозможно уклониться, я поспешила на условленное место.
Луна уже шла на убыль и еще не взошла. Забыв о всякой осторожности, я бежала как одержимая. У смоковницы я остановилась, прислонилась головой к ее растрескавшейся коре, как бы ища у нее поддержки, и тяжело дышала.
И тут как будто весло ударило по воде. Я испуганно спряталась за широкий ствол, так чтобы меня не было видно со стороны Реки, и тогда услышала свое имя, и две руки втянули меня в лодку.
– Я знал, что ты придешь… и сегодня тоже!
Он греб против течения. Теперь я не могла удержаться от слез, чтобы выплакать все упрямство, и все разочарование, и всю тоску, и всю ярость, и свой гнев на себя за то, что я была полна тоски, и так разочарована, и так упряма… и за то, что даже стыд не удержал меня и я откликнулась на его зов.
Околдовывал он, что ли, людей? А может, все колдовство заключалось в том, что он носил корону? Но сегодня-то короны на нем не было, и уж тем более не было ее в тот день, когда он нарядился гребцом! И не было у него надо лбом золотого венца со змеей!
Он не мешал мне плакать. Не пытался утешить. Он сказал:
– Если ты станешь моей возлюбленной, ты узнаешь много горя, – и прибавил: – ты подвергаешь себя большой опасности, потому что, если Хатшепсут догадается о твоей любви, она прикажет убить тебя. – Затем спросил: – Ты умеешь лгать – каждым словом, каждым движением, каждой улыбкой, глазами и походкой? И ты сможешь, несмотря на это, быть со мной всегда правдивой?
Я не ответила на его вопросы. Тогда он сказал:
– Я слышал, как ты поешь. Тогда я подумал, что ты умеешь все это и что ты как раз такая, какой должна быть женщина, которая будет моей возлюбленной. – И наконец он сказал: – Я ведь тоже узнал тебя, Мерит-ра!
Тогда в первый раз он произнес так мое имя, и никогда никто другой, кроме него, не называл меня им:
Мерит-ра! Возлюбленная Ра!
Было ли оно теперь моим большим именем?
Да, но Ра был моим солнцем, которое неизменно всходило для меня, будь вокруг даже ночь! И я бы поднялась с ним на любой небосклон, а когда для этого пробьет час, ни минуты не колеблясь, последовала бы за его ночной ладьей.
В это время я узнала, что такое любовь и что такое ненависть. Не то чтобы я ненавидела Нефру-ра, когда на Празднике долины она стояла при всех своих регалиях великой царской жены рядом с Тутмосом. Я переживала вместе с ней как сестра. Я не завидовала ей.
Раньше обычного царственные жены пожелали отправиться на носилках домой, и Тутмос остался один с гостями в Вечном жилище своих предков. В воздухе висел дым от жертвоприношений и запах вина, которое в больших кувшинах разносили присутствовавшим на празднике. Но Сенмута среди них не было.
Я описала Тутмосу то место, где в скалах были прорублены подземные штольни, а также камень, который нужно было отодвинуть в сторону. Потом, когда дух вина подчинил себе головы, я незаметно выскользнула из зала, где еще продолжали петь и танцевать. С большим трудом с помощью палки я подвинула камень на ширину ладони и протиснулась в темный коридор. Там я сидела и дрожала, потому что в узкую щель проникал холодный ночной воздух, а углубляться в жуткую, недостроенную гробницу, вызывающую ужас, мне было страшно. Может, это вовсе и не гробница? Может быть, этой дорогой Анубис вел преображенных в царство Осириса? Может быть, по ней ходили души умерших царей, посещавших свои тела в Вечном жилище?
Никакая сила на свете не заставила бы меня добровольно прийти в это жуткое место, кроме одной: где же иначе найти тот уголок между небом и землей, которому позволено видеть нашу любовь?
Долго сидела я там, бледная как полотно. Наконец, заскрипел песок. Пока шаги приближались, мне внезапно пришла в голову мысль, что ведь не только Унасу могло быть известно это потайное место! А что если сам Сенмут?.. Кровь застыла у меня в жилах, но убегать было уже поздно.
Я была близка к обмороку, когда руки Тутмоса коснулись моих плеч. Значит, все было хорошо, а раз так, то забыты все страхи, прошли все ужасы!
Хотя он и отдал должное вину, но пьяным не был, потому что его крепкая натура выдерживала больше других. Я еще никогда не видела его таким разговорчивым, и он не страшился мертвых царей!
Не боялся он и здравствующих! Как бы Хатшепсут ни подчеркивала свою власть! Как бы ни хотела запугать его своей надменностью!
Ложью было все то, что она приказала высечь на стенах храма! Начиная с изображения ее рождения вплоть до коронования! Будто бы сам Амон в образе ее отца приблизился к ее матери и зачал ее? Ну и умен, должно быть, тот жрец, который придумал эту легенду о рождении царицы! А сколько золота дали за это цари его храму! И возвысился Амон над всеми богами державы, и возвысился дом царя над всеми великими домами державы. Есть ли еще кто-нибудь, кто не получает свое дыхание от царской милости? Где теперь род тех царьков, которые хозяйничали в своих владениях и ни в чем не отчитывались перед фараоном? Кто еще вспоминает о них, о тех, кого нельзя было сместить, кто всегда наследовал своим отцам и кто сделал царя первым среди равных?
Хорошо, что их время прошло! И наступило время царей! Хорошо, что люди верят сказкам жрецов!
Но он – разве и он должен был позволить затуманить свой ясный разум такими вот историями? Позволить убедить себя, что Хатшепсут тоже получила Нефру-ра от самого Амона? Ну что ж, если это правда, то ему остается только надеяться, что бог приблизился к ней по крайней мере в образе ее супруга, его отца, а не в образе Сенмута, друга детства и домоправителя!
Сказав это, он громко рассмеялся и произнес такие богохульные слова, каких мне еще никогда не приходилось слышать. Мне казалось, что слушать их было еще неприличней, чем произносить, и я попыталась отвлечь его песней, но властным жестом он заставил меня замолчать.
– Неправда, – сказал он громче, чем это было нужно, – что она была коронована еще своим отцом! Кого он назначил своим наследником, так это сына – моего отца, а она была лишь великой царской женой – великой, но не любимой, потому что сердцу отца была ближе моя мать!
Будто бы мой дед сделал ее фараоном и сказал:
«Тот, кто ее прославит, будет жить. Тот же, кто опорочит Ее Величество, умрет. А тот, кто услышит, что кто-то неподобающим образом отзывается о Ее Величестве, должен тотчас же сообщить об этом царю, как это делается по отношению Моего Величества!..»
Она сама провозгласила себя царем, а слова эти угрожают мне! Ну что же, теперь иди и сообщи, что я тут говорил! Иди же к ней и выдай меня!
Не опьянел ли он в конце концов? Что он, не знает, с кем говорит?
– Произошло чудо! Амон вышел из своей ладьи и повел ее к трону царей, где собственноручно возложил ей на голову красную и белую корону?
Все это выдумал Хапу-сенеб, которого она вскоре и вознаградила, сделав его первым пророком храма Амона, а также Сенмут, ее любимчик, который поднялся вместе с нею – правда, не на престол, но чуть ли не выше! Ведь это с ее согласия он руководит ею, она всего-навсего женщина и даже царская борода на ее лице не способна сделать ее мужчиной!
О, как я его ненавижу, этого любимца, который в своей заносчивости зашел так далеко, что приказал устроить тайную гробницу здесь, под храмом царей, отошедших к Осирису! Или ты думаешь, я не знаю, где мы с тобой находимся? Я вижу его насквозь! Он и после смерти, как и при жизни, хочет быть рядом со своей госпожой, вкушать вместе с ней жертвы, которые ей приносят, а теперь пробирается по этой подземной штольне в то священное место, которое принадлежит только царям! Но он мне за это заплатит! Я уж позабочусь о том, чтобы он никогда не попал в это Вечное жилище!
А теперь я еще должен жениться на Нефру-ра? Божественная супруга царской крови, чей супруг становится царем? Я этого не хочу! Я хочу иметь жену, которая станет божественной супругой как супруга царя, как моя супруга!
Голос Тутмоса эхом отдавался от стен. Когда же внезапно наступила тишина, она испугала меня больше, чем громкие, страстные слова. Казалось, что теперь должен прозвучать ответ на все эти язвительные речи. Может быть, раздастся смех Сета, рыжеволосого Сета, бога ненависти? Ведь мы находились в его владениях и вокруг нас была пустыня!
Те ладановые деревья, которые сохранили жизнь благодаря росе Хатхор и распространяли свой аромат в долине смерти, не могли разубедить меня в том, что ни один росток жизни не способен произрасти там, где властвует Злодей.
Пока Тутмос говорил, я невольно отодвинулась от него. Какое-то время мы сидели молча, отделенные друг от друга полоской холодной земли. Но теперь нас окружала глубокая тишина, и неожиданно он сказал мне более мягко:
– Спой, Мерит-ра!
И взял меня на колени.
Ты знаешь, Рени, что жрецы живут не возле храма, а на берегу Реки, в собственных больших домах, окруженных прекрасными садами. Тутмосу же не отвели один из этих домов, его поселили во флигеле во дворце, «чтобы было легче наблюдать за мной», как он говорил.
Ему выделили слуг, кравчего, стольника, опахалоносца, главного смотрителя за платьем и кого-то там еще, кто неизменно находится при царях. Сенмут сумел устроить на службу к царевичу многих из своих людей, чем Аменет была весьма недовольна. Не могу сказать, испортились ли отношения между царицей и ее любимцем после переезда Тутмоса, ибо Сенмут делал хорошую мину при плохой игре и поддерживал в царице убеждение, что все то, о чем она распорядилась в его отсутствие, отвечало его намерениям. Этим он еще раз выбил оружие из рук своих противников.
К столу царицы Тутмос не приглашался. Я очень редко встречала его во дворце. Но и эти столь желанные для меня встречи всегда были мукой. Склоняясь перед ним, я никогда не могла хотя бы мимоходом поймать его взгляд. Я бы много отдала, чтобы мое сердце билось спокойно, а лицо было так же невозмутимо, как его собственное. Но я совершенно терялась при нем, и чем больше самообладания он от меня требовал, тем сильнее я переживала, и это душевное напряжение причиняло мне огромные мучения.
Тутмоса не могли обойти только в совершенно торжественных случаях, когда собирались все сановники столицы, чтобы показать свою преданность правящему дому или решить важное государственное дело. Тогда он восседал на своем троне, стоявшем ниже трона его царственной мачехи, и высокая двойная корона Обеих Земель украшала его голову. Но распоряжений он не отдавал.
Однажды во время такого торжественного собрания случилось, что заболела певица царицы, а поскольку она не могла выступить, ей стали подыскивать замену. Как обычно, я стояла за стулом Нефру-ра, ожидая ее знаков, и не смела поднять глаза и взглянуть на оба трона, но я с мучительным удовольствием представляла себе волевое лицо царя: его широкий нос, полные губы, властные глаза. Поэтому я не сразу поняла, что брошенное Сенмутом замечание: «Мы можем не искать далеко, вон там стоит певица Амона» – относится ко мне.
Я покраснела, почувствовав обращенные на меня взоры. Какое-то мгновение я стояла в растерянности, и Сенмуту пришлось еще раз сделать мне знак, прежде чем я решилась покинуть свое место. Но тут я ощутила такое вдохновение, меня охватил такой дерзкий порыв, что у меня закружилась голова. Казалось, кто-то диктует мне свою волю. Я пробежала между рядами гостей, изумленно смотревших мне вслед, мимо арфистов и флейтистов, которые уже взялись за свои инструменты и приготовились сопровождать мое пение, а когда я вернулась, то держала в руках лютню.
Я жестом отклонила услуги музыкантов, которые с удивлением покачали головой и опустили руки, провела по струнам своего инструмента и запела:
На другом берегу он стоит,
Вода шумит и бурлит.
Крокодил лежит на песчаной отмели.
Он машет мне руками,
А у меня нет лодки.
Крокодил лежит на песчаной отмели.
Он громко зовет меня по имени,
Но у меня нет крыльев.
Крокодил лежит на песчаной отмели.
Ты, страшилище глубин,
Отдаю тебе свою правую ногу,
Только пусти меня к возлюбленному!
Ты, страшилище глубин,
Отдаю тебе свою правую руку,
Только пусти меня к возлюбленному!
Не хочу твоей правой ноги,
Не хочу твоей правой руки,
Хочу проглотить тебя целиком!
Тогда ты сможешь подождать его,
Подождать своего любимого
Там, где для вас не будет расставания!
Я целиком отдалась пению и под конец так ушла в себя, как будто меня действительно схватил ненасытный. Едва ли я заметила, что прошло какое-то время, прежде чем со всех сторон раздались рукоплескания, царица бросила мне цветок лотоса из букета, который ей подарил паж.
Но когда умолкли возгласы и немного улеглось мое замешательство, я услышала, как громкий, звучный голос произнес холодно и невозмутимо:
– Это одна из тех песен, что поют девки, которые приходят из презренного Речену, они не подобают певице Амона!
Я стояла как будто пораженная громом. И это сказал он, сам Тутмос, и сразу же спокойно повернулся к одному из слуг! В это время Хатшепсут чтобы не показывать, как она была раздосадована тем, что присутствовавшие жрецы закивали в знак согласия с молодым царем, – с равнодушным видом взяла стоявший перед ней кубок и пригубила от него, как будто ничего не произошло.
Я взяла лютню и вышла из зала. Меня никто не удерживал, а арфисты и флейтисты начали медленно и чинно играть старинные мелодии, провожая меня торжествующими взглядами, пока я не скрылась за колоннами.
Этот случай так глубоко задел меня, что я решила больше не ходить к смоковнице. Может быть, нечаянно я попала своей песней прямо в цель. Может быть, действительно было бы лучше тихо и незаметно погрузиться в реку, а поджидавшая меня там пасть оказалась бы не такой жестокой, как…
Нефру-ра тоже вернулась в свою комнату до того, как все встали из-за стола, а когда я предложила ей свои услуги, она отослала меня. Как только я могла спеть эту песню, которая причинила ей, должно быть, такую же боль, как мне слова царя?
Спустя несколько дней царица одна, без свиты, пришла в покои своей дочери. Аменет как раз отсутствовала, о чем, я думаю, Хатшепсут знала, и это было ей кстати. Я не знаю, отослала ли она меня только потому, что хотела побыть наедине с дочерью, или действительно должна была передать срочное послание – во всяком случае, она сунула мне в руку полоску папируса, свернутую и скрепленную печатью, и сказала: «Отнеси это сыну…» Исиды, вероятно, хотела она сказать, но в последний момент удержалась от этих пренебрежительных слов и добавила: «царя».
Папирус жег мне руки. Казалось, длинные коридоры и дворцовые залы с колоннами не кончатся. А потом мне еще пришлось выйти в полуденный зной внутреннего двора, потому что покои Тутмоса находились на противоположном конце дворца – и мое сердце бешено стучало, хотя я уже сто раз говорила себе, что он просто возьмет у меня из рук папирус и знаком даст понять, что я могу идти.
Произошло же нечто иное. Вообще для моих отношений с Тутмосом было примечательно, что всегда происходило противоположное тому, что я представляла – на что надеялась или чего опасалась.
Когда я вошла в комнату, царь был один. Он сидел и читал свиток. Услышав шаги, он не взглянул на меня, а только сказал:
– Хорошо, Руи! Поставь таз с водой вон там!
– Это не Руи… – ответила я тихо, – это Мерит!
Его лицо покраснело от гнева.
– Разве я тебе не говорил…
– Меня послала царица, чтобы вручить вот это! – Я собиралась уже отвернуться, чтобы скрыть слезы.
– Царица… послала тебя… ко мне, Мерит-ра? – Его голос звучал совсем по-другому. Он взял меня за руку. – Значит, не напрасно я обидел тебя… на днях… а ты пела чудесно!
Он поднял меня обеими руками высоко в воздух и понес в альков, где за тяжелыми занавесями стояло его ложе.
– Поставь таз там! – крикнул он, услышав, что идет слуга. – И можешь идти, ты мне сегодня больше не нужен!
Он вышел еще раз в переднюю комнату, чтобы убедиться, не остался ли там Руи и не подслушивает ли он. Я ждала его с бьющимся сердцем, а он, оказавшись передо мной, начал петь. Хотя голос у него был звучный и мужественный, но слух не совсем точный, и это делало его пение удивительно трогательным:
На другом берегу я стою.
Я хочу перебраться к возлюбленной.
Крокодил лежит на песчаной отмели.
Я бросаюсь в воду,
Я плыву через волны.
Сильной рукой я разрезаю поток.
Потому что страху нет места
В том сердце,
Где поселилась любовь!
Любимая, ты уже расцветаешь
В моих объятиях,
Как красный лотос!
– Ну вот, – сказал он, кончив петь, – теперь ты сделала из меня певца любви! Высокая должность! – Он засмеялся. Это прозвучало чуть ли не сердито.
С тех пор царица постоянно посылала меня к Тутмосу с каким-нибудь поручением. Он утверждал, что она хотела через меня побольше выведать о нем, и всегда давал мне совершенно точные указания, что мне сообщать царице. Еще он говорил: она потому посылала меня, что была уверена в моей ненависти к нему; ведь ни одна женщина не способна простить, если задето ее тщеславие; а теперь я должна понять, почему он произнес тогда эти обидные слова. Да, я поняла и простила, но эти его слова еще и сегодня я не могу вспоминать без боли.
Но даже они не так огорчили меня, как другое его замечание. Тутмос произнес его не при всех, да оно и не предназначалось для моих ушей, но впервые заронило в мою душу сомнение, так ли уж искренно он относится ко мне. Однажды меня снова послали к Тутмосу; я застала царя за игрой в шашки с одним из его друзей. Я уже не раз видела здесь этого человека, который не занимал никакой должности при дворе и был всего лишь сыном мелкого военного писца из провинции. Но я знала также, что не должна называть царице его имени, а если – как часто это бывало – она спросит, кто был у царя, назвать кого-нибудь другого. Однако, выходя, я невольно замедлила шаг, просто чтобы подольше послушать звук его голоса, и услышала, как его друг сказал:
– Я уже не раз видел эту девушку у тебя. А тебе известно, что она пользуется доверием Нефру-ра и царицы?
– Я знаю это, – ответил Тутмос, – и именно поэтому я с удовольствием вижу ее у себя.
Именно поэтому? Именно поэтому? Не выведывал ли он у меня о Сенмуте и Нефру-ра и о царице точно так же, как царица расспрашивала меня о нем? Может быть, именно по этой причине он?..
В тот день я потеряла свою непосредственность в отношениях с ним и, сколько потом ни старалась, так и не смогла полностью обрести ее вновь. Если до сих пор, когда меня посылала царица, я спешила к нему, как голубка в свое гнездо, то теперь я не могла войти к нему в комнату, не замедлив шага. Если прежде я, не задумываясь, отвечала на все его вопросы, то теперь каждый раз мне приходилось обдумывать: «Каковы истинные причины, почему он хочет это знать?» И даже в наши ласки, в наши поцелуи и объятия примешивались теперь горькие капли. Не повторялись ли все чаще мгновения, когда в редкие часы нашего уединения у меня появлялось ощущение, что соприкасаются только наши тела, души же остаются чужими?
Царь любил охотиться на птиц. Иногда ему удавалось отделаться от сопровождавших его пажей, а я ждала его на условленном месте в речных зарослях. У моего брата была лодка, которой я могла пользоваться: мы ставили обе лодки рядом и я перепрыгивала к нему.
Чтобы не привлекать внимания, я никогда не пела. Мне приходилось садиться на корточки у его ног, а рядом стояла наготове связка тростника, чтобы прикрыть меня при любом подозрительном шуме. Однако обычно слышались лишь пронзительные крики птиц, испуганно летавших перед своими гнездами, да писк птенцов, звавших матерей. То и дело рядом с нами лениво показывалась из воды голова бегемота, открывалась огромная пасть. Но как только царь хватался за гарпун, я отводила его руку. Зачем убивать то, что радуется жизни?
– Значит, Мерит-ра, жизнь радует тебя?
Нет, за этим вопросом не крылось ничего, кроме легкой грусти. Но разве существовал вообще кто-то, кому бы не нравилось жить? Разве каждый день не светит солнце, разве над водой не пробегает свежий ветерок и разве не стало бы легче у нас на сердце, если бы… да, если бы…
Я не отвечала, а лишь молча приникала к нему. Мы связали оба наши челнока – мой позади, на буксире – и без весел скользили по воде, следуя за слабым течением, замедляемым зарослями папируса и тростника. Мы плыли почти бесшумно и могли наблюдать за миром птиц, ничем не тревожа его.
– Посмотри, – говорила я, когда нос челнока прокладывал путь через густые заросли тростника и перед нашим взором внезапно представала молочно-белая цапля, сидевшая на своем гнезде.
Мы долго любовались ею. Она, по-видимому, не замечала нас. Птица сидела совершенно спокойно, и только потому, что она время от времени поворачивала голову, было ясно, что она не спит. Интересно, высиживала ли цапля яйца или птенцы уже вылупились и теперь грелись под крылом матери?
Я так ушла в созерцание этой птицы-матери, что почувствовала себя с ней почти единым целым. Не то чтобы в моей душе пробуждались мысли о ребенке, который тоже когда-нибудь будет прижиматься ко мне и искать у меня защиты. Нет! Мне кажется, в тот момент я вообще ни о чем не думала. Я только чувствовала себя – а это случается у людей очень редко – как бы вписанной в одно большое целое, чувствовала святость животных, святость матери-земли, чувствовала свою слитность с водой, землей и зверем. И тут просвистела метательная дубинка. Ее бросил царь. Птица упала головой вперед. Она была мертва.
Я подгребла веслом к гнезду, подняла из него цаплю и протянула ее Тутмосу.
– Твое оружие всегда попадает в цель, – без всякого выражения произнесла я.
Потом я наклонилась над гнездом. Там было четыре яйца. Одно за другим я подняла их в лодку. Птенцы должны были вот-вот вылупиться. В трех из них мне не удалось пробудить жизнь, но четвертый уже проделал своим маленьким клювом отверстие в скорлупе. Я освободила его из скорлупы и согрела своим дыханием. Он зашевелился.
– Как ты думаешь, могу я вернуться с охоты без добычи? – спросил Тутмос таким тоном, как будто хотел отклонить мой упрек.
Но разве я упрекала его? Я просто держала в ладонях горсточку жизни и дула на пушок, боясь, как бы она не угасла.
– Если бы я был художником, Мерит-ра, то изобразил бы тебя сейчас на картине, – неожиданно сказал царь изменившимся голосом. Потом он отвязал мой челн, помог мне перебраться в него и сказал:
– Греби домой! И попытайся его вырастить! В следующие недели я избегала его. К счастью, Хатшепсут тоже не давала мне поручений к нему, и я снова могла быть чаще с Нефру-ра. Мне стоило большого труда развеселить ее, я показала ей птенчика, сказав, что купила его за несколько фиников у какого-то мальчишки. Аменет бранилась, когда птенец чистился, но царевне нравилось, как грациозно он доставал корм своим длинным клювом. Мне же посчастливилось его вырастить. Он сменил свое детское платье и стал великолепным самцом, получившим право жить в нашем внутреннем дворе. Он веселил царевну своими забавными манерами, и это пошло ей на пользу.
Однажды, после утренней службы в храме, я, как обычно, относила систры в кладовые, где они хранились. Уже издали я услышала какой-то монотонный голос, который то пел, то говорил и, казалось, проникал из самых глубин храма. Никому из нас не разрешалось входить в это помещение, где стоит статуя бога и приносят жертву только царь и верховный жрец. Но я узнала этот голос, и меня неодолимо потянуло нарушить запрет, как если бы мне пришлось вызывать какую-то неземную силу и добиваться решения, которое положило бы конец невыносимому для меня положению, – так или так.
Я не стала подходить ближе, чтобы расслышать слова. Я осталась в тени колонн, съежилась в какой-то нише и едва дышала.
Царь молился.
Славься, око Хора, великое, белое,
Чью красоту восхваляют Девять богов,
Когда оно встает на восточном небосклоне!
Но ведь речь не могла идти об Амоне?
Славься, око Хора,
Которое снимает головы спутникам Сета!
Но о ком же тогда шла речь?
Я возложил тебя себе на голову,
Чтобы возвыситься через тебя,
Чтобы велика была моя власть над людьми!
Не своей ли короне он молился?
Но посмотри, ты спишь,
Ты не бодрствуешь,
А мои враги насмехаются надо мной!
Уж не заклинал ли он змею-урея в своей короне?
Бодрствуй, проснись, змея, повелительница сияния!
Иди на тех, кто противится мне!
Пошли смерть на тех, кто стоит на моем пути!
Нагрянь на них, подобно молнии!
Истреби их своим огненным дыханием!
Порази их, как Хор своих врагов!
Ибо имя твое – «владычица власти»,
И страх перед тобой должен поселиться в тех,
Кто желает мне зла.
И уничтожить их под моими ногами!
Уж не змея ли ползла, не она ли шуршала? Или это был лишь шум моих шагов, хоть и ступала я очень тихо?
Меня никто не заметил.
Соседние комнаты и коридоры были пустынны. Тем не менее я мчалась мчалась, как если бы за мной по пятам гнался мой смертельный враг!
Странно, но никто в целом дворце не говорил о свадьбе супруги бога с царем, даже Аменет. Может быть, ее отложили на неопределенное время? Или ее совершат во время праздника Сед царицы, так сказать, чтобы придать ему еще больше блеска, если это вообще было возможно?
Праздник Сед, тридцатая годовщина ее царствования, приближался.








