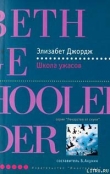Текст книги "ПРЕДАТЕЛЬ ПАМЯТИ"
Автор книги: Элизабет Джордж
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Глава 3
– Просто не представляю, как официантка тут справилась, а ты? – спросила мужа Фрэнсис Уэбберли. – Конечно, нас она вполне устраивает, наша кухня. Вряд ли нам пригодилась бы посудомоечная машина или микроволновка. Но рестораторы… Они же привыкли ко всем этим современным штучкам. Вот, наверное, удивилась бедная женщина, когда приехала и увидела, что мы живем практически в средневековье!
Сидящий за столом Малькольм Уэбберли не ответил. Он слышал преувеличенно бодрые рассуждения жены, но его мысли были не здесь. Чтобы избежать необходимости участвовать в разговоре с кем бы то ни было, он решил начистить свою обувь. Он рассчитывал, что Фрэнсис, знавшая его уже более тридцати лет и осведомленная о его нелюбви делать два дела одновременно, увидит его за этим скромным занятием и оставит в покое.
Он очень хотел, чтобы его оставили в покое. Хотел этого с того момента, как услышал голос Эрика Лича в телефонной трубке: «Мальк, извини за поздний звонок, но у меня для тебя новости», за которыми последовала история смерти Юджинии Дэвис. Ему нужно было побыть наедине с собой, чтобы разобраться в охвативших его чувствах. И хотя бессонная ночь рядом с похрапывающей женой предоставила ему несколько часов уединения, чтобы подумать над тем, какой эффект возымели на его жизнь слова «наезд и побег с места происшествия», он не сумел воспользоваться ими. Все, на что он был способен, – это вспоминать, какой он видел Юджинию Дэвис в последний раз, когда ветер с реки разметал ее белокурые волосы. Выходя из своего коттеджа, она всегда покрывала голову шарфом, но во время их прогулки шарф сбился, и, пока она снимала его, складывала и вновь повязывала на голове, ветер раскидал по ее плечам светлые локоны.
Он тогда заторопился сказать: «Может, не нужно повязывать шарф? С солнцем в волосах ты выглядишь такой…»
Какой? Красивой? Да нет, в те годы, что он знал ее, она не отличалась особенной красотой. Молодой? Они оба уже лет десять как перевалили через экватор жизни. Уэбберли решил, что на самом деле он хотел сказать, что выглядит она умиротворенной. Солнечный свет в растрепанных ветром волосах создал ореол над ее головой, напомнивший ему о серафимах, то есть о спокойствии. Но, еще не успев произнести это слово, он осознал, что никогда не видел Юджинию Дэвис умиротворенной. И даже в тот миг – несмотря на фокус с нимбом, созданным солнцем и ветром, – в душе ее не было покоя.
Вновь размышляя над этим, Уэбберли тщательно размазывал крем по коже ботинка. Сквозь воспоминания до него донесся голос жены – она все еще что-то говорила ему:
– …отлично справилась, надо сказать. Но слава богу, что было темно, когда бедняжка приехала, потому что неизвестно, как бы она смогла работать после лицезрения нашего сада. – Фрэнсис печально рассмеялась. – «Я все еще надеюсь, что когда-нибудь у нас будет пруд с лилиями», – сказала я леди Хильер на вчерашней вечеринке. А они с сэром Дэвидом, представляешь, планируют устроить джакузи в зимнем саду. Ты знал про это? Я сказала ей, что джакузи в зимнем саду – отличная идея для тех, кому нравятся подобные вещи, а лично для меня нет ничего лучше, чем небольшой пруд. «И когда-нибудь он обязательно будет у нас, – так я сказала ей. – Раз Малькольм сказал, что сделает, значит, сделает». Само собой, нам придется нанять кого-нибудь, чтобы выкосить сорняки и вывезти с участка ту старую газонокосилку, но уж про это я не стала говорить леди Хильер…
«Своей сестре Лоре», – мысленно поправил ее Уэбберли.
– …потому что она все равно не поняла бы, о чем я толкую. Она держит садовника еще с… уж и не помню, с какого года. Но когда у нас будут время и деньги, мы обязательно устроим в саду пруд, правда?
– Вполне возможно, – ответил Уэбберли.
Фрэнсис поднялась из-за стола в тесной кухоньке и подошла к окну, выходящему в сад. За последние десять лет она стояла возле этого окна так часто, что на линолеуме появилось вытертое пятно в форме двух отпечатков ног, а на подоконнике – отметины от пальцев, где она часами сжимала крашеное дерево. О чем она думала, стоя так час за часом, день за днем, гадал ее муж. Что она пыталась сделать – и не могла? Словно подслушав его мысли, Фрэнсис произнесла:
– День сегодня солнечный. По радио обещали дождь после обеда, но, похоже, они ошиблись. Знаешь, пожалуй, я выйду и немного поработаю в саду.
Уэбберли поднял голову. Фрэнсис, почувствовав на себе его взгляд, повернулась к нему от окна; одной рукой она все еще цеплялась за подоконник, а другой сжимала отворот халата.
– Думаю, сегодня у меня получится, – сказала она. – Малькольм, я почти уверена в этом.
Сколько раз она говорила эти слова? Сто раз? Тысячу? Уэбберли уже и не помнил. И всегда с той же смесью надежды и самообмана. Она собирается поработать в саду. Она прогуляется по магазинам после обеда. Она намерена дойти до Пребенд-гарденс и посидеть там на скамеечке. Или сводит Альфи на прогулку. Или даже зайдет в новую парикмахерскую, которую все так хвалят… Сколько добрых и честных намерений, сведенных на нет в последний момент, когда перед Фрэнсис неумолимо вставала дверь. И как бы она ни старалась (а она старалась, Бог свидетель, как она старалась), она не могла заставить свою правую руку хотя бы взяться за дверную ручку.
Уэбберли проговорил:
– Фрэнни…
Она торопливо перебила его:
– Вечеринка все изменила. Вчера пришло столько друзей… все так хорошо относятся к нам. Я чувствую себя как… как надо, вот как я себя чувствую.
Появление Миранды спасло Уэбберли от необходимости отвечать.
– А-а, вот вы где, – сказала она и, уронив на пол футляр с трубой и тяжелый рюкзак, подошла к плите, где растянулся на своем одеяле Альфи – помесь немецкой овчарки, который никак не мог прийти в себя после вчерашнего празднования.
Миранда потрепала пса между ушами, и тот радостно перевернулся на спину и подставил живот для дальнейших ласк. Она верно истолковала его желание и даже пошла дальше, чмокнув собаку в морду и получив в ответ мокрый поцелуй.
– Дорогая, это так негигиенично, – укорила ее Фрэнсис.
– Это собачья любовь, – ответила Миранда, – чище которой, как мы все знаем, на свете не бывает. Да, Альф? Альфи зевнул.
– Ну так я поехала, – сказала Миранда, оглянувшись через плечо на родителей. – К следующей неделе надо подготовить два доклада.
– Как, уже? – Уэбберли отставил в сторону ботинок. – Ты не пробыла у нас и сорока восьми часов. Неужели Кембридж не потерпит еще денек?
– Дела, пап, дела. Я уж не говорю об экзаменах. Ты ведь хочешь, чтобы я стала первой, а?
– Подожди минутку, я только дочищу ботинки и отвезу тебя на станцию.
– Не нужно. Я поеду на метро.
– Тогда хоть подвезу тебя до метро.
– Папа… – Голос Миранды был образцом терпения. За двадцать два года они ходили этой дорогой достаточно часто, чтобы она привыкла к ее изгибам и поворотам. – Мне нужна физическая нагрузка. Скажи ему, мама.
Уэбберли запротестовал:
– Но если начнется дождь, пока…
– Силы небесные, да не растает она, Малькольм.
«Но они тают, – мысленно возразил Уэбберли. – Они тают, ломаются, исчезают в мгновение ока. И как раз тогда, когда ты меньше всего опасаешься, что они могут растаять, сломаться или исчезнуть». Однако он знал, что, если две женщины объединяют против тебя силы, самым мудрым решением будет компромисс. И поэтому он сказал:
– Ладно, просто прогуляюсь вместе с тобой. – И, когда Миранда закатила глаза в знак протеста против того, что среди бела дня отец собирается сопровождать взрослую дочь, как будто она не в состоянии самостоятельно перейти дорогу, поспешно добавил: – Альфу нужно сделать свои утренние дела.
– Мама! – воззвала Миранда к матери.
Но Фрэнсис лишь пожала плечами.
– Ты ведь еще не выгуливала сегодня Альфи, дорогая?
И Миранда с добродушным отчаянием сдалась.
– Ох, ну ладно, зануда. Только знай, мне некогда ждать, когда ты доведешь свои ботинки до идеального состояния.
– Ничего, я закончу, – предложила свою помощь Фрэнсис.
Уэбберли застегнул на собаке поводок и вышел вслед за дочерью из дома. На улице Альфи тут же побежал в кусты и стал выковыривать оттуда старый теннисный мяч. Он знал порядок вещей, когда на другом конце поводка идет Уэбберли: сначала они прогуляются до Пребенд-гарденс, там хозяин отцепит от ошейника поводок и забросит мячик в траву, а он, Альфи, должен будет найти мячик и носиться с ним по парку. Эта гонка с мячиком продлится не менее четверти часа.
– Не знаю, у кого меньше воображения, – сказала Миранда, наблюдая за тем, как пес нырнул в заросли гортензии, – у тебя или собаки. Только посмотри на него, папа! Он знает, что происходит. Для него сюрпризов в этой прогулке не будет.
– Собакам нравится определенность, – сказал Уэбберли, принимая из пасти триумфально приплясывающего Альфи потрепанный мячик.
– Собакам – да. А тебе? Неужели ты всегда водишь его одним и тем же маршрутом?
– Это моя ежедневная прогулочная медитация, – сказал он. – Ежеутренняя и ежевечерняя. Разве это плохо?
– Ежедневная медитация! – фыркнула Миранда. – Папа, ты такой выдумщик. Правда.
Выйдя за калитку, они повернули направо, шагая вслед за собакой. Пес же, дойдя до конца Палгрейв-стрит, ни секунды не колеблясь, свернул налево, на дорогу, которая приведет их к Стамфорд-Брук-роуд. А оттуда до Пребенд-гарденс – рукой подать.
– Вчера все прошло так хорошо, – сказала Миранда, беря отца под руку. – И маме, кажется, понравилось. И никто не упомянул… и не спросил… по крайней мере, меня…
– Да, праздник удался, – сказал Уэбберли, прижимая локоть к боку, чтобы еще больше приблизить дочь к себе. – Мать отлично провела время – настолько, что сегодня опять заговорила о том, что хочет поработать в саду.
Он чувствовал, что дочь смотрит на него, но упорно не сводил глаз с дороги.
Миранда сказала:
– Она не выйдет. Ты знаешь это. Пап, почему ты не настоял, чтобы она снова обратилась к тому доктору? Таким, как она, можно помочь.
– Я не могу заставить ее делать больше, чем она того хочет.
– Нет. Но ты мог бы… – Миранда вздохнула. – Не знаю. Что-нибудь. Хоть что-нибудь. Я не понимаю, почему ты не отстаиваешь свою позицию. Почему ты всегда уступаешь маме, никогда не настоишь на своем?
– И как я могу это сделать, по-твоему?
– Если она будет думать, что ты действительно… ну, например, если ты скажешь ей: «Фрэнсис, все, это предел моего терпения. Я хочу, чтобы ты вернулась к тому психиатру, а иначе…»
– Что иначе? Что?
Он почувствовал, как дочь поникла у его плеча.
– Да. В этом все дело, верно? Я знаю, что ты никогда не оставишь ее. Ну да, конечно, как можно. Но должно же быть что-то, что ты… что нам еще не пришло в голову. – И, чтобы избавить его от необходимости отвечать, она показала на Альфи, который посматривал на соседскую кошку с излишне живым интересом. Она взяла поводок из рук отца и сказала: – Даже не думай, Альфред.
На перекрестке они с нежностью попрощались. Миранда пошла налево, в сторону станции метро, а Уэбберли зашагал вдоль зеленого железного забора, который очерчивает восточную границу Пребенд-гарденс.
Войдя в калитку, он снял собаку с поводка и вырвал из ее пасти мячик. Забросив его как можно дальше, на дальний конец газона, Уэбберли наблюдал, как Альфи бросился вдогонку за летящей желтой точкой. Как только мяч снова оказался у него в зубах, он стал описывать круги по периметру газона. Уэбберли следил за его продвижением от скамьи к кусту, от куста к дереву, от дерева к тропе, но сам оставался почти на том же месте, откуда бросил мяч, только сдвинулся на шаг, чтобы сесть на скамью, когда-то выкрашенную черным цветом, судя по оставшимся кое-где следам краски. Рядом со скамьей стоял стенд, на котором вывешивали объявления, касающиеся жизни микрорайона.
Уэбберли проглядел объявления, не вдаваясь в детали: рождественские мероприятия, антикварные ярмарки, гаражные распродажи. С удовлетворением отметил, что телефонный номер местного отделения полиции вывешен на видном месте и что в помещении церкви собирается комитет по организации добровольного патрулирования микрорайона. Он все прочитал, но уже через несколько минут не смог бы вспомнить и слова. Пока он водил глазами по этим пяти-шести листкам под стеклом доски объявлений и механически складывал буквы в слова, перед его мысленным взором стояла Фрэнсис, вцепившаяся в подоконник. А в ушах звучали слова дочери, произнесенные с любовью и безусловной верой в него: «Ты никогда не оставишь ее… как можно?» Этот последний вопрос с особой настойчивостью бился в его голове, отлетая от стенок черепа гулким эхом убийственной иронии. Разве смог бы ты оставить ее, Малькольм Уэбберли? В самом деле, смог бы ты оставить ее?
У него и в мыслях не было бросать Фрэнсис, когда ему передали вызов на Кенсингтон-сквер. Вызов поступил через полицейский участок на Эрлс-Корт-роуд, куда его совсем недавно назначили инспектором и дали в напарники сержанта Эрика Лича. За рулем сидел Лич. Они ехали по Кенсингтон-Хай-стрит, которая в те дни была не так забита машинами, как сейчас. Лич еще плохо знал район и проскочил нужный поворот, так что им пришлось пробираться по извилистой Тэкери-стрит, деревенская атмосфера которой никак не вязалась с огромным городом, и на Кенсинггон-сквер они выскочили с юго-восточного конца. И оказались прямо перед нужным домом, викторианским зданием из красного кирпича с белым медальоном на фронтоне, где была указана дата постройки – тысяча восемьсот семьдесят девятый год. То есть оно было относительно новым в районе, где старейшие строения появились почти двумя веками ранее.
Патрульная машина, прибывшая на место по звонку жильцов одновременно с каретой «скорой помощи», еще стояла у поребрика, хотя проблесковый маячок уже был погашен. А машины «скорой помощи» давно и след простыл, как разошлись уже и соседи, которые неизменно собираются в любое время суток, стоит лишь раздаться полицейской сирене.
Уэбберли открыл дверцу машины и прошел к дому, перед которым низкая кирпичная стена, увенчанная кованым заборчиком, огораживала выложенную брусчаткой площадку с декоративным растением посередине. Растение при ближайшем рассмотрении оказалось вишней, и в это время года вокруг его ствола разлилось розовое озеро из опавших лепестков.
Парадная дверь была закрыта, но, очевидно, их прибытия ждали, потому что, как только Уэбберли вступил на крыльцо, дверь распахнулась. В дом их впустил констебль, который и позвонил в участок. Он выглядел потрясенным. Ему впервые пришлось иметь дело со смертью ребенка, сообщил он вновь прибывшим. Он приехал сразу вслед за «скорой помощью».
– Всего два годика, – глухо проговорил молодой констебль. – Отец делал ей искусственное дыхание, и медики сделали все, что было в их силах. – Он потряс головой. – Шансов не было. Она умерла. Извините, сэр. Дома у меня маленький сын. Тут задумаешься…
– Понятно, – прервал его Уэбберли. – Все в порядке, сынок. У меня тоже ребенок.
Ему не нужно было напоминать о том, как преходяща жизнь, как бдителен должен быть родитель, оберегая эту жизнь от всего, что может оборвать ее. Его Миранде только что исполнилось два года.
– Где это случилось? – спросил Уэбберли.
– В ванной. Наверху. Но разве вы не хотите сначала поговорить с… Все члены семьи в гостиной.
Уэбберли вполне мог обойтись без подсказок неопытного констебля, что и когда делать, но парнишка был явно выбит из колеи, так что не имело смысла спорить с ним. Вместо этого Уэбберли обратился к Личу:
– Скажите им, что мы поговорим с ними через несколько минут. После… – и кивком головы указал на лестницу. Констеблю же он велел: – Показывайте, – и поднялся вслед за ним по лестнице, изогнутой вокруг дубовой стойки для растений, с которой до самого пола свешивал ветки огромный папоротник.
Ванная располагалась на третьем этаже дома рядом с детской, туалетом и еще одной спальней, занятой вторым ребенком в семье. Родители и дед с бабкой занимали комнаты этажом ниже. На верхнем этаже расположились няня, жилец и женщина, которая… ну, констебль назвал бы ее гувернанткой, вот только члены семьи ее так не называли.
– Она учит детей, – пояснил он. – То есть… только старшего, по-моему.
Уэбберли поднял брови, удивленный тем, что в наши дни еще существуют гувернантки, и двинулся в ванную, где свершилась трагедия. Там к нему присоединился Лич, выполнив поручение в гостиной. Констебль вернулся на свой пост у входной двери.
Два детектива молча обследовали ванную комнату. Для места, где свой след оставила внезапная смерть, она была несуразно прозаической. И все же смерти случались в ваннах так часто, что Уэбберли недоумевал: когда же люди поймут, что нельзя оставлять ребенка без присмотра ни на секунду, если рядом воды хотя бы на дюйм глубиной?
Ну а в этой ванне воды было гораздо больше, по меньшей мере десять дюймов. Вода остыла, на ее поверхности замерли пластмассовая лодочка и пять желтых резиновых утят. На дне возле сливного отверстия лежал кусок мыла. Поперек ванны висел столик из нержавейки, обтянутый по краям резиной, на нем горкой сложены полотенце, расческа, губка. Все выглядело совершенно обыденно. Но были и признаки того, что эту комнату недавно посетили паника и трагедия.
В одном углу валялась опрокинутая стойка для полотенец. Намокший коврик сбился под раковину. На боку плетеной корзины для мусора образовалась вмятина. На белом кафеле виднелись отпечатки грязных ботинок, оставленные врачами «скорой помощи». О соблюдении чистоты и порядка они думали меньше всего, пока пытались вернуть ребенка к жизни.
Уэбберли мог нарисовать всю сцену так ярко, как будто сам присутствовал при ней, – потому что он присутствовал при десятках других таких же сцен, когда служил патрульным. Среди медиков – никакой паники, напротив, они сосредоточенны и нечеловечески спокойны. Проверка пульса и дыхания. Реакция зрачков. Немедленные реанимационные меры. Через несколько секунд они поймут, что девочка мертва, но не скажут этого вслух, потому что их работой является жизнь, жизнь любой ценой, и они будут работать над ребенком, и бегом вынесут его из дома, и по дороге в больницу будут делать все возможное, потому что всегда есть шанс, что еще можно вдохнуть жизнь в безвольную оболочку, в которую превращается покинутое душой тело.
Уэбберли присел на корточки перед корзинкой для мусора и выправил ручкой помятую стенку, после чего исследовал содержимое. Шесть использованных салфеток, где-то с пол-ярда зубной нити, тюбик из-под зубной пасты. Он обратился к Личу:
– Проверь настенную аптечку, Эрик, – а сам вернулся к ванне и долго и тщательно разглядывал ее стенки, краны и слив, замазанную цементным раствором щель между ванной и стеной и воду.
Ничего.
Лич доложил:
– Здесь только детский аспирин, сироп от кашля, несколько рецептов. Пять рецептов, сэр.
– На чье имя?
– Все на имя Сони Дэвис.
– Тогда перепиши их все. Запечатай помещение. Я поговорю с семьей.
Но в гостиной его встретила не только семья, потому что в доме жили и другие люди, и в момент, когда вечерние ритуалы прервались трагедией, они тоже находились в здании. Уэбберли сначала показалось, что гостиная едва вмещает всех, кто там собрался, хотя их было всего девять человек: восемь взрослых и маленький мальчик с симпатичной прядью белокурых волос, падающей ему на лоб. С белым как мел лицом он стоял в защитном кольце рук пожилого мужчины, вероятно его деда, и мял дедушкин галстук – судя по виду, память о колледже или спортивном клубе.
Все молчали. На их лицах был написан шок, и казалось, будто они сбились в кучу, чтобы оказать друг другу хоть какую-то поддержку. Почти все взгляды были направлены на мать, сидевшую в углу, – женщину лет тридцати с небольшим, примерно ровесницу Уэбберли, с молочно-белой кожей и большими глазами, обращенными в никуда и видящими снова и снова то, чего не должна видеть ни одна мать: обмякшее тело ее ребенка в руках незнакомцев, которые безуспешно пытаются вернуть его к жизни.
Когда Уэбберли представился, один из двоих мужчин, пристроившихся неподалеку от матери, поднялся и сказал, что его зовут Ричард Дэвис, что он отец ребенка, увезенного в больницу. Почему он предпочел употребить этот эвфемизм, стало понятно, когда Дэвис бросил быстрый взгляд в сторону мальчика, своего сына. Отец мудро не желал говорить о смерти одного ребенка в присутствии другого. Он сказал:
– Мы были в больнице. Я и моя жена. Нам сказали, что…
В это мгновение зарыдала молодая женщина, сидевшая на диване рядом с мужчиной примерно того же возраста, который обнимал ее за плечи. Это были ужасные, горловые рыдания с всхлипами, обычно предшествующими истерике.
– Я не оставляю ее! – причитала она, и даже сквозь плач Уэбберли расслышал сильный немецкий акцент. – Я клянусь Богом, что я не оставляю ее ни на минуту.
То есть надо выяснить обстоятельства, как именно умерла девочка.
Их всех нужно допросить, но не одновременно. Уэбберли обратился к немке:
– Вы отвечали за ребенка?
Но в ответ раздался голос матери:
– Это я навлекла на нас несчастье.
– Юджиния! – воскликнул Дэвис, а второй мужчина, с лицом, блестящим от пота, сказал:
– Не говори так, Юджиния.
Дедушка провозгласил:
– Мы все знаем, чья это вина.
Немка зарыдала с новой силой:
– Нет! Нет! Я не оставляю ее!
Сосед по дивану пытался успокоить ее, приговаривая:
– Все хорошо, – хотя ничего хорошего в происходящем не было.
Двое из присутствующих сохраняли молчание: преклонных лет женщина, не сводящая глаз с деда, и женщина помоложе в аккуратной юбке в складку, с волосами цвета помидоров; последняя с откровенной неприязнью следила за плачущей немкой.
Слишком много людей, слишком много эмоций, нарастающая неразбериха. Уэбберли велел всем разойтись, за исключением родителей.
– Но оставайтесь в доме, – уточнил он. – И пусть кто-нибудь постоянно находится с мальчиком.
– Я присмотрю за ним, – вызвалась красноволосая, очевидно та самая «гувернантка», о которой говорил молодой констебль. – Пойдем, Гидеон. Давай займемся математикой.
– Но мне нужно упражняться на скрипке, – сказал мальчик, переводя требовательный взгляд с одного взрослого на другого. – Рафаэль сказал…
– Гидеон, все в порядке. Делай, как говорит Сара Джейн. – Мужчина с потным лицом отошел от матери и присел на корточки перед мальчиком. – Сейчас ты не должен беспокоиться о музыке. Иди с Сарой Джейн, хорошо?
– Пойдем, парень.
Дед встал, не выпуская мальчика из кольца рук. Остальные вышли вслед за ними, и в комнате остались только родители погибшего ребенка.
Даже много лет спустя, в парке в Стамфорд-Брук, под аккомпанемент заливистого лая Альфи, гоняющегося за птицами и белками в ожидании, когда хозяин вновь посадит его на поводок, Уэбберли видел Юджинию Дэвис такой, какой она была в тот далекий вечер.
Скромно одетая в темные брюки и бледно-голубую блузку, она не шевелилась. Она не смотрела ни на него, ни на мужа. Произнесла только:
– О мой бог. Что с нами будет?
При этом она обращалась не к мужчинам, а к себе. Ее муж сказал, не столько отвечая ей, сколько к сведению Уэбберли:
– Мы ездили в больницу. Они ничего не могли сделать. Здесь они нам этого не сказали. В доме. Они не сказали нам.
– Да, – кивнул Уэбберли. – Это не их работа. Они оставляют это уполномоченным лицам.
– Но они знали. Знали уже здесь. Они ведь знали?
– Полагаю, да. Мои соболезнования.
Ни муж, ни жена не плакали. Слезы придут, но потом, когда родители осознают, что кошмар происходящего – вовсе не дурной сон, а реальность, которая окрасит всю дальнейшую их жизнь. Но пока они онемели от травмы: первая паника, кризис отчаянной борьбы, вторжение незнакомцев в их дом, мучительное ожидание в приемном покое, выход врача, чьи глаза не оставили им никаких сомнений еще до того, как он заговорил.
– Нам сказали, что отдадут ее потом… Ее… ее тело, – выдавил Ричард Дэвис. – Нам не разрешили забрать ее, не могли оформить… Почему?
Юджиния опустила голову. Слеза упала на сложенные на коленях руки.
Уэбберли подтянул к себе стул и сел, чтобы быть на одном уровне с женщиной. Он кивнул Ричарду Дэвису, чтобы тот поступил так же. Дэвис послушно сел рядом с женой и взял ее за руку. Уэбберли объяснил им, как смог: когда случается неожиданная смерть, когда кто-то умирает, не находясь под присмотром врачей, которые могли бы удостоверить смерть, когда кто-то погибает в результате несчастного случая – например, тонет, – тогда по закону требуется провести посмертное вскрытие.
Юджиния подняла на него глаза.
– Вы говорите, ее будут резать?
Уэбберли уклонился от прямого ответа, сказав:
– Необходимо определить точную причину смерти.
– Но мы знаем причину, – сказал Ричард Дэвис. – Она… Бог мой, она была в ванне. И вдруг крики, женский визг. Я побежал на третий этаж, сверху примчался Джеймс…
– Джеймс?
– Он снимает у нас комнату. Он был у себя. И прибежал на шум.
– Кто еще находился в доме?
Ричард посмотрел на жену, словно ища у нее ответа. Она покачала головой и проговорила:
– Мама Дэвис и я были в кухне, готовили ужин. Соне пора было купаться, и…
Она замолчала, словно произнесенное вслух имя дочери сделало более реальным то, о чем мать не могла даже думать.
– И вы не знаете, где были в то время остальные?
Заговорил Ричард Дэвис:
– Мы с папой сидели в гостиной. Мы смотрели… Господи, смотрели этот бессмысленный, проклятый футбольный матч. Мы смотрели футбол, пока Соня тонула у нас над головой…
Должно быть, уменьшительная форма имени дочери окончательно сломила Юджинию. Она наконец дала волю слезам.
Ричард Дэвис, поглощенный своим горем и отчаянием, не обнял жену, как ожидал от него Уэбберли. Он просто назвал ее по имени и забормотал бесполезные слова, что все в порядке, что малышка сейчас с Богом, который любит ее так же, как любили ее они сами. И кто, как не Юджиния, знает это, с ее абсолютной верой в Бога и Божью милость?
Уэбберли подумал, что это слабое утешение. А вслух сказал:
– Мне надо поговорить со всеми остальными, мистер и миссис Дэвис. – И, обращаясь уже только к Ричарду Дэвису: – Вашей жене может понадобиться доктор. Лучше сразу позвоните ему.
Дверь гостиной распахнулась, и вошел сержант Лич. Он кивнул, показывая, что выполнил данные ему задания: переписал все, что находится в ванной комнате, и запечатал помещение. Уэбберли попросил его подготовить гостиную для того, чтобы провести в ней допрос обитателей дома.
– Спасибо за вашу помощь, инспектор, – проговорила Юджиния.
«Спасибо за вашу помощь». Уэбберли до сих пор слышал эти слова, даже сейчас, поднимаясь с облезлой скамьи. Поразительно, как эти четыре простых слова, произнесенные измученным голосом, сумели переменить всю его жизнь: за долю секунды он из детектива превратился в странствующего рыцаря.
Так случилось из-за того, что она была необыкновенной матерью, говорил себе Уэбберли, подзывая Альфи. Такой матерью, какой Фрэнсис – Бог ее простит – не могла бы стать, как ни старалась. Разве можно было не восхищаться такой матерью? Какой мужчина не желал бы служить ей?
– Альфи, ко мне! – крикнул он, потому что овчарка увязалась за терьером с летающей тарелкой в пасти. – Домой! Иди сюда. Я не буду надевать на тебя ошейник.
И пес бросился к Уэбберли, как будто и впрямь понял последнее обещание. Судя по вздымающимся бокам и вывешенному из пасти языку, Альфи отлично набегался сегодня. Уэбберли мотнул головой в сторону калитки, и собака прошествовала туда и послушно села, уставившись на карман хозяина в надежде на вознаграждение за такую благовоспитанность.
– Придется подождать, пока не вернемся домой, – сказал ему Уэбберли и вдруг задумался над своими словами.
А ведь действительно, именно так и шла его жизнь. Оборачиваясь на бесконечную череду уходящих вдаль дней, он видел, что все, имевшее значение в его жалком мирке, всегда откладывалось до тех пор, пока он не придет домой.
Линли заметил, что Хелен почти не притронулась к чаю. Однако она повернулась на кровати и следила за тем, как он терзает свой галстук, а он, в свою очередь, наблюдал за ней в зеркало.
– Значит, Малькольм Уэбберли знал эту женщину? – уточнила Хелен. – Как это тяжело для него, Томми. И прямо в годовщину свадьбы.
– Не то чтобы знал, – ответил Линли. – Она проходила как свидетель по первому делу, которое он вел, когда его назначили инспектором в Кенсингтоне.
– Тогда, выходит, это было давно. Наверное, дело произвело на него большое впечатление.
– Полагаю, что да.
Линли не хотел объяснять почему. Он вообще не хотел рассказывать ей о той далекой смерти, которую расследовал Уэбберли. История о ребенке, утонувшем в ванне, ужасна и при обычных обстоятельствах, но сейчас, когда в их жизни наступила перемена, Линли считал, что должен проявлять особую сдержанность и такт по отношению к жене, носящей под сердцем его ребенка.
«Нашего ребенка, – мысленно поправил он себя, – ребенка, с которым ничего не должно случиться». Любые разговоры о несчастье, выпавшем на долю другого ребенка, казались ему искушением судьбы. По крайней мере, так говорил себе Линли, завершая ритуал одевания.
Скрипнула кровать. Это Хелен снова переменила положение: повернулась на другой бок, подтянула колени и прижала к животу подушку.
– О господи, – простонала она.
Линли подошел к ней, сел на край кровати и погладил ее каштановые волосы.
– Ты не стала пить чай, – сказал он. – Может, сегодня тебе хочется чего-нибудь другого?
– Сегодня мне хочется, чтобы мне не было так плохо.
– А что говорит доктор?
– О, она просто кладезь мудрости: «Первые четыре месяца каждой беременности я проводила в туалете в обнимку с унитазом. Это пройдет, миссис Линли. Это всегда проходит».
– А что делать, пока не прошло?
– Наверное, думать о хорошем. Главное – не о еде.
Линли с любовью смотрел на жену, разглядывал нежный овал ее щеки и изящную ушную раковину. Правда, в лице Хелен появился зеленоватый оттенок, и она с такой силой стискивала подушку, что было ясно: на подходе очередной приступ тошноты. Линли сказал:
– Как бы я хотел взять это все на себя, Хелен!
Она слабо рассмеялась:
– Мужчины всегда так говорят, когда чувствуют себя виноватыми, но при этом отлично понимают, что беременность им не грозит. – Она потянулась к его руке. – Но все равно спасибо. Так ты уходишь? Не забудь позавтракать, Томми.
Он заверил ее, что поест. Да у него и не было шансов избежать приема пищи. Если Хелен по какой-то причине теряла бдительность, то все равно оставался Чарли Дентон – слуга, домоправитель, повар, камердинер, вдохновенный трагик, неутомимый Дон Кихот или кто угодно еще, в зависимости от того, кем он провозгласит себя данным конкретным утром. Он не выпустит Линли за порог, пока тот не позавтракает.