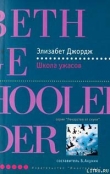Текст книги "ПРЕДАТЕЛЬ ПАМЯТИ"
Автор книги: Элизабет Джордж
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Гидеон
23 августа
Мне не понравилось то, как вы задали этот вопрос, доктор Роуз. Я обижен и вашим тоном, и скрытым смыслом вопроса. Не пытайтесь убедить меня, будто никакого скрытого смысла в нем не было, – я не настолько глуп. И не надо этих намеков на то, что «на самом деле» стоит за толкованием пациентом слов его психиатра. Я знаю, что я слышал, я знаю, что произошло, и я могу суммировать и то и другое в одном предложении: вы прочитали написанное, увидели в рассказе упущение и набросились на него, как адвокат по уголовным делам с умом настолько ограниченным, что от него вовсе никакого толку.
Позвольте повторить сказанное мною во время последнего нашего сеанса: я не упоминал о моей матери до последнего предложения потому, что пытался выполнить данное вами задание, которое состояло в записывании того, что я помню, и поэтому писал то, что приходило мне на ум. Она мне на ум не приходила – до тех самых пор, пока моим учителем и компаньоном не стал Рафаэль Робсон.
«Однако итало-греко-португало-испанская девушка пришла вам на ум?» – спрашиваете вы своим невыносимо спокойным, тихим, ровным голосом.
Да, пришла. И что вы хотите этим сказать? Что я обладаю ранее необнаруженной склонностью к португало-испано-итало-греческим девицам, которая обусловлена моим неоплаченным долгом перед безымянной девушкой, которая, сама того не зная, вывела меня на тропу успеха? Так, доктор Роуз?
А, понимаю. Вы не отвечаете. Вы находитесь на безопасном расстоянии, сидя в кресле своего отца, и смотрите на меня своим задушевным взглядом, так что я вынужден трактовать это расстояние как пролив Босфор, готовый принять меня в свою синеву. Ваш взгляд предлагает мне нырнуть в воды правдивости. Как будто я говорю неправду.
Она там была. Конечно, она там была, моя мать. И если я упоминал итальянскую девушку вместо матери, то только потому, что итальянка – господи боже, ну почему я не помню ее имя? – присутствовала в легенде Гидеона, а моя мать – нет. Мне показалось, вы просили меня писать то, что я помню, начиная с самого раннего моего воспоминания. Если же вы просили меня сделать не это, если вы хотели, чтобы я сфабриковал характерные детали детства, которые по сути своей выдумка, но при этом тщательно разжеваны и обеззаражены таким образом, чтобы вы могли найти и идентифицировать в них то, что вы сочтете…
О да, я действительно злюсь, можете не указывать мне на это. Потому что я не понимаю, какое отношение имеет моя мать, анализ моей матери и даже поверхностный разговор о ней к тому, что случилось в Уигмор-холле. А ведь именно из-за этого я к вам пришел, доктор Роуз. Давайте не будем забывать о причине. Я согласился на этот процесс, потому что там, на сцене Уигмор-холла, перед аудиторией, передавшей немалые средства в пользу Восточной Лондонской консерватории – основанной на мои пожертвования, позволю себе напомнить, – я взошел на помост, положил скрипку на плечо, взял смычок, как обычно размял пальцы левой руки, кивнул пианисту и виолончелисту… и не смог играть.
Это не страх сцены, доктор Роуз. Это не временный блок в отношении конкретного музыкального произведения, которое, кстати, я репетировал две недели перед концертом. Нет, это полная, мгновенная и унизительная потеря способности играть. Из моего мозга была с корнем вырвана не только сама музыка – я совершенно забыл и как играть на скрипке. Я чувствую себя так, будто ни разу в жизни не держал в руках инструмент, а уж про двадцать пять лет концертной деятельности и говорить не приходится.
Шеррилл начал Аллегро, и я слушал его без малейшего узнавания. А когда я должен был присоединиться к фортепиано и виолончели, то не знал ни как это сделать, ни в какой момент. Я превратился в сына Лота, как если бы именно он, а не жена этого праведника оглянулся посмотреть на разрушенный город.
Шеррилл пытался прикрыть меня. Он хитрил. Он – подумать только! – импровизировал с Бетховеном! Он сумел снова выйти к месту, где должен был вступить я. И снова – ничего. Только тишина, как вакуум, тишина, ураганом разрывающая мозг.
Я покинул помост, ничего не видя, весь дрожа. В Зеленой комнате меня встретил отец криком: «Что? Гидеон, ради бога, что?» За его спиной маячил Рафаэль.
Перед тем как упасть, я успел сунуть скрипку в руки Рафаэлю. Вокруг меня все поплыло, из хоровода взволнованных восклицаний вырвался голос отца: «Это все та чертова девица, да? Это из-за нее. Проклятье! Возьми себя в руки, Гидеон. У тебя есть обязательства перед людьми».
Шеррилл, покинувший сцену вслед за мной, вопрошал: «Гид, что с тобой? Потерял уверенность? Черт. Такое случается».
А Рафаэль, кладя мою скрипку на стол, сказал: «О боже! Я ведь боялся, что такое может случиться». Как большинство людей, он думал о себе, о своих собственных проваленных концертах, о своей неспособности выступать, как выступали его отец и дед. Каждый член его семьи достиг головокружительной карьеры в концертной деятельности, за исключением бедного потного Рафаэля, и, полагаю, в глубине души он все время ждал, когда катастрофа случится и со мной, сделав нас братьями по несчастью. Он был одним из тех, кто предупреждал об опасностях слишком быстрого подъема, который произошел в моей карьере после первого публичного выступления в семилетнем возрасте. Очевидно, он считал, что теперь я пожинаю плоды стремительного восхождения к славе.
Но отнюдь не потерю уверенности я чувствовал в Зеленой комнате, доктор Роуз. И не потерю уверенности я чувствовал перед публикой, сидящей в концертном зале Уигмор-холла. Скорее я ощутил это как отключение, бесповоротное и окончательное. И вот еще что странно: хотя я совершенно отчетливо слышал все эти голоса – моего отца, Рафаэля, Шеррилла, – но видел я тогда только яркий белый свет и синюю-синюю дверь.
Может, у меня «эпизод», доктор Роуз? Такой, какими страдал мой дедушка и от какого легко излечит небольшая поездка за город? Прошу вас, скажите мне, потому что музыка – это не то, что я делаю, это то, что я есть,и если у меня ее не будет – не будет звука и его высокого благородства, – то я перестану существовать, останется лишь пустая скорлупа!
Так есть ли скрытый смысл в том, что, вспоминая о своем знакомстве с музыкой, я ни слова не сказал о матери? Это было умолчание звука и гнева, и с вашей стороны будет разумно, если вы придадите этому факту соответствующее значение.
«Но дальнейшее молчание о ней будет уже преднамеренным, – говорите вы мне. И просите: – Расскажите мне о своей матери, Гидеон».
25 августа
Она пошла работать. Первые четыре года моей жизни она постоянно была со мной, но, когда стало очевидным, что ее ребенок обладает исключительным талантом, который необходимо развивать, то есть вкладывать в него не только время, но и огромные средства, она нашла работу, чтобы помочь добывать деньги. Присматривать за мной стала бабушка – в те краткие периоды, когда я не упражнялся в игре на скрипке, не занимался с Рафаэлем, не слушал музыкальные записи, которые он приносил мне, или не ходил с ним на концерты. Но жизнь моя столь значительно изменилась после того дня, когда я услышал музыку на Кенсингтон-сквер, что я практически не заметил отсутствия матери. До этого, я помню, мы часто – почти каждый день – вместе ходили на утреннюю мессу.
Она завела дружбу с монахиней монастыря, стоявшего на Кенсингтон-сквер, и между собой они договорились, что моя мать может посещать ежедневную службу для сестер. Моя мать была новообращенной католичкой. Ее отец был англиканским священником, и в принципе у меня есть свои соображения относительно того, насколько ее переход в иную веру был связан с привлекательностью иных догм, а насколько – с протестом против деспотичного отца. У меня сложилось впечатление, что он был не самым приятным человеком. А вообще я плохо помню его.
Мать я, конечно, помню, но для меня она давно стала смутной фигурой, так как ушла от нас. Когда мне было лет девять или десять, не помню точно, я вернулся домой после концертного тура по Австрии и обнаружил, что мать покинула дом на Кенсингтон-сквер, не оставив после себя ни следа. Она забрала с собой всю принадлежавшую ей одежду, все свои книги и часть семейных фотографий. И исчезла, как пресловутый тать в нощи. За тем исключением, что случилось это днем и она вызвала такси. Ни записки, ни адреса она не оставила, и больше я никогда не видел и не слышал ее.
Отец ездил со мной в Австрию – папа всегда путешествовал со мной, и часто к нам присоединялся Рафаэль, – и поэтому знал не более меня, куда ушла мать и почему она это сделала. Да, и, вернувшись домой, мы застали дедушку посреди очередного «эпизода», бабушка плакала, сидя на лестнице, а жилец Кальвин пытался найти нужный телефонный номер.
«Жилец Кальвин? – переспрашиваете вы. – А предыдущий жилец – кажется, вы говорили, что его звали Джеймс, – его уже не было с вами?»
Наверное, он съехал годом ранее. Или двумя. Я не помню. У нас было несколько разных жильцов. Как я уже говорил нам приходилось сдавать комнаты, чтобы сводить концы с концами.
«Вы помните их всех?» – хотите вы знать.
Нет, не всех. Видимо, только тех, кто связан с ключевыми событиями. Кальвина я помню потому, что он присутствовал в тот день, когда я узнал об уходе матери. А Джеймса – потому что при нем все началось.
«Все?» – спрашиваете вы.
Да. Скрипка. Уроки. Мисс Орр. Все.
26 августа
Каждый человек у меня ассоциируется с определенной мелодией. Когда я думаю о Розмари Орр, то вспоминаю Брамса, тот концерт, который звучал в первую нашу встречу с ней. Когда я думаю о Рафаэле, то это Мендельсон. Папа – Бах, скрипичная соната соль минор. А дедушка навсегда останется Паганини. Больше всего он любил Двадцать четвертый каприс. «Ах, какие звуки, – восхищался он. – Эти совершенные звуки».
«А ваша мать? – спрашиваете вы. – С каким музыкальным произведением ассоциировалась она?»
Интересно. С матерью в отличие от других людей я не могу связать ни одно произведение. Даже не знаю почему. Вероятно, это такая разновидность отрицания? Подавление эмоций? Не знаю. Вы психиатр. Вот вы и объясните мне, в чем тут дело.
Кстати, я до сих пор это делаю – ассоциирую людей с музыкой. Например, Шеррилл – это рапсодия Бартока, которую мы с ним играли, когда впервые выступали вместе много лет назад. С тех пор мы больше ни разу не исполняли ее, а тогда мы были еще подростками – американский и европейский вундеркинды вместе собирали отличную прессу, поверьте, – но для меня он всегда будет Бартоком, стоит мне только подумать о нем. Так устроен мой мозг.
И то же самое происходит с теми, кто не имеет к музыке никакого отношения. Возьмем, к примеру, Либби. Я рассказывал вам о Либби? Она – жиличка Либби. Да, такой же жилец, как Джеймс, Кальвин и все остальные, только она принадлежит настоящему, а не прошлому и живет в квартире на нижнем этаже моего дома на Чалкот-сквер.
У меня не было намерения сдавать эту квартиру, пока однажды она не появилась у моих дверей с контрактом на запись, который мой агент хотел немедленно получить обратно с моей подписью. Либби работает в курьерской службе, и я понял, что она девушка, только когда она вручила мне контракт, сняла шлем и сказала, кивком указывая на документы: – «Только не возись с этим слишком долго. И я умираю от любопытства: ты что, рок-музыкант или еще кто?» – в той фамильярной манере, которая, похоже, свойственна всем выходцам из Калифорнии.
Я ответил: «Нет, я скрипач».
Она сказала: «Ни фига!»
Я сказал: «Фига».
В ответ она уставилась на меня с выражением полного непонимания, и я решил, что имею дело с клинической идиоткой.
Я никогда не подпишу ни один контракт, не изучив его от начала до конца (и пусть агент обвиняет меня в недоверии его мудрости и опыту). Чтобы не заставлять бедную сиротку – а она мне показалась именно сироткой – стоять на крыльце, пока я читаю бумаги, я пригласил ее в дом, и мы вместе прошли на второй этаж, где находится музыкальная комната, выходящая на площадь.
Она сказала: «О, вау. Извиняюсь. А ты настоящая знаменитость, как я погляжу», – потому что, поднимаясь по лестнице, обратила внимание на макеты оформления компакт-дисков, висящие на стене. «Я чувствую себя полной дурой».
«Не стоит», – сказал я и вошел в музыкальную комнату, уже углубившись в параграфы об аккомпаниаторах, гонорарах и графиках. Она следовала за мной.
«О, круто, – пропела она, когда я уселся в кресло у окна, сидя в котором сейчас пишу для вас свои воспоминания, доктор Роуз. – Кто это с тобой вон на той фотке? Тот тип с костылями? Тю, а ты-то! Лет семи будешь, не старше».
Господи! Это, пожалуй, величайший скрипач в мире, а девчонка необразованна, как тюбик зубной пасты! «Ицхак Перлман, – сказал я ей. – И мне тогда было не семь лет, а шесть».
«Ничего себе! Так ты прямо играл с ним, когда тебе было всего шесть?»
«Не совсем. Он был настолько любезен, что согласился послушать меня, когда был в Лондоне».
«Супер!»
И пока я читал, она бродила по комнате и перебирала свой небогатый запас восклицаний. Особое удовольствие, как мне показалось, ей доставило изучение моей первой скрипки, той самой одной шестнадцатой, которую я держу в музыкальной комнате на небольшой подставке. Там же хранится и Гварнери – инструмент, на котором я сейчас играю. Он тогда лежал в футляре, но футляр был открыт, потому что Либби, приехав с договорами, застала меня посреди утренней репетиции. Очевидно не понимая, какое кощунство совершает, Либби нагнулась и подцепила пальцем струну «ми».
Выстрели она из револьвера, я пришел бы в не меньший ужас. Я вскочил и обрушился на нее: «Не смей прикасаться к этой скрипке!» Либби так испугалась, что отреагировала как ребенок, которого ударили. Она прошептала: «Мамочки!» – и попятилась от инструмента, отдернув руки за спину; ее глаза наполнились слезами, от смущения она повернулась к стене.
Я отложил документы и сказал: «Послушай… Ну извини. Я не хотел быть такой свиньей, но этому инструменту двести пятьдесят лет. Я сам обращаюсь с ним очень осторожно и обычно не позволяю…»
Стоя ко мне спиной, она махнула рукой. Сделала несколько глубоких вдохов, потом замотала головой, отчего волосы выбились из стягивающей их ленты (я упоминал, что у нее кудрявые волосы, цвета поджаренной булки и очень кудрявые?), и вытерла слезы кулаком. Потом она обернулась и сказала: «Извиняюсь. Все в порядке. Не надо было трогать твою скрипку. Я не подумала. Ты прав, что накричал на меня, правда. Просто на миг ты стал ну чистый Рок, вот и я психанула».
Язык другой планеты. Я повторил непонимающе: «Чистый рок?»
Она пояснила: «Рок Питере. Ранее известный как Рокко Петрочелли и в настоящее время мой муж. Только мы больше не живем вместе. То есть живем-то мы в одном месте, потому что бабки у него, а он не очень-то намерен давать их мне, чтобы я могла устроиться самостоятельно».
Я подумал, что она слишком юна, чтобы быть замужем, но выяснилось, что, несмотря на ее непосредственность и то, что я счел весьма милой предпубертатной пухлостью, ей исполнилось двадцать три года и она уже два года была замужем за вспыльчивым Роком. В тот момент, однако, я сказал лишь: «А-а».
Она продолжала рассказывать: «У него, типа, характер как порох, и, кроме всего прочего, например, он совершенно не понимает, что брак обычно подразумевает моногамию. Угадать, когда ему под хвост шлея попадет, невозможно. Я два года бегала от него по квартире и теперь решила, что хватит».
«О-о. Сочувствую». Признаюсь, мне было неловко выслушивать подробности ее личной жизни. Не то чтобы я непривычен к подобным излияниям. Эта манера открывать душу посторонним людям, по-моему, характерна для всех американцев, которых я встречал. Не знаю, может, ее воспитывают в них с детства, вместе с любовью к американскому флагу? И все-таки быть привычным к чему-либо не означает хотеть этого. Да и вообще я не совсем представлял себе, что мне делать со всеми этими сведениями, не имеющими ко мне никакого отношения.
И тем не менее Либби вывалила на меня еще целый ворох сугубо личной информации. Она хотела развестись, но он не хотел. Они продолжали жить под одной крышей, потому что она не могла скопить достаточно денег, чтобы снять себе отдельное жилье. Как только набиралась почти нужная сумма, Рок просто переставал выдавать Либби зарплату, и ей приходилось тратить свою заначку. «А зачем я ему нужна – это, типа, главная загадка моей жизни, понимаешь? В смысле, мужик полностью во власти стадного инстинкта, и что ему от меня надо?»
Как она объяснила мне, Рок был бабником высшей пробы и придерживался той философии, что группа самок – «стадо, сечешь?» – должна подчиняться одному самцу и обслуживаться им же. «Проблема в том, что в его представлении группа самок – это все женщины Земли. И его долг – трахнуть каждую из них, чтобы всем было хорошо». Тут она хлопнула себя ладонью по губам: «Ой, извиняюсь» – и ухмыльнулась. А потом сказала: «Черт, да что со мной такое! У меня же рот не закрывается! Ты подписал свои бумаги?»
Я их не подписал. Разве мне дали возможность ознакомиться с ними? Я сказал, что подпишу, только ей придется немного подождать. Она села в уголке.
Я прочитал договор, позвонил по телефону, уточняя некоторые вопросы, подписал, где надо, и отдал Либби. Она сунула бумаги в рюкзак, сказала спасибо, а потом наклонила голову набок и вопросительно взглянула на меня: «Одна просьба…»
«Какая?»
Либби переступила с ноги на ногу, явно смущаясь. Но тем не менее решилась, и я восхитился ее мужеством. Она сказала: «А ты бы… То есть, это, я раньше никогда не слышала, как играют на скрипке живьем. Сыграй для меня какую-нибудь песню, пожалуйста».
Она так и сказала: песню. Полное невежество. Но даже невежду можно чему-нибудь научить, и она ведь вежливо попросила. К тому же мне совсем нетрудно было это сделать. Все равно я репетировал, работал над сольной сонатой Бартока, поэтому исполнил для нее часть Melodia, играя так, как играю всегда: целиком отдаваясь музыке, ставя ее выше себя, выше присутствующих, превыше всего. К концу этой части я уже напрочь забыл о Либби и перешел к Presto, слыша в уме слова Рафаэля: «Представь, что Presto – это приглашение на танец, Гидеон. Почувствуй его легкость. Пусть оно все переливается и сверкает».
И когда я закончил, то не сразу понял, кто это стоит передо мной. Она проговорила: «О, вау. О, вау. О, вау. Слушай, даты просто супер!»
Видимо, в какой-то момент моего исполнения она начала плакать, потому что щеки у нее были мокрыми и она копалась в карманах своей кожанки в поисках платка, чтобы вытереть хлюпающий нос. Мне было приятно осознавать, что Барток тронул ее, и еще более лестным стало подтверждение того, что моя оценка ее способности к обучению верна. И должно быть, поэтому я предложил ей присоединиться ко мне за чашкой кофе, который я обычно пью в это время дня. День был ясный, и мы вышли с чашками в сад, где в увитой зеленью беседке лежал недоделанный мною воздушный змей.
Я уже говорил вам о моих воздушных змеях, доктор Роуз? В общем, говорить тут почти нечего. Просто иногда я испытываю потребность отвлечься от музыки и заняться чем-то другим. Тогда я делаю воздушных змеев и запускаю их с Примроуз-хилл.
Ах да. Я уже вижу, как вы ищете в этом скрытый смысл. Что символизирует создание и запуск воздушных змеев в истории пациента и его сегодняшней жизни? Наши действия продиктованы подсознанием. Сознанию всего лишь остается уловить значение этих действий и придать ему вразумительную форму.
Воздушные змеи. Воздух. Свобода. Но свобода от чего? От чего мне нужно освобождаться, ведь моя жизнь наполнена, богата и интересна?
Я считаю, что совсем необязательно и даже опасно искать значение где-то глубоко. Иногда все объясняется просто: когда мой талант проявил себя, мне, совсем еще ребенку, запретили заниматься всем, что может повредить мои руки. А придумывать и клеить воздушных змеев – здесь с моими руками ничего не могло случиться.
«Но вы ведь не станете отрицать значимость деятельности, связанной с небом, Гидеон?» – спрашиваете вы.
Я вижу только, что небо синее. Синее, как та дверь. Как та синяя-синяя дверь.
Гидеон
28 августа
Я сделал так, как вы предложили, доктор Роуз, и мне нечего вам сказать, кроме того, что чувствую я себя полнейшим идиотом. Вероятно, эксперимент имел бы иные результаты, если бы я согласился провести его в вашем кабинете, но я не мог сосредоточиться на том, что вы говорили, и в тот момент мне все это казалось абсурдом. Еще большим абсурдом, чем часы, потраченные на писанину в этой тетради, которые я мог бы провести, занимаясь на своем инструменте, как раньше.
Но я так и не прикоснулся к нему.
«Почему?»
Не спрашивайте об очевидном, доктор Роуз. Она ушла. Музыка ушла.
Утром заходил папа. Он заглянул, чтобы узнать, не стало ли мне лучше (читайте: «не пробовал ли я играть», но он пощадил меня, не задав вопрос напрямую). Хотя никакой нужды спрашивать не было, потому что Гварнери лежал там, где он оставил его, когда привел меня домой после происшествия в Уигмор-холле. Мне не хватило духу даже на то, чтобы прикоснуться к футляру.
«Почему?» – опять спрашиваете вы.
Вы знаете ответ. Потому что сейчас мне не хватает смелости: если я не могу играть, если дар, слух, талант, гений – называйте как хотите – умер или совершенно покинул меня, то как мне жить? Не что мне делать дальше, доктор Роуз, а как жить? Как жить, если суть и содержание того, чем я являюсь и чем был на протяжении двадцати пяти последних лет, целиком определялось музыкой?
«Тогда давайте обратимся к самой музыке, – говорите вы. – Если каждый человек в вашей жизни каким-то образом ассоциируется с музыкой, возможно, нам следует более внимательно изучить вашу музыку, чтобы отыскать в ней ключ к тому, что вас беспокоит».
Я смеюсь и говорю: «Это что, каламбур? Вы намекаете на скрипичный ключ?»
Но вы смотрите на меня своим пронизывающим взором, отказываясь принять мой легкомысленный тон. Вы говорите: «Значит, то произведение Бартока, о котором вы писали, та скрипичная соната… С ней вы ассоциируете Либби?»
Да, эта соната ассоциируется у меня с Либби. Но Либби не имеет никакого отношения к моей проблеме, уверяю вас.
Кстати, отец нашел эту тетрадь. Когда он заходил проверить, как мои дела, он нашел ее на столе у окна. И прежде чем вы спросите, хочу сразу сказать: он ничего специально не высматривал. Может, он и неисправимо узколобый сукин сын, но не шпион. Просто последние двадцать пять лет жизни он отдал поддержанию карьеры своего единственного ребенка, и ему не хотелось бы видеть, как эта карьера окажется выброшенной на свалку.
Хотя недолго мне оставаться его единственным ребенком. Я совсем забыл об этом в связи с… вы знаете в связи с чем. Ведь есть же еще и Джил. Мне трудно представить, что в моем возрасте у меня появится брат или сестра, я уж не говорю о мачехе, которая старше меня едва ли на десяток лет. Но сейчас настала эпоха эластичных семей, и здравый смысл подсказывает, что человеку приходится растягивать свои понятия в соответствии с меняющимися определениями супругов, родителей, а также братьев и сестер.
И все-таки мне кажется немного странной вся эта история с отцом и его новой семьей. Не то чтобы я рассчитывал, что он навсегда останется разведенным одиноким мужчиной. Просто после двух десятилетий, за которые он ни разу, насколько мне известно, не был на свидании с женщиной и уж тем более не заводил никаких более тесных отношений, связанных с той разновидностью физической близости, после которой появляются дети, для меня это стало некоторым шоком.
Я познакомился с Джил на Би-би-си, когда пришел просмотреть первый вариант документального телефильма, снятого о Восточной Лондонской консерватории. Было это несколько лет назад, перед тем как она сняла ту потрясающую экранизацию «Отчаянных средств» (кстати, вы не смотрели ее, доктор Роуз? Джил оказалась большой поклонницей Томаса Харди). А тогда она работала в отделе документальных фильмов или как это у них называется. Должно быть, папа встретил ее примерно в то же время, однако я не припомню, чтобы видел их вместе, и не могу сказать, были они уже любовниками или нет. Что я помню, так это один ужин у отца, на который он меня пригласил. Я вошел в дом и увидел на кухне Джил, она там вовсю хозяйничала, и хотя я был весьма удивлен ее присутствием, но объяснил его себе тем, что ей нужно было занести отцу окончательную версию фильма, чтобы мы взглянули на нее еще раз. Полагаю, это и было началом их отношений. После этого вечера папа стал уделять мне чуть меньше времени, чем раньше, теперь я вижу это. Так что да, должно быть, тогда все и началось. Но поскольку Джил с отцом не жили вместе – хотя папа говорит, что после рождения ребенка они съедутся, – у меня не было никаких оснований предполагать, что между ними что-то есть.
«А теперь, когда вы знаете? – спрашиваете вы. – Что вы чувствуете? И когда вы узнали о них и о будущем малыше? И где?»
Я вижу, к чему вы клоните. Но должен предупредить вас, что это тупиковая ветка.
О планах отца связать дальнейшую жизнь с Джил я узнал несколько месяцев назад. Нет, не в день концерта в Уигмор-холле и даже не в ту самую неделю и не в тот самый месяц. И когда мне объявили о скором появлении у меня брата или сестры, нигде поблизости не было никакой синей двери. Вот видите, я знал, куда вы ведете, верно?
«Но что вы чувствуете в этой связи? – настаиваете вы. – Вторая семья вашего отца после всех этих лет…»
Это не вторая его семья, поправляю я вас, а третья.
«Третья?» Вы просматриваете записи, которые ведете во время наших с вами сеансов, и не находите упоминаний о более ранней семье, до моего рождения. Тем не менее она была, и в той семье был ребенок, девочка, которая умерла в младенчестве.
Ее звали Вирджиния, и я не знаю точно, как она умерла или где, и не знаю, через сколько времени отец решил развестись с ее матерью и кем была та женщина. О существовании у меня сестры и вообще о первой семье отца я узнал случайно – когда дедушка начал бушевать во время одного из своих «эпизодов». Его крики и проклятия, как обычно, сводились к ключевой фразе «Ты мне не сын», только в тот раз он добавил еще, что папа ему не сын, потому что он производит одних только выродков. Должно быть, мне поспешили дать кое-какие объяснения (мать? или кто-то еще?), так как, услышав о выродках, я решил, что дедушка имеет в виду меня. Поэтому я делаю вывод, что Вирджиния умерла от какой-то болезни, вероятно наследственной. Но от какой именно, я не знаю: человек, рассказавший мне о Вирджинии, либо сам этого не знал, либо не сказал мне, а впоследствии эта тема при мне больше никогда не поднималась.
«Больше никогда не поднималась?» – повторяете вы за мной.
Вы же знаете, как это бывает, доктор. Дети не любят говорить о том, что у них ассоциируется с хаосом, смятением и ссорами. Они довольно рано усваивают, что лучше не дергать за хвост спящую собаку. И смею предположить, что вы в силах сделать дальнейшие умозаключения самостоятельно: поскольку центром моего мироздания была скрипка, то, получив уверения в добром отношении ко мне деда, я выбросил услышанное из головы.
Но вот синяя дверь – это нечто совершенно иное. Как я уже говорил в самом начале, я сделал так, как вы меня просили, и повторил то, что пытался проделать в вашем кабинете. Я мысленно нарисовал эту дверь цвета берлинской лазури: серебристое кольцо примерно посредине, которое служит в качестве ручки; два замка, сделанные, кажется, из того же серебристого металла, что и кольцо; и, вероятно, номер дома или квартиры вверху.
Я задернул в спальне занавески и растянулся на кровати, закрыл глаза и представил дверь; я представил, как подхожу к ней; я увидел, как моя рука берется за кольцо, служащее ручкой, как мои пальцы вставляют ключи в замки: сначала я вставляю в нижний замок большой старомодный ключ с крупными, простыми для подделки зубцами, потом открываю верхний замок, более современный и надежный. Когда оба замка открыты, я опираюсь плечом о дверь, толкаю и… ничего. Абсолютно ничего.
Там ничего нет, доктор Роуз, как вы не видите? Мой мозг пуст. Вы бы хотели интерпретировать то, что я найду за дверью, или то, какого она цвета, или тот факт, что она закрыта на два замка, а не на один, что там кольцо, а не ручка – может, он бежит от обязательств или отношений, спрашиваете вы себя, – а я тем временем, вдохновленный данным упражнением, начинаю выворачивать перед вами душу. Нет, ничего мне не открылось. Ничто не пряталось за той дверью. Она не ведет ни в одну комнату, которую я мог бы вообразить, она просто стоит наверху лестницы как…
«Лестница, – хватаетесь вы за слово. – Значит, там была лестница».
Да, лестница, которая, как мы оба знаем, знаменует собой восхождение, подъем, вылезание, выползание из ямы… Ну и что?
Вы видите по моим каракулям, что я возбужден. Вы говорите: «Не прячьтесь от своего страха. Он не убьет вас, Гидеон. Чувства не убивают. И вы не одиноки».
«Я никогда так не думал, – говорю я вам. – Не надо говорить за меня, доктор Роуз».
2 сентября
Приходила Либби. Она знает, что со мной не все в порядке, потому что не слышала скрипки несколько недель, тогда как раньше скрипка звучала в доме часами ежедневно. В принципе, именно из-за этого я не стал сдавать квартиру на первом этаже, когда она освободилась. Я имел в виду возможность аренды, когда покупал дом на Чалкот-стрит, но мне не захотелось отвлекаться на передвижения арендатора: вот он пришел, вот ушел, пусть и через отдельный вход, – а еще я не желал ограничивать часы своих занятий соображениями о приличиях. Обо всем этом я рассказал Либби в первый же день, когда она уже уходила. На крыльце она застегнула кожанку, надела на голову шлем и нечаянно заметила пустующие помещения за решетками из кованого железа. Она сказала: «Bay. Это сдается или как?»
И я объяснил ей, почему в квартире никто не живет. «Когда я только въехал сюда после покупки дома, на первом этаже жила молодая пара, – сказал я. – Но поскольку они так и не смогли полюбить музыку настолько, чтобы наслаждаться ею в любое время суток, то вскоре сменили место жительства».
Она наклонила голову и сказала: «Эй, тебе сколько лет, а? И ты что, всегда говоришь так, будто тебе в задницу бутылку засунули? Когда ты показывал мне воздушного змея, то все было нормально. А сейчас что с тобой случилось? Это как-то имеет отношение к тому, что ты англичанин? Вышел из дому, и раз – вот ты уже и не ты совсем, а Генри Джеймс?»
«Он не был англичанином», – сообщил я.
«Хм. Жаль. – Она начала затягивать ремешок шлема, но у нее не получалось, как будто она была чем-то расстроена. – Школу я закончила только благодаря шпаргалкам, приятель, так что не отличила бы Генри Джеймса от Сида Вишеса. [7]7
Сид Вишес – бас-гитарист группы «Sex Pistols».
[Закрыть]Вообще не знаю, чего я про него вспомнила. Как и про Сида Вишеса, если на то пошло».