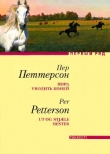Текст книги "Зима в Сокчхо"
Автор книги: Элиза Шуа Дюсапен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Он задумался.
– Она вечная.
В горле встал ком. Зачем Керрану понадобилось мое мнение, какая ему разница, что я скажу, ведь все равно сегодня вечером он отыщет другую женщину? Что бы я ни сделала, он так и останется отчужденным, далеким, в мире своих рисунков. Пусть этот француз возвращается в свою Нормандию! Я слизнула с кальмара остатки молочной пены. Встала. Пора, в отеле есть работа. Керран пристально посмотрел на меня. Потом опустил глаза и сказал по-французски, словно обращаясь к самому себе, что проводит меня.
– Мне лучше одной.
Я вышла из кафе, хотелось обернуться – пусть же он скажет, что все-таки проводит, – хотелось умолять его догнать меня. Но Керран шел позади до самого отеля. Надувной дельфин по-прежнему висел на триумфальной арке, зацепившись за нее плавником. Весь потрескался и завял от холода. Уголки рта опали, и вместо улыбки была печаль.
* * *
Спустя два дня вернулся Джун Ох, около полуночи. Его автобус задержался из-за снега. Я ждала его в гостиной, приготовив кальмаров с имбирем, к которым он не притронулся – он уже поел, теперь надо блюсти фигуру.
По пути в малое здание отеля я обратила его внимание на то, что за время отъезда он ни разу не спросил, как у меня дела. Джун Ох возразил, что от меня самой не было ни одного звонка. Мы отдаляемся друг от друга, его это тревожило. Я должна поехать в Сеул вместе с ним, его зарплаты хватит на двоих, пока я не устроюсь куда-нибудь. Я вздохнула. Мы ведь уже обсуждали это, я не могу бросить маму. Тогда пусть переезжает в Сеул тоже. Я покачала головой, маме не удастся найти там работу, а я не хочу жить с ней под одной крышей. Джун Ох сжал мою ладонь. Он не может отказаться от предложенной ему работы, это настоящий шанс сделать карьеру. Я представила себе Сеул. Алкоголь, смех, слепящие глаза огни, тело чуть ли не лопается от шума, и эти девушки, все эти девушки и молодые люди, которым пластические хирурги изготовили искусственные лица, город извивается в дурманящем танце и упивается чувством собственного превосходства, – ладно, поехали, сказала я Джуну Оху. Не стоит отказываться от всего этого ради меня. Он ответил, что я глупая. Он ведь так любит меня.
Лежа в кровати, мы молчали. Уставились в потолок. В конце концов Джун Ох сказал шепотом, что завтра едет на автобусе обратно в Сеул. Ноги заледенели. Я прижалась к нему. Он откинул мне волосы с затылка и хотел поцеловать. Я сказала, что за стенкой сосед. Джун Ох засопел, снял с меня ночную рубашку и начал ласкать живот, спускаясь все ниже. Я сопротивлялась, но потом уступила. Сдалась желанию быть желанной.
* * *
Встала рано, чтобы успеть приготовить завтрак. Потом вернулась в комнату. Голый по пояс, обмотав бедра полотенцем, Джун Ох стоял перед ванной и ждал, когда она освободится. Открылась дверь, и сквозь облако пара вышел Керран. Увидев Джуна Оха, он внимательно посмотрел на него, потом поздоровался кивком головы и ушел к себе в номер. Джун Ох расхохотался: ну и нос у этого типа. Я ответила, что он мог бы заказать хирургу точно такой же. Джун посмотрел на меня в недоумении. А ты переменилась. Я поцеловала его в лоб, чепуху ты говоришь, лучше поторапливайся, автобус не станет ждать.
На стойке администратора я обнаружила большую коробку. Это мама принесла утром, объяснил Парк. Видеть меня не захотела. В коробке оказалась колбаса из спрута.
Я пошла на кухню положить ее в холодильник и заметила за стеклянной перегородкой девушку с перебинтованным лицом. Она ела тток с медом. От горячих тток мед нагрелся и тонко стекал на тарелку. Поев немного, девушка прижала к уху телефон и стала что-то говорить – насколько позволяли бинты. Закончив разговор, неторопливо взялась за уголок бинта. И начала снимать перевязку. По мере того как обнажалась кожа, проступали шрамы. Брови еще не отросли. Лицо было словно опаленное огнем, ни женское, ни мужское. Девушка поскребла ногтем щеку. Затем стала ковырять ее. Копаться внутри раны. Погружая пальцы все глубже. Перебирая что-то. Бледно-розовые лоскуты кожи стали падать ей на колени, на пол. Закончив, она огляделась вокруг, изумленная. Взяла полотенце, которым я вытираю посуду, аккуратно собрала бинты и куски кожи, положила их себе в тарелку на тток и отправила все в мусорную корзину.
Я поскорее ушла на свое рабочее место, чтобы девушка не заметила меня, выходя из столовой.
В два часа дня она уехала в Сеул.
* * *
Укутанный розовым светом лампы и голосом Эдит Пиаф по радио, Парк, причмокивая, ел пасту. Старик попросил меня приготовить ее на мясном бульоне, от рыбы он уже устал. Звук радио стал трескучим, побежали помехи. Парк выключил приемник. Словно окаменев, он сказал, что днем заметил неподалеку от моста еще два новых отеля. Теперь деваться некуда. Придется взять денег в долг и до наступления лета закончить наконец ремонт первого этажа, иначе его песенка спета.
Жирным пятном в моем супе плавал кусочек кимчи. Вспомнились лоскуты кожи, которые снимала с лица перебинтованная девушка. Как можно безучастнее я спросила Парка, не видел ли он француза. Три дня назад уехал Джун Ох, и с тех пор Керран не показывался, на двери комнаты висела табличка «Do not disturb»[12]12
Не беспокоить (англ.).
[Закрыть]. Вещей на стирку он не отдавал и не приходил читать в гостиную. О его присутствии можно было догадаться только по шуму воды в ванной, следам зубной пасты на раковине и постепенно тающему куску мыла. Днем раньше мы пересеклись возле супермаркета, Керран прошел мимо, не проронив ни слова. Стоял густой туман, это правда, но мы были всего в паре метров друг от друга.
Парк пробубнил, что пора бы сходить к зубному. Я посмотрела на старика. Когда он жевал, движения его горла напоминали трепыхание птенца, который совсем недавно вылупился и вот-вот умрет.
Вечером я позвонила Джуну Оху. Спросила, как дела, и сказала, что расстаюсь с ним. Молчание. Мне даже показалось, он повесил трубку. Наконец Джун Ох спросил почему. Встав с кровати, я отдернула штору. Шел мокрый снег. Накрыв голову газетой, по тротуару спешил прохожий. Вот он свернул в переулок и исчез из виду. Блекло и обессиленно Джун Ох сказал, что устал и не станет удерживать меня, поговорим об этом позже.
Я сняла шерстяное платье. Подошла ближе к окну, прижала живот и грудь к стеклу. Когда тело онемело от холода, я легла спать.
За стенкой шелестело перо – движения руки медленные. На улице по ветру мчались сухие листья. Шелест пера – без напора. В нем грусть. Или, скорее, меланхолия. Наверное, женщина улеглась у художника на ладони, обвила пальцы, ластится к бумаге. Перо не смолкало всю ночь. И некуда было деться от этой муки, хотелось заткнуть уши. Пытка продолжалась до самого рассвета, пока перо не смолкло, и только тогда, вконец обессиленная, я уснула.
* * *
На четвертый день вечером, не выдержав, я постучалась к нему в комнату. Услышала, как за дверью звякнуло: он закрыл пузырек с чернилами. Появился на пороге босиком, под глазами темные круги. Рубашка под свитером топорщится. На письменном столе – ворох рисунков и эскизов, коробочка лапши быстрого приготовления. Я переминалась с ноги на ногу.
– Молодой человек, тот, которого вы видели на днях, это совсем не то, что вы думаете…
Керран нахмурился, словно пытаясь вспомнить, о ком речь. Потом на его лице отразилось удивление. Я почувствовала себя идиоткой. Спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, он ответил, нет, спасибо, он работает.
– Можно посмотреть новые рисунки?
– Вообще, мне не хотелось бы.
Мое смущение вытеснил гнев.
– Почему?
– Если я сейчас покажу ее, ту женщину, история так и останется незавершенной.
– Она останется незавершенной до тех пор, пока вы не разрешите мне взглянуть…
Керран подался в сторону, как будто хотел заслонить собой письменный стол. И сказал, приложив руку к затылку:
– Мне очень жаль, но рисунков я показать не могу.
Потом добавил, что у него нет сейчас времени, нужно проделать еще много работы.
Я закрыла дверь.
Потом открыла снова и опустошенным голосом сказала:
– Ваш герой. Он не найдет ее, если он такой же, как вы. Здесь он точно не найдет ее. Здесь ему нечего искать.
Керран сидел за столом и уже занес было руку над бумагой. Но потом замер. На кончике кисти набухала чернильная капля, вот-вот готовая сорваться. Мне показалось, на его лице промелькнуло отчаяние. Темная капля шлепнулась на лист, утопив в себе край пейзажа.
Я прошла по переулку до основного здания отеля, на кухне развернула мамину колбасу и, сев на пол, стала исступленно есть, заполнила едой тяготившее меня тело, набила его колбасой так, что чуть не задыхалась, и чем больше я ела, тем большее отвращение к самой себе испытывала и тем быстрее жевала, поглощая пищу жадно и торопливо, пока наконец, отупев от обжорства, не повалилась на пол и из желудка со спазмами не хлынула на ноги кислая рвота.
В коридоре зажглась зеленая лампа. Шум шагов. Вошел Парк. Обвел взглядом кухню. Посмотрел на мои растрепанные, упавшие на лицо волосы. Приподнял меня, стал гладить по спине, как гладят ребенка, успокаивая его, и, обернув своим пальто, отвел в мою комнату, всё – молча.
* * *
Весь следующий день, изнуренная болью в желудке, я делала все механически. Едва представлялась возможность, спешила к себе в комнату и ложилась на электрическую грелку, с подушкой под поясницей, раскинув руки и ноги, чтобы как можно меньше соприкасаться с собственной кожей. Только в ночной рубашке и было удобно – без тугого пояса, стягивавшего живот. Подолгу смотрела в окно.
Стук в дверь, два удара. Керран. Ему нужно снова сходить в супермаркет, где он тогда покупал чернила и бумагу. Если меня не затруднит, не могла бы я пойти вместе с ним, объяснить кое-что продавцу?
У меня перехватило дыхание.
Керран добавил, что ничего страшного, если я не пойду, он справится сам. Потом помолчал. И сказал – по-французски, – что я права. Вот уже много лет он не различает себя и своего персонажа. И ему неловко, что я трачу на него столько времени, скоро он возвращается домой. Через четыре дня.
И ушел.
Я добрела до кровати и сжалась под одеялом.
Он не имеет права уезжать. Сбегать, прихватив с собой всю эту историю. Выставлять ее на публику, показывать читателям на другом конце света. Он не имеет права бросать меня вот так, с моей историей, которая истощится и иссохнет здесь под скалами.
Это не было желанием физической близости. Оно невозможно – в отношении него, француза, иностранца. Да, именно так, это не любовь и не желание. Я заметила, как изменился его взгляд. Вначале он просто не видел меня, не придавал мне значения. Он по-настоящему осознал мое присутствие постепенно – подобно тому, как змея медленно обвивает спящего человека или как хищник выслеживает добычу. Теперь его взгляд, осязаемый, плотный, идущий из нутра, вобрал меня без остатка. Я поняла то, чего не понимала раньше, – что часть меня существует и на другом конце света тоже, а большего мне и не нужно. Нужно лишь одно – жить в касании его кисти к бумаге, в гибких линиях, в чернилах, погрузиться в них целиком, и пусть он забудет всех прочих женщин. Он говорил, ему нравится моя точка зрения, мое восприятие. Он действительно говорил это. Произнес бесстрастно, сухо, как горькую и не слишком приятную истину, которая не затрагивает ни краешка его души, как констатацию факта.
А мне не нужна констатация факта. Мне нужно, чтобы он рисовал меня.
Вечером, пока Керран был в ванной, я вошла к нему в комнату. Рисунки собраны. В мусорной корзине бумажный шарик, который он, похоже, недавно жевал. Я достала и развернула его. Еще влажный и клейкий. Клочок женщины. Но даже по обрывкам линий я теперь могла достроить образ, так и оставшийся не прорисованным. Она спит, подбородок на разомкнутых ладонях. Пусть же художник вдохнет жизнь в эту чародейку, пусть она наконец проснется – и если бы я только могла пробудить ее! Я подошла к столу. В пузырьке поблескивали чернила. Обмакнув палец, я провела им по лбу, щекам, носу. Чернила просочились между губ. Холодная темная жидкость. Липкая. Я снова окунула палец в пузырек и коснулась подбородка, шеи, ключиц. А потом вернулась к себе в комнату. Чернила затекли в глаз. Жгло, и я крепко зажмурилась. Когда я собралась открыть глаза, веки были склеены. Я стала вырывать ресницы, и вот наконец в зеркале проступило мое новое лицо.
* * *
Прошло три дня – в неспешном ритме, с каким лодка покачивается на складках морской зыби. Керран не показывался, а я всякий раз старалась возвращаться к себе в комнату как можно позже, когда он наверняка уже ложился спать. Вечерами я ходила до пристани. Добытчики кальмаров готовились к выходу в море. Хлебали суп в своих лачугах, закутывались в плащи, чтобы ветер не холодил живот и шею, и шли к причалу, залезали в лодки – лодок было двадцать четыре, – зажигали лампочки на проводах, протянутых от носа до кормы: свет манит к себе моллюсков, пусть даже те далеко от берега. Всё – молча, все движения с наработанной годами сноровкой, отшлифованные, в толще тумана. Я шагала по дамбе до пагоды сквозь затхлый портовый запах, жирной пленкой оседавший на коже, море наносило крупицы соли на щеки, язык, во рту чувствовался привкус металла, и вспыхивали скопища береговых огней, рыбаки отдавали швартовы и со своими гирляндами лампочек отправлялись на промысел – церемонная, гордая вереница лодок, вскормленная морем.
* * *
Утром четвертого дня, когда я разбирала в прачечной вещи для стирки, мне попались брюки – судя по всему, их забыла перебинтованная девушка. Сняв колготки, я примерила их. В бедрах оказались широки, но в талии не сходились, и мне не удавалось застегнуть пуговицу. Я чуть не расплакалась и сняла брюки. Надевая колготки, обнаружила, что они порвались. На корточках стала искать в ворохе вещей другую пару, и в этот момент вошел Керран.
Он встал на пороге, с пакетом вещей в руках. Я натянула подол платья на ноги. Сказала, что подбираю для стирки вещи схожих цветов и пусть он просто оставит свой пакет. Неловким движением Керран положил свою одежду – так, словно его руки были слишком длинными и он не понимал, как с ними управиться; однако чуть погодя передумал, а вообще-то стирать не стоит, автобус ведь уже завтра в десять утра.
– Я отправлю вам экземпляр своего комикса, когда он выйдет.
– Вы вовсе не обязаны это делать.
Он тоже сел на корточки. От запаха стирального порошка вперемешку с запахом бензина у меня закружилась голова.
– Чем отблагодарить вас?
Я поскорее закинула вещи в машинку. Встала. Хотела было уйти, но рука Керрана легла мне на колено. Не поднимая взгляда, он медленно потянулся к моей ноге. И прижался щекой к бедру.
В барабане начали подскакивать вещи, перекатывалась вода. Глухой, гудящий звук. Ткань поднималась и опадала. Тяжелая, влажная. Снова поднималась и опадала. Вертелась, мелькала все быстрее. И вот осталось только вращение, вихрь, с треском колотивший по стеклянной дверце. А потом я уже не слышала шума машинки. Это длилось лишь миг. Несколько секунд, самое большее. И гул барабана вернулся.
– Попробуйте все-таки, как я готовлю, – произнесла я.
И опустила глаза. Керран уткнулся взглядом в машинку. Он был уже не здесь, где-то еще, и выглядел так, словно потерпел поражение и раздавлен усталостью. Наконец он поднялся и тихо сказал:
– Да, разумеется.
И вышел, закрыв за собой дверь.
* * *
После ужина мы с мамой устроились на диване перед телевизором. Мама легла позади меня, раскинув ноги вокруг моих ног.
– А ведь раньше ты не приходила по субботам, – сказала она, массируя мне затылок.
– Парк едет завтра в Сеул, и в понедельник мне нужно быть на работе.
Телеведущая показывала, как сделать искусственные усы при помощи специального пульверизатора с волосками и клеем. Мама не отрывала глаз от экрана, жадно вглядывалась в скачущие кадры, как знать – может, Джун Ох участвует в передаче, хотя высмотреть его трудно, в телевизоре все на одно лицо. Так или иначе, она ликовала, Джун Ох теперь станет знаменитостью. Придется скоро сказать ей, что мы расстались, подумала я. Мама стала растирать мне плечи, сетуя, что чересчур уж острые у меня ключицы. От ее сильных рук мурашки мчались в самые кончики пальцев. Мамины ладони шершавые и жесткие, точно валуны.
– Тебе бы кремом мазать руки…
– Ох, да ты ведь сама знаешь…
Пока шла реклама, мама сходила на кухню за пакетиком желе из хурмы. Вот этой марке можно доверять. Подарок от тети. Мама, с огоньком в глазах, открыла упаковку – припасла ее специально к моему приходу. Я напомнила ей, что не слишком-то люблю желе. Сникнув, мама смотрела на вскрытый пакетик. Желе нужно съесть сразу, оно не хранится. Прислонившись к спинке кровати, она попробовала. По телевизору рассказывали о чудодейственном средстве от расширенных пор. Взяв у мамы желе, я стала есть. В горло сочилось что-то мокрое и вязкое. Мама довольна. А экран телевизора между тем распылял на нас частицы искусственной жизни.
* * *
На рассвете, пока мама еще спала, я прошла через разгрузочный ангар до рыбного рынка. В пятне света от моего фонарика перебирали щупальцами осьминоги в аквариумах. Неубранная с вечера посуда, кувшины с оранжевой жидкостью. Кислый запах. Хлесткий отзвук моих шагов, хлюпанье ботинок в лужах. В тишине звуки разрастаются, становятся выпуклыми, ширятся, как будто находишься под водой.
Возле маминого прилавка покачивались в аквариуме фугу, рты разинуты, на рыбьих лицах удивление. Мама вырвала им зубы, чтобы фугу не кусали друг друга. Пухлые губы. Поразмыслив, я выбрала самую глупую на вид. Вынула ее из воды. Рыба отчаянно била плавниками. От волнения я стукнула по ней слишком сильно и раздавила голову. Положив фугу в пакет, я зашагала к отелю.
На небе румянец. Оставив фугу в холодильнике, я пошла в ванную и долго стояла под душем. Надела акриловую блузку, попыталась снова приладить линзы. На этот раз они сели, как нужно. Черным карандашом подвела глаза. Тушь для ресниц засохла, и пришлось плеснуть туда воды, прежде чем краситься. Волосы собрала повыше в свободный пучок, посмотрелась в зеркало.
Лицо выглядело уставшим. Блузка топорщилась на животе. Я хотела было переодеться, но сколько можно носить одно и то же шерстяное платье; я осталась в блузке.
Стоя на кухне, заметила, что стеклянная перегородка вся мутная, перед приходом Парка хорошо бы вымыть ее. Я включила радио. Премьер-министр говорил о коммерческом договоре с Китаем. Положив фугу на разделочный стол, я восстановила в памяти все мамины движения – отточенные, верные, – когда она готовила эту рыбу. Движения должны быть безупречны.
* * *
У рыбины не было ни чешуи, ни твердых наростов, ее скользкая влажная кожа поскрипывала под рукой. Я вытерла фугу тряпкой и отрезала ножницами плавники, взяла нож, отделила голову. Хрящи оказались жестче, чем я думала. Нашла другой нож, побольше. Сухой треск. Осторожно надрезала бок, стараясь не задеть внутренностей, потом нож вошел в брюхо глубже, как в спелую хурму. Яичников не было, значит, особь мужская. Счистив кровь ложкой, я вытащила кишки, сердце и желудок – вытащила пальцами, чтобы не проткнуть. Блестящие под тонкой оберткой из лимфы. Потом я аккуратно удалила фугу печень и сделала надрез возле желчного пузыря. Пузырь маленький. Бледно-розовый шарик. Я слегка нажала ладонью на рыбий бок, желчный пузырь стал вздрагивать. Завернув внутренности в пакет, я выбросила все в ведро.
Теперь фугу напоминала сдутый резиновый мяч. Я вымыла руки, ополоснула под краном рыбу и разрезала ее на части. Светлая, почти неосязаемая, будто сотканная из пара плоть. Промокнув куски салфеткой, чтобы ка них совсем не осталось крови, я стала делить их на тонкие ломтики. Самым острым из своих ножей. Лезвие подрагивало.
Через час я закончила.
Натерла редис и приготовила подливку, добавила туда немного рисового уксуса и соевый соус, взяла большое керамическое блюдо. Летящие журавли инкрустированы перламутром. Разложила на блюде ломтики фугу. Тончайшие – словно перышки, почти такие же невесомые, как воздух. В обрамлении из перламутра. Видела бы это мама.
* * *
В переулке, где была лавка тетушки Ким, навстречу мне выбежала кошка. Держа в одной руке блюдо с фугу, я нагнулась погладить ее. Кошка сочно мурлыкала и тянулась мордочкой к рыбе. Глаза так и горели. Увязалась за мной по переулку, потом отстала.
* * *
Калитка открыта. Я остановилась. Две тонкие линии рассекали снежный двор. И были следы. От комнаты Керрана, мимо фонтана, каштана – до калитки, следы, уходящие прочь.
Две тонкие линии. И отпечатки его шагов.
Я стояла и смотрела на них.
А потом пошла мимо брезентового навеса в его комнату.
* * *
Шторы задернуты. Одеяло аккуратно сложено на кровати. Запах его дыхания. И дым благовоний. В зеркале – дорожка света, пыль матово вертится в пробившемся между штор луче. И оседает на письменный стол. Как в замедленной съемке.
На столе его блокнот в потертом холщовом переплете.
Поставив блюдо с рыбой на пол, я подошла кокну.
Странно.
Никогда не замечала, что на подоконнике столько пыли. Я села на кровать. Осторожно. Чтобы не смять простыни. Прислушалась. В ушах глухой гул. Постепенно гул удалялся в тишину. Свет из окна тускнел, затушевывая очертания предметов. Я посмотрела на рыбу. Возле ножки кровати чернильное пятно. Со временем оно выцветет и исчезнет.
Взяв со стола блокнот, я раскрыла его.
* * *
Археолог и птица. Цапля. Стоят на берегу, смотрят на море, зима. Позади – гора, выбеленная снегом. Гора не спит. Тут и там – просторные окошки для текста. Пустые. Цапля как будто бы уже старая, с одной ногой и серебристыми перьями. Красивая. Из ее клюва бежит поток воды, питающий море.
Я переворачивала листы.
От страницы к странице персонажи без возраста и лиц входили в мир цвета, краски пробуждались медленно и были робкими, напоминая едва приметные следы на мокром песке. Почти прозрачные, случайные, кроткие оттенки желтого и синего – словно рука художника вкрапляла их наугад, пробуя, что получится. Цвета полоскал ветер, выдувая их из окошек для текста, море выплескивалось на берег, накрывало гору, вбирало в себя небо, размывало все контуры и замирало, лишь дойдя до границ листа. Простор, подмявший под себя пространство. Простор, который развертывается перед тобой в единый миг, когда полностью погружаешься в него, а потом вмиг исчезает, – и едва ли можно уловить, как это происходит, подкараулить момент перехода от безграничного к тому, что сжато границами; так же незаметно снежинка, падая, касается морской пены и начинает гаснуть, в то время как другая снежинка уже готова прильнуть к волне.
Я перевернула еще несколько страниц. История выходила из берегов. Разливалась, ширилась, текла сквозь мои пальцы, застилала глаза. Цапля опустила веки. Все вокруг – лишь синева. Бумага, затопленная синим цветом. И на глади моря – кто-то блуждает в зиме, петляет среди волн. Хрупкий силуэт – женщина, вот ее плечо, живот, грудь, изгиб талии, а дальше – чешуя, плетение чернил на бедре и
длинный тонкий
шрам —
рассеченная кистью рыбья чешуя.