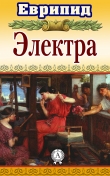Текст книги "Орест и сын"
Автор книги: Елена Чижова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он закрыл книгу и крепко сжал ее между ладонями, словно склеил страницы. “Возьмите”, – возвратил Ксении и подманил кошку. Грациозное создание подошло капризной поступью и, не даваясь в руки, стало выписывать восьмерки вокруг его ног. Гладкая эбонитовая шерсть поднялась дыбом. Недвижный взгляд Ореста Георгиевича устремился в конец прямой перспективы. Ксения посмотрела на скуластую кошачью мордочку и не решилась спросить.
“Хотите, я тоже покажу вам интересное?” – Орест Георгиевич предложил, словно книга, назначенная на продажу, навела его на мысль. Он выдвинул ящик темного бюро и вынул лакированный альбом, замкнутый металлическими застежками, похожими на дверные петли. “Тут, – пальцы пробежали по обрезу, – наше семейство. Посмотрим?” – Он качал альбом на руке и смотрел на Ксению, как будто взвешивал, достойна ли. “Да”, – Ксения согласилась вежливо. Хозяин взялся за верхний угол. Альбом раскрылся, скрипнув петлями.
На первой странице под нежным покровом папиросной бумаги помещался желтоватый, немного размытый временем снимок: мальчик лет десяти стоял рядом с теленком. В самом низу ломкой вязью от руки было написано: “1860”. “Мой прадед. Дагерротип сделан в Бадене”. – “Они были богатые?” – спросила Ксения. Название места встречалось в литературе. “Земля, крестьяне... – Он немного растерялся. – Да, владения солидные. Впрочем, быстро обеднели после реформы. А это мой дед”.
Ксения смотрела на скуластое лицо, обложенное прямоугольной бородкой, и слушала, что дед был форменным разночинцем, любил шить сапоги, сам растягивал кожу, сам сушил ее, всю кладовку заставил колодками. Орест Георгиевич махнул рукой на лабораторную дверь: “Бабушка сердилась, потому что была светской львицей, а муж ходил по дому в фартуке и с молотком. Человек должен быть гармоничным…” – Он изменил голос, словно передразнил. Дама на фотографии не походила на светскую львицу – полная, с чуть одутловатыми щеками. “Но, как ни странно, счастливый брак, – сказал Орест Георгиевич и, как будто восстанавливая какую-то непонятную Ксении справедливость, добавил: – Химик, дружил с Менделеевым, одно время входил в коллегию присяжных”. – “А где же ваш отец? Он тоже хотел – гармоничным?” – Ксении стало интересно. Орест Георгиевич нахмурился. Не поворачивая страницы, он показал рукой на книжную полку: “Тоже был химиком. А теперь – чай пить. Антоша, подавай парадный сервиз”.
Уже не для гостьи, для себя он перевернул еще один лист. Ксения успела заметить молодую, коротко стриженную женщину: она стояла за плетеным креслом, легко опираясь рукой о спинку. Шаль, расшитая по полю мелкими звездами, лежала, брошенная на поручень… Первый раз в жизни Ксения пила чай, сервированный так превосходно. Тяжелая скатерть седела крахмальным отливом, чашки на широких блюдцах повторяли формой кувшинки, коричневые кружкиv чая стояли в раскрытых венчиках. Высокий чайник гнул лебединую шею, склоняясь к лепесткам. На самом краю стола, отложенная рукой хозяина, лежала лакированная книга, запечатанная металлическими застежками.
“Надо же, как интересно: вся ваша семья…” – дожидаясь, пока чай станет теплым, Ксения продолжила разговор. Орест Георгиевич поднес к губам и глотнул. Его губы сморщились, как от горького. Чибис отставил чашку, взял альбом и спрятал на место. Вернувшись к столу, он заговорил о школьных делах. В половине десятого Ксения поняла, что Инна не вернется. В прихожей она вынула книгу из сумки и протянула ее Оресту Георгиевичу, но тот усмехнулся, отведя ее руку, и Ксении захотелось бежать из этого дома. В дверях она зачем-то обернулась и, теряя слова, стала говорить о том, что найдет и позвонит, но Орест Георгиевич не делал вид, что слушает, – ждал, когда закроется дверь.
Идя к остановке, Ксения считала учебные дни в месяце, переводила десять рублей в копейки и делила на двадцать, чтобы узнать, за сколько дней, не завтракая, она отложит всю сумму – обязательно отдать. Получалось два месяца – срок немалый, но она решила завтра же попросить Чибиса, чтобы он уговорил отца подождать.
Дома она запихнула книгу под тяжеленную стопку и легла спать, торопя завтрашнее утро, и, уже засыпая, представила пятьдесят серебристых монеток – целый мешочек. “В булочной поменяю – кассиры серебро любят... Инна, конечно, не отдаст...” Тут же приснилась сорока, сидящая за кассой: вынимая из ящичка крепким клювом, она пересчитывала серебряные двугривенные. Сквозь сон Ксения слышала голоса и тонкий звон пересыпаемых монет.
ТА-ТА-ТА, ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ!
Руки поламывало с вечера. Просыпаясь в темноте, Ксения поводила глазами по голым стенам и снова проваливалась в сны, в которых приходила старая квартира. Как будто наяву она слышала чужие монотонные голоса, бормочущие в родительской комнате, и гадкий протяжный вой, глушащий радиопередачу. Под этот вой она засыпала на старой квартире, – отец включал приемник каждый вечер.
Затыкая ухо углом подушки, Ксения видела его руку, держащую движок настройки. “Та-та-та, Шолом Алейхем!” Поперечная планка дрожала под стеклом. Голоса стихли к ночи – побежденные.
Наутро она проснулась больная. Подкрадывалось воспаление легких – его мертвую хватку Ксения знала. Болезнь осложнялась вчерашней историей. Мысли вращались вокруг нее, как тяжелые жернова. Она вспоминала чаепитие, закончившееся позорным бегством, и, хватаясь за соломинку, уговаривала себя, что во всем виновата Инна, но соломинка ломалась под пальцами: “И я, и я...” Жернова вертелись и вертелись, как будто взялись перемолоть муvку, и вчерашний прекрасный план превращался в труху. “Дома не отложить ни копейки. Надо соглашаться. В больнице – скорее”.
Мельница в голове завертелась быстрее, вынося наверх серые стены, койки в два ряда и хрип старухи, оставленной умирать в коридоре. Жар, готовясь вырваться наружу, ломал суставы, и хотелось кислого – капусты или холодного – воды. Колодезное ведро, брошенное в сруб, улетало вниз, гремя цепью. Раздался глубокий всплеск, и она потащила полное ведро наверх, с трудом вращая рукоятку: “...телефона нет, попросить родителей – придется рассказать... Нет. Нельзя”. Пустое ведро показалось над срубом.
Стараясь ступать твердо, она дошла до новой ванной комнаты и отвернула краны. Хлорная струя хлынула в раковину. Выпустив из рук фаянсовый край, Ксения сползла вниз – под ядовитый источник. Жар вырвался наружу и залил руки и грудь. Она не видела, как мать, неловко поддев ее под мышки, тащит в комнату, и не слышала хрипа, который, как рыбью кость, выталкивала наружу ее гортань.
“Неотложная” приехала скоро, но Ксения успела прийти в себя. Молодой врач осмотрел и сказал, что в легких спокойно. В больницу не предложил. Мать ходила в аптеку и в универсам за лимонами. К вечеру приехал отец, изредка заходил в Ксеньину комнату и стоял у притолоки. Тяжелые жернова подрагивали над запрудой, и под их покачивание Ксения заснула и проспала до позднего вечера, когда сквозь сон и жар услышала настойчивый голос: “Да не заражусь! Я никогда не болею!”
Инна входила в комнату. Растерянное лицо матери скрылось. Инна отодвинула завешенный марлей стакан и положила коробку с пленкой.
“Купила?” – Ксения поднялась на локте. “Да”, – Инна ответила коротко, но Ксении показалось, что ее глаза метнулись. “А они?” – Она махнула рукой за окно. “Сначала – мы”. – Инна смотрела в пол. “Ты же обещала... Мы чай пили...” – вышло слабо. “Парня того не было вчера. Я хотела позвонить. Хочешь, прямо сейчас? Какой у них?” Ксения продиктовала на память: “Запиши”. – “Запомню. Я – математик. У меня хорошая память на цифры, – теперь Инна смотрела веселее. – Поставим?” – Она взялась за коробочку. “Куда? На пылесос?” Инна вскочила: “Сейчас принесу. Мой в футляре – нетяжелый”.
Она сбегала быстро. Сняв стакан и лекарство, поставила магнитофон, откинула верхнюю крышку и, ловко намотав начало на пустую бобину, показала, где нажимать. “Спущусь в автомат и вернусь”. Ксения кивнула.
Уловив слабое шуршание, она откинулась на подушку и закрыла глаза.
Тревожный низкий звук приподнял ее над кроватью. Тело стало тяжелым и плоским. “Зеркало”, – она догадалась, и сейчас же, откуда ни возьмись, налетели злобные тролли, подхватили ее и понеслись вверх, раздвигая грани комнаты. Первые такты повторялись, забирая все и шире, и вдруг, на самой неимоверной высоте, вступили таким мучительным перебором, как будто этот звук исторгало само безвоздушное пространство, – душе такой не выдохнуть.
Ужасные тролли задрожали и выпустили зеркало из рук. Оно полетело вниз, отражая холодные сверкающие звезды, и разбилось бы на тысячу осколков, если бы мелодия, подхватив Ксению, не бросилась с нею в пляс. О, что это была за пляска! Ксеньины руки и ноги дергались, как на веревочках, губы прыгали, и пальцы щелкали в такт, завлекая в круг свежих танцоров, и не было сил остановиться. Еще минута, и она упала бы под ноги танцующим, но музыка как будто сжалилась над нею и изменила ритм: он стал прерывистым, как дыхание.
Ночная рубашка превратилась в сверкающее бело-лунное платье, и, приподняв пальцами серебристый подол, Ксения потянулась за светом. Музыка ширилась, приветствуя торжественную безнадежность, и дальние высокие голоса извлекали из тьмы невыносимое успокоение, похожее на обморочный покой.
Едва затихнув, музыка началась снова. Первые такты попытались продолжить танец, но голос певца неожиданно поднялся над ними и повел мелодию за собой. Ксения видела его запрокинутую голову и закрытые глаза. Волосы прилипли к высокому лбу, но голос, усталый и спокойный, запел о том, что теперь наконец он видит все так ясно, что может сказать, что случится со всеми, но музыка, пляшущая на заднем плане, выдавала его с головой: ему было страшно, так страшно, что, не выдержав страха, он закричал: “Jesus!” – и мелодия понесла его за собой, разрывая в клочья спокойствие прежних слов. “Кого это он?..” – мелькнуло и пропало.
То угрожающе вскрикивая, то почти переходя на шепот, он пугал себя и другого какими-то – ими, и уверял из-под закрытых век, что все вокруг слепы, и вдруг признался Ксении, что боится толпы, которая его уничтожит, и она сразу поверила. Голос, отбросив ненужное, страшное спокойствие, плакал и корчился в такт музыке и, захлебнувшись отчаянным криком, замер.
Чужая музыка взвилась за стеной – из-под руки отца. Цепкие тревожные голоса вырывались из-под ручки настройки и подступали ближе, приноравливаясь, но тот, отчаянный, больше не возвращался. “Это – они, надо спасаться”, – или спасать, Ксения не поняла окончания, когда другой ясный голос вышел вперед и остановил толпу. Через спины Ксения видела нежное лицо, когда он, обращаясь к людям, пел и признавался, что сам толком ничего не знает, и успокаивал их, прося не тревожиться о будущем. Ей захотелось обтереть его влажный лоб.
Словно угадав Ксению за чужими спинами, другой женский голос протиснулся сквозь толпу, и женщина подошла совсем близко к Иисусу и встала рядом, но он, назвав ее Mary, отмахнулся от заботы, продолжая говорить. Теперь все хотели узнать, когда они поедут в Иерусалим. Люди настаивали на ответе, не желая расходиться...
Первый голос вернулся, когда все улеглось. Он подкрался сбоку, и лицо его кривила усмешка. Она безнадежно портила чистые черты, и, прислушавшись, Ксения поняла, что голос смеется над женщиной. Он пел ехидно и зло, что тот, другой, не должен позволять ей целовать себя. Он сказал что-то о развлечениях, о том, что, вообще-то, ничего не имеет против ее профессии, но Ксения чувствовала одну враждебность. Какая профессия – разобрать она не смогла, но почему-то приняла злые слова на себя. Она вышла вперед и встала между двумя спорившими голосами.
Толпа закричала, обвиняя Иисуса в какой-то неправде. “И я, и я”, – прошептала Ксения, и тогда он сказал: “You can throw stones”*, – и Ксения ждала, что сейчас полетят камни, но не закрылась руками. Тогда он сказал: “She is with me now”.** – Она сделала шаг в его сторону и встала рядом. “Not one, not one of you...”*** – он повторил тихо и посмотрел на Ксению с надеждой. Она стояла рядом в белой ночной рубашке и была готова его защищать.
Случай представился немедленно. Она вошла в ровный квадратный двор, окруженный белыми арочными сводами. Отверстия арок до половины перекрывались решетками, и в глубине этой открытой веранды виднелся ряд прямоугольных окон. Голоса доносились оттуда. Нырнув под свод крайней арки, Ксения прошла под сводчатыми перекрытиями и в дальнем углу заметила узкую дверь. Она была приоткрыта наружу, и, двигаясь на голоса, Ксения вступила в сводчатую комнату. Лицом к ней в кресле с широкой спинкой сидел человек с грубым, мясистым голосом, а рядом с ним, обегая кресло, вился тонкий, услужливый голосок. Остальные сидели спиной к дверям. По тому, как повторяли имя – Jesus, Ксения поняла, что здесь держат совет.
Через высокую ограду доносились крики толпы, и члены совета тревожно вертели головами, прислушиваясь. Гомон голосов подгонял спор: перебивая и дополняя друг друга, они приводили новые и новые доводы, по которым Иисуса необходимо было уничтожить. Глушилка за стеной взвыла неистово, и сквозь вой Ксения услышала: “What about the Romans?!”* Она решилась выглянуть: горбатый нос и двойной подбородок не вязались с жалким выкриком. “Римлян боится, фашист!”
С места поднялся гадкий голосок. Встав на цыпочки и пожимая мягкими плечами, он пел о том, что незачем забирать у народа его игрушку, они получили что хотели, но главный и низкий голос перебил его: “Put yourself on my place!”** Он жаловался, что у него связаны руки, и склонял сидевших к решению, и Ксения уже понимала, что склонит. Тогда, не дожидаясь конца совета, она выскочила из комнаты и, обежав двор, толкнулась в едва заметную калитку. Погони не было: отстали и вой, и эфирный гомон. Она скользнула взглядом по слепой каменной ограде и бросилась в улочку, начинавшуюся от самой стены. Улочка кружила между домами из нетесаного камня и поднималась все выше и выше, подкладывая под ноги узкие каменные ступени. Никто не встретился Ксении на пути.
Поворотив направо из переулка, она увидела дом с двумя каменными столбиками на крыше. У входа сидел человек с запавшим носом. Ксения помедлила, но он смотрел прямо, и, прислушавшись, она услышала приглушенные голоса и звон пересыпаемых монет. Ксения вошла в тот миг, когда Мария, откинув длинные волосы, подходила к Иисусу с белым матовым сосудом. Из сосуда шел слабый сладковатый запах, незнакомый Ксении. Мария вылила желтоватое на ноги Иисуса, и сидящие в комнате зароптали. Голос, прежде смеявшийся над Марией, возвысился и стал упрекать ее в том, что снадобье можно было продать, а вырученные деньги раздать бедным. Этот голос сидел у самого входа над темным кованым сундучком и считал монеты. Теперь, оставив свое занятие, он поднялся, чтобы встать напротив Иисуса, а Мария пела об огне, охватившем ноги и голову: “Close your eyes, close your eyes and relax, close your eyes, close your eyes...”*** Покачивалась лучистая колыбельная, и другие женщины подпевали тихо. Не попадая губами в слова, Ксения думала о том, что опоздала. Добытые ею сведения, казавшиеся такими важными в арочном дворе, уже ничего не стоили...
Все пропало. Полная бобина, делая последние обороты, подхватывала конец пленки. Поставить на другую сторону Ксения не умела. Она выдернула шнур из розетки, и красный огонек погас.
В родительской комнате было тихо. Однажды, еще на старой квартире, она подслушала: родители говорили об отъезде. Тогда она вбежала в комнату и, захлебываясь слезами, стала кричать, что никуда не поедет – останется здесь, пусть едут куда хотят. Больше они не говорили, но Ксения знала: думают. Может быть, теперь, когда переехали в отдельную… Она поднялась и зажгла ночник. Инна снова не явилась. “Обманула. Всегда обманывает. Можно отнести не деньги – пленку”. Теперь она ненавидела Инну.
Волосы свалялись за день. Ксения взялась за расческу и отложила, дернула за шнурок ночника, ощупью, в полной темноте дошла до постели и отвернулась к стене. Тихо, из самого далека, вступило разноголосье, подчинявшееся движку отцовского приемника.
Глава III. НОВОРОЖДЕННОЕ ВРЕМЯ
Северный ветер с разбегу залетал с Дворцового моста на площадь и падал на впалую грудь Главного штаба. Арка – исполинское горло – равномерно вдыхала и выдыхала ледяной воздух, заставляя прохожих, прорывавшихся с Дворцовой на Невский, втягивать головы в плечи. Поземка летела по красноватой брусчатке и заметала следы бегущих воротников – песцовых, лисьих, овечьих. У самой земли ветер шумно отрясал игольчатый, липкий прах и прыгал до верхних желобов, подставляя себе под ноги дрожащие ходули – столбы фонарного света. Вечернее эхо высоко подымало леденящий вой: “У-у-у!” – натягивало поперек улицы огромный ветреный транспарант. Края снежной тряпки ветер раздувал изо всех сил и бил ими наотмашь по фасадам домов. Двери междугородной станции, телефонные барышни, легонько повизгивали, когда он хватал их за ручки.
Нынешняя зима была особенно холодной. Столбик редко поднимался выше двадцатиградусной отметки. Программа “Время” пророчила сильный порывистый ветер, и люди двигались короткими перебежками от автобусных остановок до дверей магазинов.
С самого детства Инна любила такие дни. Ее детский сад располагался в тупичке меж двух задних крылец Адмиралтейства, прямо у Невы. Иннины бабушки жили далеко, а родители много работали и обычно приводили ее в группу первой, а забирали последней, когда она, уже одетая в пальто, сидела у детских шкафчиков. Это были плохие минуты, потому что каждый раз, хотя этого так никогда и не случилось, Инна боялась, что никто за ней не придет. Вечерние минуты страха искупались огромным дневным счастьем, которое дарила горка Александровского сада.
Дети шли, взявшись попарно за руки, и когда, дойдя до поворота аллеи, Инна видела деревянную голову с высунутым ледяным языком, ее охватывало нетерпение и холодком бежало по деснам. Она и сейчас помнила последние минуты, когда, держась за шершавые ото льда перильца, первой подымалась на площадку и, растопырив руки, срывалась вниз по скользкому, припорошенному с ночи ледяному языку и неслась, не приседая на корточки, до самого конца.
В конце ледяного полотна за ночь намерзала круглая лунка – в ее бортик с разлету ударялись носки черных галош. Не проходило и минуты, как на этом месте копошилась куча мала, и воспитательницы бежали растаскивать детей, безошибочно отделяя своих от чужих. Инна умела ловко выпрыгнуть из лунки и редко попадала в кучу. Обратно она бежала со всеми наперегонки, но, добежав, смирно вставала в затылок последнему, потому что воспитатели строго-настрого запрещали всякую потасовку на лестнице. Виновный снимался с горки и остаток прогулки стоял с воспитательницей.
Проехав два-три раза и столько же раз добежав до скользкой лестницы, Инна впадала в состояние полного и безудержного восторга. Тогда, вертясь как белка в колесе между лесенкой и ледяной дорожкой, она съезжала то на корточках, то пистолетиком, то паровозиком, уцепившись за чей-нибудь хлястик. В этом восторженном состоянии Инна растягивалась на льду во весь рост и катилась, хохоча, до самого конца, и, выбираясь из лунки, нарочно соскальзывала обратно с накатанного края. Воспитатели быстро замечали восторг и, принимая его за детское баловство, выводили виновницу на обочину. Она стояла тихо и послушно, упираясь глазами в свои коленки: на грубых серых рейтузах висели катышки льда. Воспитательницы требовали честного слова, и, давая его бессчетное количество раз, Инна знала, что врет.
Теперь горка выглядела сиротливо. Веселый рой не вился вокруг деревянных бортиков. Презрительно поджимая губы, Инна смотрела на детей, по-цыплячьи ковырявшихся в газонах. Матери, спешившие за ограду, были одеты в темные драповые пальто с желтыми норочками вокруг шей. С бледностью женских лиц не справлялся даже мороз.
Вдоль ограды, не заходя в сад, шли молодые девушки, кутавшие шеи в сероватые песцовые воротники. Их щеки покрывал слабый румянец. “Думают, у них будет иначе”. – Инна закусила губу. Девушки болтали оживленно, и Инна знала – о чем. Она и сама влюблялась часто, но втайне презирала мальчишек. Многие поглядывали на нее с интересом – и одноклассники, и ребята постарше, но, не умея выразить словами, она ждала от жизни другого. Влюбленности, коротко вспыхнув, гасли. Инна прошла мимо, и девушки засмеялись за спиной.
На Невском начиналось интересное. Забыв о своем пальто, перелицованном из материнского, Инна выслеживала лисьи шкурки и стреляла глазами в их владелиц. Эти женщины были такими, какой она непременно должна была стать. Лица, тронутые косметикой, играли, как осенние яблоки. Инна злилась на себя и торопила время, во власти которого было превратить ее в черно-бурую красавицу.
Тридцатилетняя женщина шла по проспекту, не смешиваясь с потоком.
Взгляда было довольно, чтобы угадать ее счастливую жизнь. Инна замедлила шаг и пошла следом. Хаос предпраздничного дня хоронил ее за чужими спинами. “Та, та, та-та-та!” – она напевала фокстрот из новой оперы.
Женщина дошла до “Севера” и, остановившись, подсунула руку под воротник, словно сдавила горло. Продолговатый разрез глаз удлинялся густой чернотой, проложенной по векам. К вискам уходили стрелки, выведенные по моде десятилетней давности. Она держала голову, слегка откинув назад, как будто ее оттягивал тяжелый узел волос: Инна угадала его под высокой папахообразной шапкой. С нескольких Инниных шагов было видно маленькое ухо, выбившееся из-под папахи как локон, и, напрягая острые глаза, Инна разглядела изъян – раковина имела едва различимые щербинки.
Женщина взглянула коротко и отвела стрельчатые глаза. Инна отступила к стене. Женщина повернула голову, теперь ища глазами Иннин взгляд, и, найдя, неожиданно улыбнулась. Рассеянная улыбка скрыла бледность губ. Женщина вынула пальцы из-под воротника, и лисья шкурка опустилась.
Стрелки взлетели. Мужчина, одетый в распахнутую дубленую куртку, пересекал Невский проспект. Поток машин тронулся стремительно. Он стоял, виновато взмахивая руками. Женщина пошла к кромке быстрым, счастливым шагом. Красный глаз близкого светофора вспыхнул над перекрестком. Он шел навстречу женщине, и Инна смотрела цепкими глазами.
Нос, узкий в переносице, расходился к крыльям. Рот улыбался тяжелыми, как будто набрякшими губами. Улыбка, встречавшая другую женщину, дрожала, словно отделяясь от темного лица. Улыбка плыла в Иннино небо, колыхаясь в таких водах, о существовании которых Инна до сих пор не знала, и у нее, стоявшей на пустынном берегу, холодом свело десны. Она почувствовала удар в грудь и услышала слабый стук, как будто набрякшая улыбка завела ее сердце, и оно пошло отсчитывать время. В этом новорожденном времени мужчина предложил спутнице руку.
Мокрый снег повалил хлопьями и залепил короткие рукава. Из них торчали красноватые, гусиные запястья. Инна счистила липучие хлопья и, одергивая рукава, пошла к остановке.
ЗВЕЗДА
Домашние хлопоты были в самом разгаре. Мать выдавливала из бумажного фунтика кремовые буквы. На шоколадной шапке проступало: “С Новым годом!”. Она давила желтоватый масляный крем всей горстью. Остатки лезли из верхнего мятого раструба. Дописав, мать отложила кособокий фунтик: “Красиво?” – и взялась за тряпку. Бесформенные маслянистые пятна проступали на тряпке. “Вымой руки и украшай салат. – Мать сунула ей открытую жестяную банку. – Ты должна научиться все сама: и мыть, и стирать, и украшать...” – Мать говорила радостно, словно открывала дочери ее будущую жизнь. Инна высыпала горох на салат и принялась запихивать в рот остатки – со дна. Через край, опасно выщербленный консервным ножом, Инна глотала сладковатый мозговой сок. “Губы порежешь!” – Мать клонилась над плитой. “Я еще елку не украсила”. – Она оглядела грязную раковину.
Комната, убранная к празднику, сияла: расцвели цветы на обоях, завились комнатные растения, настенные ковры играли красками, белоснежный стол угловато топорщился крахмальными бортиками. Отец вынимал посуду. По одной он поднимал рюмки к потолку и заглядывал в них, как в маленькие подзорные трубы. “Не дождался тебя”. – Он кивнул на елку, уже укрепленную в крестовине. “Ты на звездочета похож”, – сказала Инна. “Та-та, та-та, зависит ли удача от звездочетной мудрости моей?” – пропел он оперным басом.
Елка, оттаявшая в тепле, зеленела мягкими концами веток, шары легко дрожали в хвое. Инна достала коробку с картонными фигурками. Серебристого орла – на самый верх, поближе к звезде, черных жаворонков – пониже. Разноголовое стадо заколыхалось у ствола, над ним закружилась полосатая пчела. У корней, над самой крестовиной, Инна повесила лягушку, мышь и рыбу. “Смотри-ка! Все звери, какие бывают!” – Хабиб смотрел с восхищением. Инна остановила взгляд на вершине: “Вот-вот. Человека не хватает…” Пошарив в опустевшей коробке, брат подал звезду.
Отец заглянул в последнюю рюмку и хлопнул в ладоши. Кухонная дверь широко распахнулась, и в звоне елочных шаров показалась торжественная процессия: мать несла блюдо распаренной баранины. Хабиб тянул столик, уставленный салатами. Повозку с праздничной снедью украшали круглоголовые стеклянные фигуры: бутылки с домашними винами были заткнуты высокими пробками.
Отец приглушил телевизор, разлил по рюмкам ягодное вино и смял салфетку: “Хороший год! Очень удачный год! Помянем его добрым словом”. Инна подумала: как на похоронах. Отец выпил и пригладил лысую голову. Мать смотрела радостно. И родители, и брат радовались празднику. Их жизнь говорила сама за себя и требовала новогодней благодарности – по-хозяйски.
Спасская башня выплыла из эфирных глубин и встала перед Инной, похожая на стебель огромного цветка, распустившегося пятью рубиновыми гранями. “Цветик-семицветик”, – Инна вспомнила детскую книжку и усмехнулась нехорошо. Звезда испустила пунктирное сияние и остановилась. Волшебный цветок обещал выполнить любое желание, стоит только оторвать рубиновый лепесток и прошептать:
Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...
Лепестков было пять, и их следовало беречь, но когда сияющая звезда остановилась над Инной с последним, двенадцатым ударом и густая эфирная волна понесла одуряющую весть о новом, 1975 годе, Инна, отчужденно оглядев мать, отца и брата, оторвала лепесток и, бросив в эфир первое желание, произнесла так, чтобы быть услышанной: “Вели, чтобы я встретила того мужчину”. Спасская башня, благосклонно выслушав, пропала.
Все каникулы башня напоминала о себе заставкой к программе “Время”, и Инна смело смотрела на экран. Днем она не думала об этом вовсе, однако, когда час начинал приближаться к девятому, Инна торопилась домой, украдкой поглядывая на запястье. День за днем вращался вокруг девятичасовой оси, пока, очутившись с соседской девочкой в квартире ее одноклассника, Инна не узнала загаданного в Чибисовом отце.
Тогда, выбравшись из странной квартиры с десяткой в кармане, Инна честно направилась к автобусу, намереваясь ехать за пленкой. Однако стоило ей войти в автобус, как следом, на ходу отжав закрывающиеся двери, успело вскочить что-то гадкое и встать вплотную к ее сиденью, навалившись на плечо всей тяжестью. Инна раздраженно отодвинулась, но оно придвинулось следом.
Оказывалось, что башня совершила простейший подлог, как будто подала пальто, вывернутое наизнанку, а Инна, не глядя назад и болтая о постороннем, сунула в рукава обе руки и, только коснувшись мездры воротника, поняла, что переодеваться поздно: пальто крепко запахнулось обеими полами и с хрустом застегнулось на все пуговицы. Инна стояла в проходе, чувствуя ладонями вывернутые боковые швы, и ждала разоблачения, которое могло вырвать пуговицы с мясом в любую минуту, стоит только кому-нибудь одному, первому, повернуться к ней и ткнуть пальцем.
Когда автобус остановился на той остановке, на которой следовало выходить, Инна не смогла, как ни старалась, протиснуться к выходу, потому что события последних недель повернулись к ней спиной и сцепились локтями в крепкую цепочку, не желая ни двинуться, ни поменяться с ней местами.
Она дошла до квартиры и, взглянув на занывшее запястье, увидела, что стрелки часов подползли к девяти. Загоревшийся экран брызнул музыкой, и под привычный вечерний перезвон выплыла новая заставка, на которой чьим-то тонким пером был выведен силуэт страны, похожей на грузное животное с поджатыми передними лапами. Из-под поджатого силуэта, из самых глубин эфира выплывала навстречу Инне набрякшая улыбка. В той единственной сверкающей точке, в которой находилась Спасская башня, был поставлен правильный красный круг, и, впившись в него глазами, Инна поняла, что никакой надежды нет, потому что коготок, сунувшийся в этот круглый капкан, уже увяз, а значит, и всей птичке пропасть.
Положив руки на светящийся экран, девочка стояла на коленях перед электрическим ящиком и чувствовала, как разряды бегут по рукам к судорожно сокращающемуся сердцу.