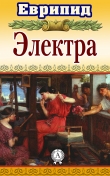Текст книги "Орест и сын"
Автор книги: Елена Чижова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Теперь Москва закоснела в сознании своего могущества, но если вспомнить историю Рима, истинно великие события могут случиться только в провинциях. Провинция провинции рознь. Здесь Тетерятников обратился мыслью к Петербургу.
Конечно, Петербург – тоже мировая столица, но его величие в прошлом. Нынешний Ленинград – провинциальный город, но – особенный, во всяком случае, не один из многих. В каком-то смысле он подобен Иерусалиму римских времен. Не исключено, что с течением времени этот город воспрянет заново, – в конце концов, не все великие города обречены забвению.
По Дворцовому он шел, морщась от ветра. С той стороны реки, на крыше зеленоватого здания, стояли каменные римские граждане – посланцы Москвы. Победная колесница, вырываясь из рук легионеров, взлетала над площадью. Матвей Платонович думал о том, что римляне обсели город, как птицы.
Свернув к Адмиралтейству, Тетерятников снова забормотал. Только культура – есть истинно религиозное творчество, в котором нет ни римлян, ни иудеев, ни ересей, ни еретиков. Преемники воспринимают не религию, но культуру: она одна во всякое время способна давать побеги Духа, тогда как все религиозные культы имеют свое начало и конец. У культа, исчерпавшего себя, нет наследников. Никогда он не сможет воскреснуть.
Ступая по лужам, он шел мимо дома Лаваля: 14 мая 1828 года здесь, в присутствии Мицкевича и Грибоедова, поэт читал:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя.
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром стольких лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил…
Тетерятников бубнил машинально. С известной долей условности творчество Пушкина тоже можно назвать местным религиозным культом, но культ этот – особого рода. Тетерятников не мог представить времени, когда он иссякнет.
Кажется, Матвей Платонович выбрал правильный путь: на фоне московско-римских размышлений работа двигалась споро. Ближе к вечеру, добравшись до верхней полки, он обнаружил Полибия: “Всеобщая история в сорока книгах”, точнее, первый том московского издания 1890-х. Полибий, образованный и изощренный грек, стал посредником между двумя цивилизациями – греческой и римской. Пушкин, в известном смысле, повторил его судьбу. Он стал первым, кто приобщил русскую литературу к европейской традиции. Сладострастно хихикнув, Тетерятников отложил Полибия в свою кучку.
В шесть часов, отработав урочное время, Матвей Платонович распрощался с наследниками и отправился восвояси. Выйдя из чужой парадной, он свернул в переулок, разрезающий дома. Марк Аврелий, апологет тягостной тщетности, вступил в беседу с первых же шагов: все проходит, рождаются и гибнут государства; люди – и плохие, и хорошие – умирают в свой срок, и сама земля рано или поздно исчезнет. Так было и будет, а значит – роптать тщетно. Единственное, что остается, – гений, живущий в душе. Что до людей – их природу не изменишь. Рабы и негодяи – такими они были всегда.
Матвей Платонович миновал дом Лаваля и, потоптавшись у края поребрика, приготовился перейти дорогу. Поток машин, лившийся с набережной, был сплошным. Теребя бородавку, Матвей Платонович ждал. Наконец, опасливо спустив ногу, словно пробовал воду, он двинулся вперед и почти добрался до противоположного берега, когда серая “Волга”, скользнувшая за спиной акульей тенью, взревела, напугав до смерти. Тетерятников рванулся, спасаясь. В голове отдалось хрустом и болью и немедленно пошло кругом. Превозмогая слабость, Матвей Платонович доковылял до садовой решетки и только здесь, устыдившись своей пугливости, обернулся.
Поток машин совершенно иссяк. И все-таки неприятно ныло сердце, как будто “Волга”, взревевшая за спиною, никуда не исчезла – осталась невидимой угрозой. Он обошел Всадника, задумавшего взлететь выше римских колесниц, и свернул к садовым скамейкам. В историческом смысле этот император – тоже посредник. Кто, как не он, привил российской истории европейские черенки…
Держась за грудь, Тетерятников унимал колотье. Боль не проходила. Стараясь дышать ровнее, Матвей Платонович повел плечом и огляделся. Со скамьи, на которую он присел, открывалось здание Сената и Синода. Тетерятников всмотрелся дрожащим взглядом: над колоннами стояли крылатые гении – с совершенно римскими лицами. Особенно римским был один – над самой аркой. В руке он держал перо, издалека похожее на меч. Черенки великих культур прививаются не чернилами, но кровью. Тоска, совпавшая с резью в сердце, свилась как змея.
“Ладно, – он думал, – цивилизации умирают, но все-таки умирают по-разному. Одно дело – Мемфис и Вавилон, совсем другое – Рим. Те погибли безвозвратно, этому был уготован особый путь: дряхлый Рим воспринял новую веру и обрел второе рождение. Трудно представить, что сталось бы с Вечным городом, если б не абсурдная надежда на Второе Пришествие”. Крылатые гении, обсевшие колоннады Сената и Синода, превращались в Господних ангелов.
Матвей Платонович поднялся, но сердце, напуганное акулой, вздрагивало. Он шагал, и впервые за многие годы маленький шлюз не открывался, словно там, в глубине мозга, образовался словесный тромб. В тишине, как будто не шел, но ехал на невидимом общественном транспорте, Тетерятников перебрался на Васильевский остров.
Слабость вернулась, едва он дошел до угловой кондитерской. Тетерятников вспомнил брикетик гречи, купленный на ужин, и подумал о том, что вряд ли сумеет размять. Если опустить целиком, сварится комками – Матвей Платонович не любил комковатую кашу.
Он выбрал дальний столик и, пристроившись, отхлебнул из чашки. Кофейная теплота разлилась по жилам. Тетерятников откашлялся и подергал бородавку. Что касается возрождения, Рим, если брать по большому счету, – единственный прецедент. Москва, не признающая с ним родства, совершает роковую ошибку, но, собственно говоря, от нее нельзя ожидать этого признания. Хорош был бы Рим, если б связывал надежды на будущее с жалкой сектой обитателей катакомб. И Москва, и языческий Рим равны сами себе: их удел – собственные мифы. Другое дело – Петербург.
Да, он думал, Петербург – особенный город. Во всяком случае, не русский. И дело не в нынешних жителях. Город, построенный по чужому образу и подобию, воспринимает чужую мифологию, превращая ее в свою. Петербург – сколок Европы, а значит, все, что собрала европейская традиция, для Петербурга – свое. Ему, не чуждому этой традиции, куда как легче найти свое место в череде одновременных эпох.
Покончив с вечерней трапезой, Матвей Платонович поднялся к себе.
Мало-помалу оно все-таки тронулось, но размышления, в отличие от знаний, проворачивались в его мозгу несмазанным колесом. Ладно, он возвращался к прерванному, пусть Петербург – особый город, в каком-то смысле новый Иерусалим. Здесь хранятся традиции прошлого, чуждые надменной Москве. Сюда время от времени являлись посредники, желавшие скрестить русскую культуру с европейской. Здесь живут и умирают носители высокой культуры… Он вспомнил тех, чьи библиотеки перебрал собственными руками, и понял свою ошибку.
В конечном счете, эти хранители древностей решали внутренние задачи. Они – иудейские книжники, берегущие ветхую традицию. Не эта традиция спасла Рим. Все, что она сумела, это сохранить Дух Иудеи.
Дух, возрождающий империи, выбирает других посредников. Те, чьих лиц он не мог себе представить, должны быть чужды высокой культуре. Культура забирает силы, – обессиленная душа не выбрасывает побегов. Нет, Тетерятников поправил себя, не так: человек высокой культуры, – скорее растение, чем животное, он живет укорененным и никаким усилием воли не может вырвать себя из почвы привычных истин.
Эти, другие, чуждые традиции будут легкими на подъем. Подобно малой части иудейского мира, сумевшей противопоставить себя своей великой нации, они должны предаться страсти ожидания, чтобы все остальные – и эллины, и иудеи – назвали их духовными безумцами. Римляне, изверившиеся властители мира, станут взирать на них с презрением. И все-таки настанет день, когда они посмотрят на новых простецов с затаенным страхом и попытаются их уничтожить. Однако те, кто придет за ними, назовут их спасителями Рима. То есть, Матвей Платонович поправил себя, Москвы…
Сердце билось сильно. Матвей Платонович потер руки. Нет сомнения в том, что, если его догадка верна, рано или поздно эти новые люди объявятся и принесут благую весть. С каким-то тайным самодовольством, в котором стыдился себе признаться, Матвей Платонович покосился на немца, раскрытого на первой странице. Тот слушал невнимательно, но выражение его лица было красноречивым.
Тетерятников понял: немец посмеивается над ним, принимая за простеца. Логическая конструкция, предложенная Матвеем Платоновичем, основывалась на истории раннего христианства, иными словами, предполагала явление в мир Христа.
Второе Пришествие. Тетерятников задумался. “Конечно, точные даты – вздор”. Кто в здравом уме возьмется предсказывать эти сроки? Разве что – они, бескультурные и беспочвенные безумцы. В конце концов, это у них в обычае: тогда, в самом начале, их предшественники ожидали Второго Пришествия со дня на день. Потом, не дождавшись, отодвинули на 1000 лет. Доживи они до нынешних времен, наверняка обратили бы единицу в двойку, тем более, что осталось каких-то четверть столетия. “Что ж, – он подумал, – не будет большой беды, если новые простецы вобьют себе в головы именно этот рубеж”.
Немец явственно хихикнул. В этой стране, где не помнят о Рождестве, нелепо рассуждать о Втором Пришествии, оппоненту Тетерятникова это представлялось очевидным. “Да, – Матвей Платонович согласился, – что правда – то правда. У этих, – он вспомнил сонмы своих слушательниц, – нет исторической памяти. Они знают и помнят лишь то, что произошло лично с ними. Для таких, как они, Второе Пришествие есть новое Рождество”. Немец удовлетворенно хмыкнул. Здесь они снова сходились – на поле знания.
“Но, – Тетерятников помял бородавку, – традиция остается традицией. Этого не отменишь: нужны соответствующие атрибуты. Значит, – глаза сверкнули победно, – прежде чем народятся новые люди, сюда должны явиться волхвы”.
Немец насторожился: видимо, он представил себе ветхозаветных персонажей, обряженных в штаны, круглые войлочные шапки и хитоны, расшитые звездами. Вот они бредут по Невскому, поглядывая в небо, в котором стоит Звезда. Матвей Платонович развеселился: ни дать ни взять – новогоднее представление – форменные Деды Морозы, похожие на восточных мудрецов.
“Ну, – он успокоил немца, – это – позднейшие интерпретации. В Евангелиях нет прямых указаний на то, кто они и откуда – из каких, собственно, земель. Некоторые, к примеру Климент Александрийский, выводят их из персидско-месопотамского ареала, другие – с Аравийского полуострова, в частности Ориген”. Во всяком случае, отсылка к Востоку – не главное. Главное – явление чудесной Звезды, чтобы они могли отправиться к царю Ироду: выспросить верную дорогу. По ней они должны устремиться так, как стремились… Он не мог подобрать сравнения… Вспомнил: как стремились в Ленинград из эвакуации – после войны. Немец отвел глаза: упоминание о последней войне выглядело неделикатностью. Ничего. Тетерятников поджал губы. Пусть слышит.
Их путь – поиск истины, и на этом пути они должны быть упорны и простодушны, кем бы они ни были, эти путники, несущие ладан, золото и миро, которым умащивают мертвецов.
Въедливый немец поморщился. Тетерятников понял его: прямые этнические отсылки – варварство. Дольше всех они сохранялись в византийской традиции. Запад, уже с Новейшего времени, предложил иную интерпретацию. Волхвы – три человеческие расы: белая, черная и желтая. “Нет, – Матвей Платонович решил возразить, – во всяком случае, монголоиды ни при чем. Скорее, речь может идти о трех древнейших цивилизациях: Вавилон, Египет и Иудея”.
Дотошный немец медлил. Видимо, ждал уточнения, а кроме того, не верил устным словам. Чтобы стать истиной, слова должны лечь на бумагу – обрести плоть и кровь.
Что ж, в этом отношении немец совершенно прав. Все, что чуждается плоти и крови, не имеет будущего. Матвей Платонович выбрался из кухни. Где-то там, в глубине стеллажей, пряталась тонкая тетрадка. Он встал на цыпочки и, дотянувшись, возвратился к кухонному столу.
Немец следил ревнивым взглядом. Тетерятников понимал причину ревности. Все возражения – видимость. Вступая в полемику по частным вопросам, хитрый немец отлично знал, на чьей стороне правда. В коловращении одновременных эпох он и сам ставил на Россию – приводил в пример бездуховному Западу, чья история, исчерпавшая себя до конца, клонится к закату. Собственно, не он один. Многие из европейцев в этом смысле заглядывались на Россию – почитали юной восточной цивилизацией, несущей дряхлеющей Европе новую, невиданную весть. “Как же там?.. Бог Запада уже пришел на землю и – умер; русский бог – еще впереди. Вот-вот”. – Матвей Платонович погрозил пальцем и взялся за перо.
Он писал так, как привык рассказывать: обширными цитатами из энциклопедий и книг.
ВАВИЛОН, ЕГИПЕТ, ИУДЕЯ
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…
Матвей Платонович начал с главного, но слова, вылившиеся на бумагу, ничем не облегчали задачу. Тезка, ведавший истину, вел речь о своем времени, отстоявшем от нынешнего на две тысячи лет. Новая жизнь не укладывалась в рамки евангельских слов. Прорастая в одновременную эпоху, эти слова оставляли за собой все прежние смыслы, но рождали и новые вопросы, на которые у Тетерятникова не было ответов. Эти вопросы ставило едва ли не каждое слово.
Во-первых, Вифлеем. Если признать Ленинград Иерусалимом, значит, новый Вифлеем должен быть где-то поблизости, во всяком случае, в пределах Иудеи. По этой же логике новый Ирод должен находиться в тех же пределах. Кроме того, явившись на место, осененное Звездой, волхвы обнаруживают Мать с Младенцем, что совершенно нелепо для случая Второго Пришествия. Но главное, чего Тетерятников не мог постигнуть, заключалось в следующем: кто они, эти новые волхвы?
Поразмыслив, Матвей Платонович решил держаться теории древнейших цивилизаций, выводившей волхвов из трех согласованных с немцем стран. Однако выход, предложенный такой упорядоченностью, снова грозил стать мнимым. Учитывая грандиозность их будущей роли, волхвы не могли быть рядовыми гражданами поименованных государств. В их жилах должна течь царская кровь, что, в свою очередь, возводило новое препятствие: отпрыски царственных родов были вполне реальными людьми, явившимися и ушедшими в небытие в свои сроки. Чтобы стать новыми волхвами, этим людям требовалось воскреснуть, что, кроме прочего, противоречило логике язычества.
Хитрый немец молчал как рыба. Тетерятников покачал головой: похоже, его собеседнику не хватало научной солидарности. Может быть, он не очень хорошо воспитан?
Пристыженный немец зашелестел страницами. Тетерятников заглянул. Немец вел речь о богах древнейших пантеонов. Их бессмертная жизнь описывалась соответствующими мифами. “Ага”. Матвей Платонович оценил подсказку. Конечно, новые волхвы могут быть живыми людьми, но – и здесь заключалась главная хитрость, – чтобы стать выходцами из древнейших цивилизаций, в своей обыденной жизни они должны будут действовать в рамках мифологических канонов.
Казалось бы, теория начинала обретать логику, но сам Матвей Платонович отчетливо понимал непрочность ее основ. Когда бы дело сводилось к очередной лекции, посвященной Иудее, Вавилону или Египту, он легко обошел бы подводный камень, излагая мифологические системы по отдельности, время от времени лишь указывая на очевидные параллели. Однако себе-то он отдавал отчет в том, что в настоящее время, по многим причинам, этих систем не существует в замкнутом виде, – перевалив через хребты тысячелетий, они, в значительной степени, стали зеркальными отражениями друг друга.
Больше того, эти зеркала оказались выставленными таким сложным образом, что каждое изображение – то есть миф, – развиваясь как в прямой, так и в обратной перспективе, и усложнилось, и умножилось многократно. Можно сказать, что каждая мифологическая система, вписанная в круг одновременных эпох, двигаясь по своей орбите, бросала тень на соседние планеты. В этой тени первоначальная реальность начинала проступать в отраженном свете.
Немец поморщился. Похоже, он считал это препятствие преодолимым. Во всяком случае, начинать следовало с начала: первым звеном цепи были царства Шумера и Аккада. С позднейшим возвышением Вавилона эта область стала называться Вавилонской.
Немец глядел под руку. Тетерятников прикрылся локтем. На это у него была одна, но веская причина, о которой, как человек порядочный, он не собирался распространяться. Конечно, выбор времени и места объяснялся объективными историческими законами, но эти законы не отменяют личных предпочтений. В данном случае выбор подкреплялся тем, что в шумерский пантеон входила богиня Инанна, яростная и непреклонная воительница, богиня плодородия, плотской любви и распри. К ней Матвей Платонович чувствовал тайное влечение.
Кажется, немец понял причину его деликатности, во всяком случае, он отвел глаза.
В ряду ее многочисленных мужей упоминается бог-пастух Думузи. Его она отправляет вместо себя в Царство смерти, но здесь нет никакого противоречия. Инанна – олицетворение могучих сил природы, безразличных к понятиям Добра и Зла.
Матвей Платонович отложил перо. Его глаза подернулись влагой, как всякий раз, когда он думал об этой юной и своенравной богине. Больше всего на свете ему мечталось оказаться на месте счастливчика Думузи.
Тетерятников помял бородавку. Последняя тема давала характерный пример зеркального отображения. В текстах о пророческом сне Думузи пытается спастись от злобных демонов подземного царства. В конце концов демоны настигают его и раздирают на куски. Позже эти демоны проросли в греческую мифологию, превратившись в эриний. Старухи со змеями вместо волос, с зажженными факелами в руках. Эринии – хтонические божества, охранительницы материнского права. Они преследуют Ореста за убийство матери. Эсхил в “Эвменидах” изображает безумие охваченного эриниями Ореста. Гераклит, греческий натурфилософ, считает эриний “блюстительницами правды”, ибо без их воли даже “солнце не преступит своей меры”.
Матвей Платонович задумался. Заложив первые, вавилонские, кирпичи в здание будущей теории, он обращался мыслью к египетским. Собственно, образ кирпичей, естественный для строителей зиккуратов, становился всего лишь метафорой, как только речь заходила об областях, прославивших древний Нил. Создатели саркофагов складывали свои пирамиды из камня.
Трудность заключалась в том, что в каждой области (номе) сложился свой пантеон богов, воплощенных в небесных светилах, зверях и птицах. Позднее местные божества сгруппировались в триады во главе с богом-демиургом, вокруг которого создавались циклы мифологических сказаний. Женские божества каждого пантеона, как правило, имели функции богини-матери. К примеру, фиванская триада, которую Матвей Платонович по известным ему причинам предпочитал всем другим, состояла из бога солнца Амона, его жены Мут – богини неба и их сына Хонсу – бога луны.
С усилением древнеегипетского государства мифологические представления видоизменились. В частности, Осирис как бог мертвых вытеснил древнего бога, покровителя умерших, Анубиса – вечно снующего по кладбищу шакала. Развитие религиозной мысли сопровождалось и процессом слияния, синкретизации богов, что в свою очередь вносило путаницу и неразбериху в их “биографии”. Вот почему, отдаляя решительный момент выбора египетского персонажа, Тетерятников решил начать с общих соображений.
Важнейшую роль в египетской мифологии играли представления о загробной жизни как непосредственном продолжении земной, только в могиле. Осирис вместе с другими богами вершил над покойным загробный суд. В основу оправдания была положена так называемая “Отрицательная исповедь”, содержащаяся в 125-й главе египетской “Книги мертвых”. Она представляла собой перечень грехов, которых не совершал покойник. Только покорный и терпеливый в земной жизни, тот, кто не крал, не посягал на храмовое имущество, не замышлял на царя и был “чист сердцем”, мог рассчитывать на посмертное оправдание.
Осирис, чей культ был связан с умиранием и воскрешением, уже в эпоху Древнего Царства отождествлялся с умершими фараонами. Попросту говоря, каждый умерший фараон становился Осирисом. В более поздние времена таковым стали называть любого умершего египтянина.
Матвей Платонович отложил ручку. Такая “демократизация” лишала Осириса избранности, а следовательно, делала непригодным для роли протагониста нового волхва. Однако семейственность, издревле свойственная египетским пантеонам, наводила на мысль о поиске наследника. Единственным правомочным наследником Осириса был его сын Гор, но Исида зачала младенца от мертвого мужа – что, в глазах Тетерятникова, придавало этому персонажу сомнительный душок. В конечном счете, обозрев весь доступный его памяти спектр, Матвей Платонович остановился на образе Тота – бога мудрости, счета и письма.
Обычно Тота изображали с головой ибиса, его атрибутом была палетка писца. Птичий облик Тота в некоторой степени связывает его с законным наследником Осириса – Гором, который изображался в виде человека с головой сокола. Однако, в отличие от Гора, чья астральная сущность отождествлялась с солнцем, Тот отождествлялся с луной и считался сердцем солнечного бога Ра.
С богом солнца Ра сопрягался и образ Эхнатона, того самого, который в окружении множества ревнивых богов тосковал по Единому. Этот фараон предчувствовал магистральное направление мировой истории, а значит, в известном смысле, двигался с оглядкой на будущую Звезду, которая вела волхвов. Ибисоголовый бог – сердце солнечного бога Ра – становился и сердцем Эхнатона.
Тоту приписывалось создание всей интеллектуальной жизни Египта. Он записывал дни рождения и смерти людей и вел летописи. Под покровительством Тота находились все архивы и знаменитая библиотека Гермополя.
В культе мертвых и погребальном ритуале Тоту принадлежала ведущая роль. Как представитель богов и писец Тот присутствовал на загробном суде. Он принимал участие в погребальном ритуале каждого египтянина.
Позже, в религиозно-мистической литературе древних греков, Тот выступал под именем Гермеса Трисмегиста (“трижды величайшего”) и в этом качестве стал покровителем всех герметических ритуалов, включая масонский.
Тетерятников потер руки: масонство было той полузапретной темой, в которой он чувствовал себя истинным знатоком. Ритуалы тайных масонских лож опирались на мистический опыт, накопленный древними цивилизациями, и в этом смысле питались из тех же источников, из которых черпало церковное христианство. Впрочем, Матвей Платонович не одобрял интереса масонов к текущим общественно-политическим событиям: члены масонских лож, одновременно занимавшие высшие государственные посты, проводили в жизнь решения своих тайных иерархий. Тетерятникова привлекали исключительно духовные поиски. С точки зрения официальных церквей, такого рода деятельность была неканонической, в глазах Тетерятникова, это придавало масонству еретическое очарование. А кроме того, рождало упоительную иллюзию: Матвей Платонович чувствовал себя членом тайного братства каменщиков – хранителей опыта древних цивилизаций. Будь его воля, Тетерятников предпочел бы быть похороненным по масонскому обряду.
Мифология иудаизма – третий элемент – ставила перед Тетерятниковым еще более трудную задачу. Взятая в целом, она была не столько метафорой священного космоса (что характерно для большинства мифологических систем мира), сколько переосмысленной историей народа. При всей своей мифологической легендарности библейские праотцы оставались участниками исторических коллизий родового и семейного быта. С этой точки зрения они ничем не отличались от фараонов, разве что более сомнительной точностью датировки их земных жизней.
В то же время библейские предания отразили связь древних евреев (группы западносемитских племен) с обширным культурно-историческим ареалом древних цивилизаций Ближнего Востока и Египта. Сам Авраам, родоначальник широкого круга семитских народов, был выходцем из Месопотамии, а значит, переселившись в Ханаан “по Божественному внушению”, потянул за собой целый шлейф шумеро-аккадских мифов. Собственно, и великое пророческое движение, участники которого призывали к восстановлению патриархальных норм и смягчению социальных несправедливостей, не в последнюю очередь возникло как ответ на угрозы со стороны Ассирии, а позднее – Вавилона.
Важнейшим следствием духовной деятельности пророков стал отказ от языческих культовых традиций (читай: многочисленных богов) в пользу Единого божества. Мифологизация царской власти, общая для всех деспотий Востока, переплавилась в теологию “царства Божьего”.
Заповеди и запреты, регламентирующие жизнь “избранного народа”, впервые в истории осмысляются как этические и в этом качестве воспринимаются как духовная подготовка к близкой эсхатологической сватке между Добром и Злом.
Матвей Платонович чувствовал усталость. Проще говоря, у него опускались руки: если каждый бог Египта или Месопотамии имел свою биографию – историю браков, подвигов, побед и страданий, то Яхве ничем подобным не обладал. В текстах, которые Тетерятников перебирал мысленно, этот факт возводился в принцип. Более того, если “нормальные” мифологические источники охотно повествовали о своих богах в третьем лице, позволяя обозреть их со стороны и сделать выбор, Библия содержала исключительно речи к Яхве или речи от имени Яхве. В этих обстоятельствах третий – иудейский – персонаж конструируемой Тетерятниковым мистерии превращался в фикцию. Во всяком случае, он грозил стать кем-то не вполне воплощенным, поскольку его действия вынужденно определялись не логикой поступков мифологического протагониста, а религиозно-этическим посылом, во многом интуитивным, а значит, близким к мироощущению ранних христиан – если сравнивать его, к примеру, с разработанной религиозной этикой их средневековых собратьев.
Единственно, в чем Тетерятников был совершенно уверен: этот волхв, идущий неторными этическими путями, должен чувствовать себя чужестранцем или, попросту, бродягой.
Как бы то ни было, определившись с протагонистами в общих чертах, следовало обозначить последнее – точку отсчета. Этот пункт был исключительно важным. С одной стороны, эта точка должна соответствовать первому шагу всех великих культур, с другой – стать началом новой одновременной истории, в которой события, случившиеся в прошлом, обретут живые черты. В этом отношении все привлеченные мифологии пребывали в согласии друг с другом. Тетерятников бросил взгляд на искушенного соперника. Немец хранил благосклонное молчание. Вздохнув, Матвей Платонович вывел слово: “Потоп”.
Казалось бы, теперь он мог приступать к решительным действиям: наступала пора облечь свои знания в плоть и кровь. Но ум, имеющий мудрость, был лишен воображения. Матвей Платонович не знал, с чего начать.
Он отодвинул тетрадь и взглянул на циферблат. Едва живой будильник показывал половину двенадцатого, однако его показания не соответствовали реальности: ослабевшие стрелки давным-давно выбились из гнезд. По отношению к точному времени тетерятниковские часы обычно косили на оба глаза, принуждая владельца сверяться с “внутренними” часами.
Внутреннее же время перевалило за полночь, поэтому Матвей Платонович решил сварить себе брикетик гречи. Занятый неотступными размышлениями, он действовал машинально и рассеянно, и каша вышла еще более комковатой, чем обычно. Проглотив гречневые комки, Тетерятников отправился спать. Те, кто пришел во сне, имели мифологические очертания, однако их действия грешили сонной фрагментарностью, впрочем, соответствовавшей образу мыслей Тетерятникова. Сквозь сон Матвей Платонович беспокойно вглядывался в их черты, мучаясь дурными предчувствиями. И все-таки он надеялся на лучшее.
Залогом его надежд была подлинная история, случившаяся в давно прошедшем времени: волхвы, пришедшие с Востока, принесли Ему дары – золото, ладан и смирну и, получив во сне откровение не возвращаться к царю Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Так закончилась сокровенная часть древней мистерии, в которой действовали прежние волхвы, а значит, теперь, в новой одновременной эпохе, она должна была завершиться тем же счастливым образом.