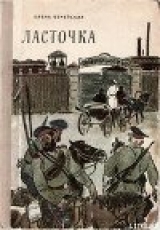
Текст книги "Ласточка"
Автор книги: Елена Верейская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Елена Николаевна Верейская
Ласточка
Об авторе
Елена Николаевна Верейская родилась в 1886 году в семье профессора-историка Н. И. Кареева в Петербурге. Здесь она окончила гимназию, а затем и Высшие (Бестужевские) женские курсы. В те годы она писала лирические и революционные стихи. В 1910 году в журнале «Вестник Европы» было напечатано её первое стихотворение.
С 1917 по 1922 год Елена Николаевна живёт в деревне. Жизнь в деревне обогатила писательницу новыми впечатлениями и наблюдениями. Она занимается крестьянским трудом, работает библиотекарем в сельском Народном доме, руководит двумя драматическими кружками – взрослых и школьников, пишет пьесы для младших школьников.
После возвращения в Петроград Елена Николаевна с 1923 года принимает активное участие в «Кружке детских писателей», которым руководил С. Я. Маршак.
Первые посещения кружка определили дальнейший путь Е. Н. Верейской. Она твёрдо решает посвятить себя детской литературе. Её стихотворения и рассказы для детей печатались в журналах «Чиж» и «Ёж», «Пионер» и «Костёр». Лучшие произведения – «Дворцовый Пашка», «Бесик», «Таня-революционерка», «Джиахон Фионаф» – неоднократно издавались отдельными книжками.
В послевоенные годы она написала повесть «Три девочки», создала два произведения для сборника историко-революционных рассказов – «Памятный день» и «В те годы» – об участии подростков в революционной борьбе 1903–1917 годов.
В 1959 году в издательстве «Детская литература» вышла в свет новая книга писательницы – повесть о мальчиках «Отава», а в 1966 году, незадолго до её смерти, – последняя книга «Внучка коммунара».
Свыше сорока лет писала книги для детей Елена Николаевна Верейская.
Таня-революционерка
Шёл декабрь тысяча девятьсот пятого года.
Мне было тогда десять лет, но была я такой маленькой и худенькой, что никто мне больше восьми не давал. Мы жили в фабричном районе большого города, в квартире из двух комнат. Отец мой работал в типографии наборщиком, мать была портнихой.
Как сейчас помню тот вечер. Я была простужена, меня знобило, и мама рано уложила меня в постель. Папы не было дома, мама сидела у стола и шила: у неё была спешная работа к завтрашнему дню.
Под стук машинки я задремала. И слышу сквозь сон: вошёл папа – весёлый, бодрый. Мама на него зашикала:
– Тсс… Танюшка спит.
Папа подошёл ко мне, посмотрел, сел рядом с мамой и говорит тихо:
– И лучше, что спит. Достал я…
– Господи!.. Лучше бы не доставал!..
А папа рассердился:
– Глупости болтаешь! Разве ты не жена большевика? Разве смеешь трусить?
Мама тихо ответила:
– Знаю, так надо… Надо!.. А только душа у меня болит… А ну как попадёшься с этим? Сколько уж товарищей – кто в тюрьме, кто в ссылке, а кто и казнён…
– Брось ты это! – перебил её папа. – Коли все мы трусить будем, не добиться нам человеческой, свободной жизни. Так и подохнем рабами. А сейчас знаешь какие события? В Москве народ уже поднялся.
Мама так и ахнула:
– Да ну-у?! И что же там?
– Вооружённое восстание – вот что там! Баррикады на улицах, бои идут с царскими войсками.
Папа говорил совсем тихо, но я прислушиваюсь затаив дыхание.
– Да и не в одной Москве, – шепчет папа, – и в других городах вооружился народ… Нет у него больше сил терпеть! И у нас решено выступить. Завтра воскресенье, вот и напечатаем прокламацию. Не меньше тысячи. А там товарищи по заводам разнесут.
Мама спрашивает:
– А ты уже видел прокламацию?
– А как же! Здорово написана! Зовёт она и наших рабочих идти за московскими рабочими. «Все к оружию, товарищи! Пора, – говорится в ней, – самим добывать себе свободу. Да здравствует вооружённое восстание!» А подписано: «Российская социал-демократическая рабочая партия!» Вот посмотри, что я принёс!
Мама отложила работу в сторону. И я глаза приоткрыла, гляжу. Развязал папа тряпку, – посыпался на стол новый, блестящий шрифт.
А я до чего шрифт любила! Лучше игрушек всяких!
Бывало, прибегу к папе в типографию, завтрак принесу, да и смотрю, как он работает, – оторваться не могу. Стоит папа перед большим плоским ящиком, а он-то весь на маленькие ящички перегородочками поделён. И в каждом четырёхугольные длинненькие свинцовые кусочки набросаны, «литеры» называются, – много-много!
Сразу посмотреть – будто бы все и одинаковые, а станешь разглядывать ближе – на всех разные буковки. И занятные такие: выпуклые и шиворот-навыворот. Вот в одном ящичке свинцовые кусочки только с буквой «А» лежат, в другом – только с буквой «Б», и так вся азбука.
Стоит папа и составляет их в слова – быстро-быстро, и не уследишь. Вот эти-то буковки все вместе «шрифтом» и называются.
Так вот, высыпал папа шрифт на стол. Блестят буковки, сыплются, шуршат, новенькие, как игрушечки!
Захотелось и мне новенький шрифт посмотреть поближе, да вдруг как вспомнила про Симу, подружку свою, да про весь сегодняшний день… Ох, нет… не до шрифта!.. Снова глаза закрыла, лежу, вспоминаю…
* * *
…Проснулась я нынче утром – и ничего не пойму! За окном, как всегда, ещё темно. На столе керосиновая лампа горит.
– Мама! Что это тихо как? – спрашиваю. – Почему нет гудков?
Мама молчит. Возится с утюгом. А папа ещё в постели. Руки за голову закинул, улыбается.
– Папа! Разве ещё так рано? Чего ты не встаёшь?
– Тихо, говоришь? Гудков нет? – Папа усмехнулся. – Не загудят нынче гудки, Танюша.
Я начинаю догадываться:
– Забастовка, папа?
– Забастовка, дочка.
Когда я прибежала в класс, – а училась я в церковноприходской школе, – уже звенел звонок. Гляжу – а Симы, лучшей моей подружки, нет! И Кати нет. И Люды. А Поля с задней парты наклонилась ко мне, шепчет в самое ухо:
– К нам в общежитие нынче ночью полиции набежало – видимо-невидимо! Весь барак перерыли, искали чего-то… Увели многих! Катиного папу и Людиного…
– А… Симы?..
– И Симиного забрали…
А тут входит священник, «батюшка». Вошёл туча тучей. Мы все встали. Дежурная молитву прочла.
– Садитесь, чада мои! – Никого вызывать не стал, а начал чего-то говорить, говорить… Да сердится так. А я и не слушаю, всё об Симе думаю… Как же они будут теперь? Мама у Симы больная, не работает. Живут в общежитии, в бараке. Ещё выгонит хозяин.
Только потом, уже в переменку, рассказала мне Поля, про что говорил батюшка. Говорил, что, мол, взбунтовались рабочие, против царя и бога пошли, а бог их за это накажет. А ещё говорил, что, если кто из нас знает, которые из рабочих самые смутьяны, – пусть ему, батюшке, всех их назовёт. А бог нас за это наградит и все грехи нам простит.
– Нашёл тоже дур! – фыркнула Поля.
* * *
Шла я домой – и улиц не узнавала. Всегда, как идёшь из школы, из всех фабричных труб дым валит. Кругом грохот, лязг, гудки! Молот где-то ухает, пилы где-то визжат. А народу-то! Особенно если во время смены проходишь. Толпами идут рабочие. Чёрные, замасленные, закопчённые… Усталые идут, домой спешат.
Иду я по знакомым улицам – не те они, да и только! Торчат трубы заводов как мёртвые. Тихо до того, что даже жутко с непривычки. И народу совсем мало. Проходят рабочие, не спешат. По двое, по трое, негромко разговаривают. Не замасленные, не закопчённые, чистые, будто в воскресенье. А всё-таки на воскресенье почему-то совсем не похоже.
Гляжу, навстречу мне – Сима. Из лавочки хлеб несёт. Идёт бледная, глаза заплаканы. Подошла я к ней, взяла за руку, пошли вместе. Молчу, не знаю, что и сказать… И она молчит.
– В школу больше не пойдёшь? – спрашиваю, наконец.
– Боюсь, прогонит батюшка… Да и мама хворает… Мне бы на работу куда… Не возьмут!
Помолчали мы.
Я шепчу совсем тихо:
– Сима, у папы твоего нашли что?
– Нашли. Под матрацем прокламаций штук пять… Знаешь – тех, чтоб бастовать…
Сима всхлипнула.
Завернули за угол. У закрытых заводских ворот стоит небольшая кучка рабочих. Вполголоса между собой о чём-то спорят.
И вдруг где-то совсем близко лошадиные копыта застучали. Сима вздрогнула, ещё ниже опустила голову, сжалась вся.
– Вот они, проклятые! – шепчет.
Казачий разъезд шагом проехал мимо нас. Рабочие у ворот замолчали. Казаки на них и не взглянули. А вот рабочие… так и вижу их лица, как они смотрят вслед разъезду!..
…Лежу я, всё это вспоминаю, уж и не слышу, о чём папа с мамой говорят. А перед глазами – Сима… рабочие… казаки… сердитое лицо батюшки…
Потом всё перемешалось, и я не заметила, как уснула.
Вдруг слышу сквозь сон, будто кто-то мою подушку двигает. Открываю глаза – мама надо мной наклонилась, вся бледная, глаза большие, что-то под подушку суёт. А в соседней комнате шаги тяжёлые топают, голоса мужские…
– Мама, – шепчу, – кто там?
– Обыск, деточка. Полиция. Ты спи, авось тебя не тронут.
Не успела мама подняться, входят двое в комнату. А мама:
– Пожалуйста, – говорит, – тут потише. У нас ребёнок больной.
А грубый голос отвечает:
– Ладно! Чего это у вас все ребята хворают? Куда ни придёшь с обыском, всё ребенок больной.
Я лежу ни жива ни мертва, глаза закрыла, будто сплю. Из соседней комнаты кто-то кричит:
– Сначала здесь осмотрим. Всех из той комнаты сюда!
– А тут только хозяйка, да ещё ребёнок спит.
– Ребёнок пусть спит, а хозяйку сюда.
Вышли все и дверь затворили.
Открыла я глаза, вся дрожу. На столе лампа горит, ужин со стола не прибран, постели не смяты. Видно, ещё не ложились спать… А за дверью шаги, голоса.
Дух захватило. Ведь не маленькая, понимаю же:
найдут на квартире у наборщика шрифт, – ясно же, для чего ему шрифт… Плохо будет папе!..
Села на кровати, оглядела комнату. Нигде не видно. Да! А зачем мама у меня под подушкой рылась? Сунула я руку под подушку – и обмерла. Там!.. Крепко завязанный в тряпку, колючий…
Будут искать – и в мою постель полезут. Поля рассказывала, – всё, всё перерывают… Нашли же у Симиного отца под матрацем, и у меня найдут… Надо спрятать… скорее.
Но куда?!
Дрожу вся, зубы стучат, оглядываю комнату. Нет укромного места! В печку? Найдут. На шкаф закинуть? Слышно будет, да ещё уроню… Сил не хватит, – тяжёлый он!
Сижу на кровати, узел в руках держу, не знаю, что делать! А надо! Знаю – надо! Куда же, куда?
И вдруг осенило меня. Вскочила я, подбежала к столу на цыпочках, заглянула в глиняный кувшин, – большой он у нас был. Так и есть, молока в нём ещё порядочно. Перенесла кувшин на подоконник. Стала развязывать узел со шрифтом, руки дрожат, сил нет, Узел крепко затянут. А сама так и жду, – вот-вот войдут. Не поддаётся узел. Вцепилась зубами, рванула, – развязался! Опустила тряпку одним концом в кувшин. Посыпался шрифт, зашуршал… Так я и застыла… Ничего, ходят там, авось не слышно.
Стало молоко кверху подниматься, тряпку замочило. Разложила тряпку на подоконнике, сыплю горстями, спешу. Поднялось молоко до краёв, а шрифта ещё много. Как быть? Отлить? Руки трясутся, подниму кувшин, расплескаю, догадаются… Оперлась руками о подоконник, подтянулась к краю кувшина, давай молоко отпивать… Глотаю, давлюсь, в горле застревает. Чуть не поперхнулась. Вдруг шаги к двери… Я дышать перестала… Нет, отошли!
Всыпала ещё две горсти, – опять молоко до краёв. Снова отпивать стала.
Ух, всё там, до последней буковки! И молоко снова наравне с краем. Отпила ещё глотка три, тряпку сложила, бросила в раскрытую корзину, где у мамы лоскуты лежали. Сама – юрк в постель. В голове шумит, словно лечу куда-то вместе с комнатой, нехорошо так…
Долго ли пролежала, не знаю. Слышу, отворяется дверь, вошли все. Мама говорит, а у самой голос дрожит:
– Ребёнка только не троньте, очень больна девочка!
А кто-то отвечает:
– Девочка нам ни к чему. А кровать осмотреть надо. Снимите девочку!
– Нельзя, – мама говорит, – тревожить её.
Слышу, еле говорит, бедная. Так мне её жалко стало. И сказать-то ей нельзя, что шрифта под подушкой уже нет.
Прикрикнул пристав:
– Берите девчонку! Нечего тут!
Подошёл папа. Взял меня на руки, сел на стул. А я притворилась, будто и не чувствую. А у самой сердце выскочить хочет. И у папы руки дрожат.
Слышу, сбросили подушку, роются в постели. Долго шарили.
– Ладно, – говорят, – можете класть.
Положил меня папа осторожно. Незаметно повернулась я так, чтобы лицом к комнате лежать. Самой любопытно посмотреть. Приоткрыла веки, гляжу сквозь ресницы… Как сейчас вижу, – два дворника из соседних домов – понятые. Пристав толстый, усатый, красный. И пуще всего что-то мне его руки запомнились, – пальцы короткие, пухлые, как обрубки. Всюду он ими щупал; ходит и щупает по всей комнате, ходит и щупает, пока околоточный с городовыми в вещах роются. И ещё какой-то… шпион, наверное. Этого до сих пор забыть не могу. Всё улыбается, голос сладенький, будто ласковый такой, а у самого глаза, как у лисицы, так и бегают, так и сверлят. И как это он не заметил, что я сквозь ресницы за ним наблюдаю?
Всё перешарили, всюду искали. Папа стоит, молчит, мама на стул в уголку села.
Вдруг вижу, – подошёл пристав к окну. Ладонями в подоконник упёрся, наклонился всей своей грузной тушей прямо над моим кувшином… Догадался?.. Нашёл?.. Даже в глазах у меня потемнело…
А пристав сердито выругался вполголоса:
– Черти! Ходи тут из-за них ночью по пурге! Света божьего за окном не видать! – Повернулся от окна да как прикрикнет на маму:
– Ну, чего расселась! Убери со стола, протокол буду писать.
Мама встала, тряпкой стол вытерла. Сел пристав протокол писать.
«Ой, – думаю, – что же он такое пишет?»
А дальше я не помню, не то заснула, не то в забытьи лежала. Очнулась, как от толчка. Открыла глаза, гляжу, – за окном светает. Мама у лампы сидит, шьёт. А посреди комнаты стоит папа.
Вспомнила я всё, чуть не закричала от радости. Цел папа! Дома!
Мама говорит:
– Да что я, с ума, что ли, сошла? Как же это не помнить? Говорю: своими руками Танюшке под подушку сунула.
Пожал папа плечами.
– Чудно́, – говорит, – как в воду канул!
Не выдержала я, как расхохочусь да как закричу:
– Не в воду, папа! В молоко!
Вздрогнули оба. Посмотрел на меня папа:
– Что она? Бредит?
А я одеяло сбросила, села на кровати, сама от радости и заговорить не могу. И пришло мне вдруг на память.
– Слушай, папа, – говорю я, а сама смеюсь, – я недавно такую сказку читала: жили старички, муж да жена, а у них кувшин волшебный был. Они молоко пьют, а он всё полный… Так и у вас с мамой!
Смекнул папа, оглядел комнату. Бросился к окну, взял кувшин в руки.
– Танюшка, – говорит, – это ты его сюда?
Я только головой кивнула.
Мама всплеснула руками да как заплачет:
– Умница ты наша, папу своего спасла!
А папа поставил кувшин обратно на окно, подошёл ко мне, взял меня молча на руки, поднял, прижал к себе и понёс по комнате. Сам молчит, только меня всё крепче к сердцу прижимает. Остановился, да и говорит тихо так:
– Ну и дочка у меня! Настоящая из тебя революционерка выйдет. Не растерялась!
– Как это так, – говорю, – «выйдет»?! Разве я уже не революционерка?!
Засмеялся папа.
– Верно, – говорит, – и твоя капля уже в общем деле есть.
И болел же у меня живот наутро! Ещё бы, – больная, а столько молока залпом выпила!
Это ничего. А вот одно досадно мне было, – нельзя подругам в школе рассказать. Хорошо знала, – конспирация. Значит, – тайна, секрет.
* * *
В сумерки папа рассыпал шрифт по всем карманам и – как будто с пустыми руками – ушёл из дому.
Ждали мы его с мамой – ни живы ни мертвы… У меня из головы не выходили Сима и её отец… А ну, как и папа…
Вернулся папа поздно вечером. Мы обе так и бросились к нему.
– Чего вы, глупые? – засмеялся он и обнял нас. – Всё в порядке!
Через несколько дней в городе началось вооружённое восстание.
Фонарик
То, что я хочу рассказать, случилось очень давно, в самом начале двадцатого века. Наша семья жила тогда на окраине города, в маленькой, почти до окон ушедшей в землю лачуге. Отец и мать работали на большом казённом заводе, а я, четырнадцатилетний мальчишка, – на маленькой фабрике купца Золотихина. Дома хозяйничала десятилетняя сестрёнка Валюшка.
Не знаю, где и когда познакомился мой отец с молодым рабочим Крутовым, но как-то так вышло, что Крутов начал часто к нам заходить. Вскоре он тоже поступил на золотихинскую фабрику.
На работе был Крутов молчалив и старателен, но дома у нас весел и разговорчив. Особенно нравилось мне, когда он начинал высмеивать хозяев, а то и самого царя. Отец и мама обычно внимательно слушали его, но разговоров этих не поддерживали… И я понимал почему. Они ещё присматриваются к нему, – что за человек? Изучают его.
На другом краю города жил мой дед, отец мамы. Иногда мать пекла незатейливый пирожок и вечером посылала нас с сестрёнкой отнести гостинец дедушке. Мы с радостью бежали к старику, так как оба любили его. Валюшка ничего не подозревала, я же каждый раз догадывался: ага, нас отсылают… Значит, вечером конспиративное собрание заводского кружка в нашей избушке будет. Я знал, что эти собрания устраиваются каждый раз в другом месте, чтобы полиция не напала на след. Но о том, что я понимаю, в чём дело, я не говорил никому, даже отцу.
Как-то раз, когда Крутов только что ушёл от нас, отец сказал маме:
– Да, дельный, кажется, парень…
– Дельный, – согласилась мать, – и закалка в нём уже видна…
А Валюшка вдруг вздохнула и сказала:
– А я его не люблю. Он нехороший.
– Вот как! – засмеялся отец. – Он тебя балует, конфет тебе носит, а ты его не любишь…
Валюшка упрямо твердила:
– Нехороший он! Зачем моего Тузика в живот ногой пихнул?.. Тузик даже завизжал, бедненький!.. С тех пор Тузик на него всегда рычит!
– Дурак твой Тузик, – сказал я.
Валюшка ничего не ответила. А мать как-то очень пристально посмотрела на отца и говорит:
– А ведь скоро, через неделю с небольшим, бати моего именины. Валюшка, завтра у меня получка, купишь белой муки, спечём дедушке пирожок.
– Да, да, – сказал отец и с улыбкой посмотрел на маму, – дедушкины именины, как же!
«Ага! – подумал я. – Собрание будет…»
Но вслух я этого не сказал, будто ничего не понял.
* * *
Вскоре после этого, в воскресенье, Крутов с утра забежал к нам на минутку и принёс нам с Валюшкой подарки – Валюшке конфет, а мне карманный электрический фонарик. И обрадовался же я! Давно я мечтал о таком фонарике. Нажмёшь кнопку – ярко-ярко загорится, отпустишь – потухнет.
После обеда я побежал показать фонарик своему другу Васе. Вася жил неподалеку от нас, но на хорошей улице, в большом каменном доме. Когда я уходил от него, были уже сумерки. Вася проводил меня до прихожей и открыл дверь на лестницу. На лестнице было совершенно темно.
– Опять все лампочки украли, – сказал Вася, – даром что над нами полицейский пристав живёт, чуть не каждый день воруют!
Только я сунул руку в карман за фонариком, как где-то наверху открылась дверь и сердитый бас закричал:
– Чёрт знает что! Снова потёмки!
– Пристав! – шепнул Вася и поскорее неслышно закрыл дверь за моей спиной. Я прижался в угол тёмной площадки. Мне почему-то стало жутко.
– Эй! Есть кто на лестнице? Зажгите хоть спичку чёрт вас дери! – снова раздался сверху бас пристава. Я молчал. И вдруг какой-то другой голос – голос, показавшийся мне странно знакомым, – ответил:
– Не беспокойтесь, ваше благородие! Никого нет на лестнице. Да оно и лучше, что темно… Вот перила, ваше благородие!
Они стали спускаться и молча прошли мимо меня. Лестницей ниже оба – и пристав и тот, чей голос мне показался таким знакомым, – остановились.
– Ну, ладно, тут с улицы свет. Ты постой минутку, чтобы нас во дворе вместе не видели, – тихо сказал пристав. И ещё тише прибавил: – Смотри же!.. Чтобы всех…
– Будьте покойны, ваше благородие! Всех до одного заберём. Двадцатого числа… – так же тихо ответил другой.
Я всё ещё стоял на месте, когда шаги и того и другого затихли внизу. Неужели?!. Не может быть!.. Это же был голос… Крутова!..
Да, нет, не может быть!.. Мало ли людей с похожими голосами. Я, не зажигая фонарика, сбежал с лестницы и пошёл домой.
Прошло несколько дней. Крутов заходил к нам часто, всё такой же весёлый, разговорчивый. Как мог я принять за него того, на лестнице?! И я скоро забыл об услышанном в потёмках разговоре.
Однажды рано утром, когда все мы собирались на работу, отец сказал:
– Миша, повидай Крутова. Пусть придёт к нам сегодня вечером, к девяти часам. Только скажи так, чтобы никто не слыхал. Ну, да ты у меня молодец.
А мать напомнила Валюшке:
– Ставь тесто для пирога. Вечером отнесёте дедушке, а про меня скажете: занята мама, завтра на чёрствые именины придёт.
Я быстро бежал на работу. Было ещё темно. Рабочие толпой шли к фабрике. Кто-то положил мне руку на плечо. Я поднял голову. Рядом со мной шёл Крутов.
– Здравствуй! – сказал он. – А что, фонарик цел?
– Цел! – сказал я.
– А ну, покажи!
Я вынул фонарик из правого кармана брюк и показал ему.
– Молодец! – сказал он. Потом слегка наклонился ко мне и совсем тихо прибавил:
– Смотри на фонарик, будто мы о нём говорим. Что, отец не велел тебе ничего передать?
Мне вдруг почему-то стало неприятно… Что-то напомнил мне его шёпот…
– Велел… – тихо сказал я. – Велел приходить, нынче к девяти…
– А куда? – тихо спросил Крутов. – Говори адрес, я запомню.
У меня захолонуло сердце. Я вспомнил!.. Не этот ли голос я слышал тогда на лестнице?.. «Будьте покойны, ваше благородие… Всех до одного… Двадцатого числа…» А какое же сегодня число? Ну да!.. Сегодня же именины деда… двадцатое!
Всё это в один миг промелькнуло у меня в голове. Я чуть не задохнулся от испуга. Что же мне делать?!. Я нажал кнопку фонарика. Яркий свет блеснул мне в глаза.
– Чего же ты? – толкнул меня Крутов локтем. – Забыл адрес?
– Нет! – сказал я, глядя на фонарик. – Я… не забыл адрес… Я… просто думаю, как лучше объяснить… Знаешь переулок, соседний с нашим?
– Знаю.
– Он выходит на пустырь. На пустыре стоит старый, заброшенный дом. Там никто не живёт. Окна заколочены. Там и соберутся. Дверь будет заперта. Надо постучать три раза.
– Три раза?
– Три раза. Придёшь?
– Конечно, приду. К девяти вряд ли успею. Приду около половины десятого.
И он быстро пошёл вперёд.
* * *
Не знаю, как я работал в этот день. Мысли мои путались. Рассказать папе? Но я хорошо помнил, что отец недавно в моём присутствии говорил одному товарищу: «Ты не смеешь никого обвинять в предательстве, не проверив. Это слишком страшное обвинение»… Ведь мог же я и ошибиться… «Смотри, чтобы всех», – сказал тогда пристав. А голос, правда, очень похожий на голос Крутова, ответил: «Всех… двадцатого…» Мало ли о чём они могли говорить! И всё же… всё же хорошо, что я ему не сказал, что соберутся у нас! Но как же быть дальше?!
И вот, работая, я думал, думал, думал… И наконец решил: я проверю сам, а поможет мне Валюшка. Придётся рассказать ей обо всём… Но я был уверен в сестрёнке. Молчать она умеет.
Наш переулок, длинный и скучный, кончался тупиком. Он упирался в стенку сарая. Между сараем и высоким забором соседнего участка шёл узенький переулочек, выходивший на этот самый пустырь. Сейчас он весь был завален снегом, и лишь вдоль самой стенки сарая шла, как в траншее, тропочка, протоптанная ребятами. Когда я вернулся с работы, Валюшка с гордостью показала мне румяный пирог.
– Хорошо, – сказал я, – мы скоро пойдём к дедушке, только сначала идём со мной… Одевайся живей!..
– Валюшка, – сказал я, когда мы вышли из дому, – ты должна помочь мне проверить, провокатор Крутов или нет.
– А что такое «провокатор»? – спросила она.
– А это такой человек: притворяется, будто он заодно с рабочими, выведает у них всё, а сам их полиции выдаст.
– Да ну-у? – испугалась Валюшка. – Видишь, недаром его Тузик не любит!
– Нет, – сказал я, – может, я и ошибся. Надо проверить.
– А как?
– Увидишь. Пойдём в пустой дом. Я сказал Крутову, что собрание будет там.
Заброшенный дом уныло стоял посреди пустыря. Входная дверь висела на одной петле, внутри было холодно и грязно. Все ребята с ближайших улиц часто играли на пустыре, и я хорошо знал в этом доме каждый закоулок.
Мы с Валюшкой зашли в дом и плотно закрыли за собой дверь. Я с трудом отодрал от перегородки две доски и припёр ими дверь изнутри так, чтобы её нельзя было открыть снаружи. Потом мы вылезли через маленькое разбитое окно чуланчика по ту сторону дома.
– А теперь говори, – сказала Валюшка, – как будем проверять?
– Вот что я придумал, – сказал я, – мы сбегаем ненадолго к дедушке, а к девяти часам вернёмся, и ты спрячешься где-нибудь возле самого нашего дома. Только в таком месте, чтобы хорошо видела лазейку на пустырь. Сейчас вместе и присмотрим местечко, ладно? А я – понимаешь? – спрячусь в самой лазейке и стану ждать. Спрячусь там за угол сарая. Как увижу, что Крутов идёт один, – значит, он честный человек. Тогда я выйду к нему и скажу: передумали, мол, наши, у нас собрались, пойдём к нам. А коли там, на лестнице, был он… Ну, тогда уж, верно, он не один придёт…
– А с кем? – шёпотом спросила Валюшка.
– Ясно, – с полицией…
– Ой! – вскрикнула Валюшка.
– А ты что думаешь? Ясно! Так вот, коли я увижу, не один идёт… я сейчас к выходу в лазейку с нашей стороны. Зажгу фонарик в твою сторону, да и помашу им в воздухе! Смотри, вот так! А ты, значит, коли увидишь: огонёк вертится…
– Сразу домой, да всё и скажу, да? – захлебываясь от волнения, перебила меня Валюшка.
– Вот-вот! Поняла?
– Поняла!.. А ты-то сам тогда что?..
– Ну, я там уж посмотрю, что делать. А теперь бежим скорее к дедушке. К девяти нам надо быть на посту!
* * *
Дед очень нам обрадовался, только его огорчило, что мы пришли ненадолго.
– Мы, дедушка, завтра придём с мамой ещё раз, – утешала его Валюшка.
Мы оба сидели как на иголках и не спускали глаз с часов-ходиков. К девяти были уже на месте.
Дул резкий, морозный ветер. Небо было в тучах, но где-то за ними светила луна. И всё было хорошо видно.
– Знаешь что? – сказал я. – Садись здесь на завалинке и гляди в оба.
Переулок был пуст. Стараясь держаться в тени домов, я быстро пробежал его, зашёл за край сарая, прижался плечом к углу и стал наблюдать.
Кругом ни души. Только ветер со свистом носился по пустырю. Тучи снега поднимались там, где снег не был утоптан ребячьими ногами. Ветер врывался и в мою лазейку. Он колким снегом обжигал мне лицо, пробивался в слишком короткие рукава пальтишка, сыпался за шиворот. Брр… Холодно! Я не отрывая глаз смотрел туда, откуда, по моим расчётам, должен был появиться Крутов.
Сердце тоскливо замирало. И вдруг я ясно представил себе весёлого, приветливого товарища Крутова, как он сидит у нас за столом и ругает царя, – и мне стало нестерпимо стыдно. Как мог я заподозрить его в такой гадости?! Голос… Какая чепуха! Мало ли голосов на свете! Эх, товарищ Крутов, и свинья же я перед тобой!..
Я начинал замерзать, ноги совсем застыли, зубы стучали. Никто не шёл. Неужели ещё нет половины десятого? Почему же не идёт Крутов?
Вдруг из-за угла старого дома, – совсем не с той стороны, откуда я ждал, – показалась крадущаяся тёмная фигура. Я насторожился. «Ага, – подумал я, – это хорошо, что он такой осторожный, не переулком пошёл…» Человек остановился, огляделся. Мне было ясно видно каждое его движение. Я уже хотел выйти ему навстречу, как вдруг он взмахнул рукой и двинулся к двери дома. И сейчас же из-за того же угла появилась вторая фигура, третья… Люди шли молча, осторожной походкой, явно стараясь не шуметь.
Я обмер. И вдруг увидел, что из-за дома с противоположной стороны тоже появился человек. За ним ещё и ещё… Люди кольцом окружали дом.
Несколько мгновений я не мог шевельнуться от ужаса, я точно прирос к месту. А со стороны дома раздался стук.
Тук… тук… тук… Три раза.
Тогда я опомнился. Выхватив из кармана фонарик, бросился к выходу лазейки, нажал кнопку и бешено замахал фонариком. Но пальцы мои окоченели. Они не удержали фонарика. Он с размаху отлетел куда-то в сугроб.
Успела ли Валюшка заметить? Не замёрзла ли она там? Не убежала ли домой греться? Ведь маленькая ещё!..
Я выбрался из лазейки и, стараясь держаться поближе к заборам, со всех ног бросился домой.
* * *
Когда я вошёл, отец, полураздетый, стоял среди комнаты. Мама уже лежала в постели.
– Скорей раздевайся и ложись, – сказал мне отец, – они, конечно, сейчас сюда придут. А мы будто спим, и знать ничего не знаем. И Крутова не знаем. Поняли?
– А у тебя… ничего нет? – спросил я. – А если обыск?..
– Что было, то сплыло. Ложись!
С русской печки свесилась голова Валюшки:
– Мишутка! Замёрз небось? Полезай сюда, здесь тепло!
Я быстро сбросил одежду на стул и залез на печку.
– Валюшка, расскажи, как ты?.. – спросил я, кутаясь в одеяло.
– Тихо, ребята, мы все спим! – вполголоса приказал отец, лёг в постель и потушил керосиновую лампу.
– Валюшка? – зашептал я на ухо сестре. – Расскажи! Замёрзла небось?
– У-у, как замёрзла! – зашептала мне на ухо Валюшка. – Сидела, плакала… А уйти, знаю, нельзя! Вдруг слышу, – бежит кто-то! Я так испугалась! А это Тузик меня нашёл! Вскочил на колени. Я плачу, а он языком слёзы мне с лица слизывает. Язык тёплый такой! Прижала я его к себе, согрел он меня немножко… Вдруг вижу – огонёк!.. Вертится!.. Я – бежать! Дома насилу выговорила: «Уходите все, сюда полиция придёт. Крутов выдал». Один по одному все ушли.
Я пригрелся на печке и, кажется, даже задремал. Разбудил меня осторожный стук в дверь – три раза – и неистовый лай Тузика.
* * *
– Кто там? В чём дело? – крикнул отец, как будто спросонья. За лаем Тузика я не услышал, ответили ли.
Отец накинул пальто, зажёг лампу и шепнул нам:
– Если это Крутов, мы его не знаем, поняли? Вы, ребята, будто спите! – И он пошёл в сени открывать дверь.
Тузик поджал хвост и забился под лавку. Я поспешно задёрнул занавеску над печкой и лёг так, чтобы незаметно смотреть сквозь щель.
Вошёл Крутов. Я сразу заметил, что он бледен и губы его чуть дрожат.
– В чём дело? – заговорил он, снимая шапку. – Не состоялось?
Тут только я обратил внимание на то, что отец не ставит лампу на стол, а продолжает стоять у двери, держа её в руке и глядя на Крутова недоумевающим взглядом.
– Что не состоялось? – спросил он.
– Да собрание.
– Какое собрание? Да вы к кому? Вы, видно, не туда попали!
Крутов напряжённо засмеялся:
– Брось шутить! Я ходил туда, не достучался. Отменили?
– Что отменили? Куда ходил? В чём дело? – недоумевал отец так естественно, что, несмотря на всю мою тревогу, мне стало смешно.
Крутов нахмурился:
– Да не валяй ты дурака! Или мне Мишка наврал?
– Какой Мишка?
– Какой! Ясно – твой.
– Есть у меня сын Мишка. Да вы-то его откуда знаете? И что вам здесь нужно вообще?
– Да брось ты дурить, чёрт! – разозлился Крутов. – Говори толком, наврал мне Мишка, что нынче собрание?
Отец не успел ответить, как мама вдруг открыла глаза, подняла голову с подушки и испуганно спросила:
– Что случилось? Кто это у нас?
– Да вы что? Обалдели оба? – Крутов резко повернулся к маме. – Ты что, Ивановна, меня не узнаёшь?
Мама смотрела на него широко раскрытыми, удивлёнными глазами и молчала.








