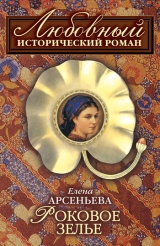
Текст книги "Роковое зелье"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Алекс бы решил, что это бред, предсмертный бред, однако сердце вдруг забилось мучительно, словно предчувствовало истину.
Неужели?.. Неужели возможно такое пугающее сходство?
– Я бы мог убить тебя, ты это понимаешь? – сказал мрачный мальчик, до невозможности схожий с обоими императорами Петрами – Первым и особенно Вторым. – Оставалось сказать только одно слово! Нет, ты это понимаешь? – вдруг рассвирепел он. – Говори!
Алекс только и мог, что пошевелил разбитыми при падении губами.
К счастью, это слабое движение было истолковано как выражение согласия, потому что приступ ярости у «сударя» прошел столь же внезапно, как возник.
– Мог бы, – повторил он почти спокойно. – Да только ее мне стало до полусмерти жалко. Не тебя, а ее, понимаешь ты?
Алекс понимал каждое слово. Более того, он понимал и то, что скрывалось за этими словами, однако показать это мог, только опустив веки. Увы, поднять их он был уже не в силах – провалился в такое глубокое беспамятство, что даже не помнил, как его донесли до дома испанского посла и уложили у ворот, оказавшихся запертыми, так что герцог де Лириа, возвратившись с бала, лично обнаружил своего переводчика, лежащего на земле в луже крови и обмороке.
Вида крови де Лириа не выносил, поэтому Каскосу пришлось немало повозиться, чтобы привести сердечного друга в чувство. И только потом настал черед Алекса.
Май 1729 года
Из донесений герцога де Лириа архиепископу Амиде. Конфиденциально
«Вчера была Пасха по русскому старому стилю. По всем улицам происходила страшная толкотня, потому что по здешнему обычаю поздравляют с Пасхой всякого, давая печеное яйцо со словами: «Христос воскрес!» – и хотя бы то была императрица, и она должна подставлять губы для поцелуя, отвечая словами: «Воистину воскрес!»
Страстная неделя в Москве, в католической церкви, в которой служат два капуцина, здесь не праздновалась никогда, но мой капеллан отец Фрай Бернард Рибера, которого я привез с собою из Испании в качестве священника моей домо́вой капеллы, вместе с двумя капелланами графа Вратислава ныне позаботились устроить в этой церкви монумент по испанскому обычаю, и такой, что заинтересовал и католиков, и еретиков, которые приходят посмотреть наши службы, чем я был очень доволен: потому что, если не обратятся, пусть по крайней мере видят наше благоговение, с которым мы служим царю царей.
Осталось добавить, что почтенный отец Фрай Бернард Рибера – достойный человек и особенно годный для такого нововведения, как дать здешним странам католического епископа для утешения живущих здесь (которых немало и которые держатся в этой обширной монархии покровительством Польши) и обращения неофитов. Здешние католики уже имеют утешение свободно отправлять свое богослужение. Я надеюсь и рассчитываю, что мне удастся в ближайшее время устроить так, чтобы его царское величество посетил одну из наших торжественных служб и убедился, насколько красиво и величаво, а главное – возвышенно для души таинство католической веры. Опасаюсь заглядывать вперед и говорить об обращении сего неофита (напоминаю, что покойная сестра его относилась к подобного рода увещеваниям вполне снисходительно), однако выскажу ему пожелание: пусть покровительству его царского величества и славе его царствования местные католики будут обязаны таким драгоценным обстоятельством, как таинство конфирмации, для того чтобы еще больше укрепляться в нашей святой вере. Я льщу себя надеждой преодолеть все затруднения, которые могут встретиться со стороны русских министров и клира. Надеюсь в этом на моего доминиканца отца Риберу, который, безусловно, достоин титула апостольского миссионера. Я прошу этой милости потому, что она возвышает капелланов испанских в сей стране, и теперь они уже не зависимы ни от кого и могут в своей оратории отправлять все религиозные службы.
Отец Рибера дал мне совет свести его с княжной Долгорукой, которую все чаще называют возможной невестой русского государя. Поскольку воспитывалась она в Варшаве, столице католической Польши, он убежден, что смог бы отыскать постулатам истинной веры путь в ее сердце. Тогда мы не ощущали бы такой безнадежности при мысли о полной подчиненности императора Петра Долгоруким, какую ощущаем теперь.
Продолжая извещать вас о ходе наших хлопот, чтобы добиться возвращения в Петербург, скажу, что я начинаю опасаться за успех; и в нынешнем году, кажется, мы не добьемся этого, потому что фаворита я нахожу очень охладевшим к этому делу, а никто другой не имеет достаточно авторитета у царя, чтобы убедить его воротиться в северную свою столицу».
Октябрь 1729 года
– Матушка, ну что опять за творог нам подали? – недовольно проныла Елена. – Есть невозможно!
Княгиня Прасковья Юрьевна взяла с тарелки комочек белого, нежного, жирного творога и положила в рот. Прожевала – и испуганное выражение сошло с ее лица, словно муть с оконного стекла, омытого дождиком.
– Господь с тобой, Ленушка, – сказала своим мягким, уютным, будто пуховая подушка, голосом, исполненным вечной заботы о своем привередливом семействе. – Чудесный творожок, и сочный, и на вкус – чистое масло.
– Масло, масло… – плаксиво протянула Елена. – А я вот есть его не могу! И Катя не может. Вон, гляньте, вся зеленая сидит. Я уж которое утро гляжу: только подадут творог, ее с души воротит.
Екатерина впилась ногтями в ладонь. Ах, Ленка, что ж ты за змея такая подколодная! И глазастая, будто ястреб! Отец, братья, даже мать ничего не замечали, а она углядела-таки, что уж которое утро, стоит Екатерине сесть за стол – завтракать, как она бледнеет впрозелень.
Но творог тут ни при чем. А вот стоит услышать запах жареного масла, которым обильно политы свежие, еще скворчащие оладьи, как тошнота подкатывает к горлу, и Екатерина сидит, будто аршин проглотив, умоляя Господа так, как никогда ни о чем не молила, чтобы дал сил продержаться до конца застолья, чтоб не вывернуло нутро на белую скатерть, уставленную обильными кушаньями.
После завтрака, увы, легче не становилось: дух жареного масла, чудилось, пронизывал весь дом, проникал в самые укромные закоулки, спасенья от него нигде не было, разве что на дворе, но, как назло, зарядили дожди; гулянья и поездки стали редки – все сидели дома, играли в карты либо в фанты, пусто, скучно проводили время, а Екатерина изводилась от страха, что ее вот-вот начнет рвать.
Интересно знать, проклятущая Ленка только заметила ее отвращение к еде или умудрилась сообразить, откуда оно взялось? Сама-то Екатерина давно все поняла, только боялась себе признаться в том, что…
Она резко вздрогнула, словно вымолвила ужасную правду вслух. Исподтишка огляделась. Все: отец, мать, братья, вреднющая сестра – так и ели Екатерину глазами, забыв про завтрак.
Что в их взглядах? Простое беспокойство за нее? Подозрения? Или уже прямые догадки?
Нет, не может быть, им не с чего догадаться, никто не знает о тайных встречах с Миллесимо!
Сделав над собой поистине невообразимое усилие, Екатерина подцепила ложечкой слоистый, омерзительно-влажный кусочек творога, взяла в рот, помяла онемевшим языком, кое-как пропихнула в горло:
– С чего ты взяла, сестрица, что мне творог не по нраву? Ем да нахваливаю!
И даже умудрилась улыбнуться.
Помнится, когда Екатерина росла в доме своего дядюшки Григория Федоровича Долгорукого, бывшего тогда посланником в Варшаве, тетушка, дама светская и изощренная, муштровала ее построже, чем капрал муштрует своих новобранцев. Именно княгиня Аглая Самсоновна приучила Екатерину к железной выдержке, обучила так владеть своим лицом, что, вонзись в ее тело все те полсотни булавок, на которых держался ее бальный наряд, да что – проткни ее насквозь вязальной спицею, – не перестанет мило улыбаться собеседнику. Ох, как сейчас пригодились ей тетушкины уроки!..
– Чего пристали к девке? – добродушно проворчал отец. – Когда у нас Катька ела за двоих? Это у тебя, Ленка, щеки скоро по плечам расползутся.
Сестра, которая и впрямь выглядела с самого детства так, словно была поперек себя шире, надулась, как мышь на крупу, кидая мстительные взгляды теперь на отца, но тому они были – что об стенку горох.
Братья вернулись к еде. Выражение беспокойства вмиг сошло с лица Прасковьи Юрьевны. И чуть не впервые княжна Екатерина подумала: какое счастье, что матушка свято придерживается старинного узаконения, по которому муж – всему голова. Если не тревожился князь, значит, его княгине следовало быть спокойной, пусть бы даже крыша начала валиться на голову!
Она бросила на отца признательный взгляд исподлобья – и в то же мгновение несчастный творог застрял у нее поперек горла.
Какое выражение мелькнуло на его лице! Отец обо всем знает… нет, догадывается! Что же теперь делать, как же быть? Да зародись у него одно подозрение, он с дочери глаз не спустит. А ведь Екатерине смертельно нужно ухитриться встретиться с Миллесимо, поведать ему, в какое положение они попали. Нет, в «положение» всегда попадает дама. А мужчина волен войти в ее положение – или нет. Проще говоря, признать своим ребенка, которого он сделал, – или высоко вскинуть брови с выражением крайнего недоумения: «Красавица моя, но при чем тут я?!»
Нет, Альфред не станет отрекаться от ребенка – он будет только счастлив признать его, будет в восторге, когда весь свет убедится, что Екатерина принадлежит ему, что теперь он непременно должен жениться на ней, чтобы спасти ее доброе имя! Да и ей ничего другого не остается делать, кроме как выйти за него, распростившись со всеми теми тщеславными надеждами, которые разрослись, распустились, расцвели в душе.
Екатерина с трудом подавила тяжелый вздох. Ну что ж, не судьба им сбыться, не судьба ей сделаться государыней. Ладно, винить некого, кроме себя и своей страстности. Как-нибудь она сумеет смириться с участью, но сумеет ли смириться отец? Екатерина-то надеялась просто исчезнуть из дому – и все, безвозвратно кануть в неизвестность вместе с Миллесимо, а теперь, по всему видно, не миновать стать объясняться с разъяренным отцом.
Она с трепетом ждала окончания завтрака. Думала, он окликнет ее, оставит в столовой для беседы, однако тот вышел первым, и Екатерина прошмыгнула в свою комнату, лелея надежду, что злобный, все насквозь проницающий взор отца ей померещился.
Ничуть не бывало!
Стоило только дух перевести, как дверь распахнулась – и на пороге возник князь Алексей Григорьевич.
«Да ведь он все равно ничего знать наверняка не может! – мелькнула спасительная мысль. – Только подозревает, а как сможет свои подозрения проверить? Он же не повивальная бабка! Мне надо только покрепче держаться, запираться что есть силы, возмутиться его подозрениями. А как он поверит моим словам и успокоится – бежать, бежать к Альфреду!»
Мало помогли трезвые размышления, и крепости духа хватило ненадолго. Чуть только Екатерина подняла испуганные, блуждающие глаза на белое от ярости лицо Алексея Григорьевича, как руки у нее похолодели, в ушах застучало, взор заволокло туманом, и она, тихо ахнув, повалилась на ковер в глубоком обмороке.
Очнулась через несколько мгновений от того, что холодные струйки неприятно ползли по щекам и шее. Потребовалось время, чтобы понять: она лежит на полу, отец не дал себе труда даже на кровать дочку перенести. Водичкой побрызгал ледяной, вот и вся забота о ней. А голос у него – голос еще холоднее, чем эта студеная вода:
– Очухалась, вижу? Полно притворяться, реснички вон дрожат. Открывай, открывай свои бесстыжие гляделки да посмотри на отца, коли хватит смелости, блудня поганая!
Екатерина с трудом села, упираясь в пол дрожащими руками. Да… плохи дела. Если раньше еще могла как-то отовраться: живот-де пучит, пищи не принимает, оттого и бледна за завтраком, то теперь надежды на отговорки нет. Вот так бухнуться перед отцом без памяти – все равно что самой себе клеймо поставить: грешна, мол, батюшка!
– Батюшка, – выдохнула с мольбой, вперяя в него отчаянный взгляд, – прости, ради Христа! Ну прости ты меня, свою дочь неразумную! Отдай, пока не поздно, за Миллесимо, да и делу конец! А хочешь, вели на конюшне плетьми до смерти засечь – я вся в твоей воле.
– Что ж ты делаешь, Катька? – спросил Алексей Григорьевич без злости, с тихим, надрывным отчаянием, как никогда не говорил с дочерью. – Я головой об эту стенку ради кого бьюсь? Ради себя, что ли? Да мне что, я – старик, моя жизнь уже прошла! Ради вас, детей! А вы у меня – что ты, что Ванька – и безмозглые, и бессердечные. Да я зубы сгрыз, руки по локоть стер, покуда смел с пути эту паскудину Елисаветку, да любовника ейного, Сашку Бутурлина, да Сережку Голицына заслал за границу, а этого грубияна Сашку Нарышкина – в его деревню. Вот он, государь, в ваших теперь руках, берите его тепленького, жрите его со сметанкой, а хотите – с маслицем. А вы что делаете?! Ванька только и знает, что отца чихвостит по всем углам, с иностранцами его обсуждает почем зря, словно чужого. Вот хоть бы с Вратиславом из-за этого поганого графчика эва как стакнулся!
Услышав имя влиятельного родственника Миллесимо, Екатерина насторожилась, села прямее. Отец словно и не заметил, что силы к ней возвращаются, – продолжал причитать:
– А ты тоже хороша! При такой красоте, при воспитании иноземном, при уме своем могла бы ох какую жар-птицу за хвост ухватить! Нет, разменяла злато на медяки. Дивлюсь я тебе, в кого такая неразумная уродилась? Думал, моя дочь, а по всему видно теперь, что мамкина. Девка-дура – она и есть дура-девка, что тут еще скажешь?
– Что вы про господина Вратислава молвить изволили, батюшка? – с трудом шевеля онемевшими губами. – Из-за кого брат Иван с ним стакнулся? Из-за какого графчика?
– Как это – из-за какого? – остро глянул на нее князь Алексей Григорьевич. – Да из-за этого твоего… рыжего-пегого, ни дна ему ни покрышки!
У Елизаветы перехватило дыхание. Рыжим, а иногда пегим отец с насмешкой называл Миллесимо – с тех пор, как твердо положил себе разлучить с ним дочь.
– Разве не слыхала? Отдай, говоришь, меня за него, а ведь он нынче пятки смазывает, деру дать готовится, не чает, как голову унести после того, как удумал покушение на государеву особу!
Екатерина чуть опять не рухнула навзничь – так задрожали руки, на которые она опиралась.
– Да ладно опять глазки закатывать! – пренебрежительно хмыкнул Алексей Григорьевич. – Жить небось охота, вот и увязывает вещички. Ему сейчас не до тебя, дурехи доверчивой. Сама посуди, как он у государя будет дозволения на ваш брак просить, коли земля у него под ногами горит ярым пламенем? Да и самому Вратиславу, после того, как он нос драл перед Остерманом и строил из себя невесть что, во дворец с какой бы то ни было просьбою соваться нет никакого резону. Поэтому про Миллесимо забудь, и чем скорей, тем лучше.
Екатерина присмотрелась к Алексею Григорьевичу. Она ничего не слышала о случившемся с Миллесимо и мало что поняла в словах отца, однако, хорошо зная его нрав и повадки, не усомнилась: он подстроил какую-то невероятную пакость ненавистному австрияку. Такую пакость, последствия которой могут быть воистину необратимы. Пожалуй, теперь и впрямь невозможно устроить тихий и незаметный брак согрешившей дочери с ее соблазнителем.
Но если так – поспешил папенька со своими придумками. Ведь позор падет не только на голову Екатерины, но коснется всего семейства Долгоруких!
– Что ж мне, в отхожее место ребеночка рожать? – грубо спросила Екатерина – и злорадно хмыкнула, увидав, как перекосило отца, никак не ожидавшего от своей изнеженной, манерной дочери этаких словечек. – Или бабку найдешь надежную – такую, чтоб помалкивала о позоре княжеской дочери?
– Балда ты балдовина, – покачал головой отец. – Самое бы лучшее – до тех пор тебя охаживать вожжами по голой заднице, пока ублюдка не скинешь. Уж и не знаю, почему не кликну Стельку. Ты хоть понимаешь, что сама себе жизнь изломала? Понимаешь или нет? Миллесимо – теперь нуль без палочки. После того, как из-за его дурости дело чуть ли до драки не дошло, на нем крест не только Вратислав, но и все австрияки поставили. Вернется в Вену – думаешь, будет там при императорском дворе блистать? Как бы не так! Зашлют его в родовое имение, и будет там твой рыжий-пегий винищем от злости наливаться, горюя о загубленной карьере. Охота с таким человеком вязаться, в глуши богемской себя хоронить, когда у ног твоих весь мир мог бы лежать-полеживать?
– Ну, батюшка, теперь делать нечего, так или нет? – зло бросила Екатерина, пытаясь подняться, но головокружение тотчас вынудило ее снова сесть. – Либо мне плод вытравливать, либо ублюдка рожать, либо тебе с Вратиславом мириться, а мне – замуж за Миллесимо идти. Вот и выбирай, что лучше.
Она ожидала новой вспышки отцовского гнева, однако голос его звучал на удивление спокойно.
– Ты, гляжу, только до трех считать умеешь, – проговорил Алексей Григорьевич. – А жаль. Это ведь только в сказках у богатыря три дороги: направо пойти – убиту быти, налево пойти – коня потеряти, прямо пойти – обратной дороги не обрести. А на самом деле всегда есть четвертый путь.
– Это какой же? – подозрительно спросила Екатерина.
– Да такой. Прямо с этого места, с росстаней, воротиться назад – туда, откуда пустился в странствие. И сделать вид, что никуда не ездил вовсе. Кумекаешь?
Княжна Екатерина долго смотрела в темные, живые глаза отца, размышляя, правильно ли поняла его. Наверное, правильно, однако как же он себе это мыслит: сделать вид, будто ничего не произошло? Екатерина хмыкнула. Для нее давно были прозрачны отцовские намерения: толкнуть ее в постель к мальчишке-государю, которому после такой оказии ничего не останется, как жениться на соблазненной им девушке. И Екатерина, право слово, порою приходила в такую ярость от его заметной холодности и слишком явной увлеченности этой деревенщиной, Дашкой Воронихиной, что и впрямь была бы готова его соблазнить. Только вот в чем загвоздка: император нипочем не поверит, что был у нее первым. И правильно сделает. Никто на его месте не поверил бы!
– Ты, батюшка, небось позабыл, что с девкою бывает, когда она в первый раз к мужчине в постель ложится? – спросила она с той же грубой откровенностью, немыслимой в разговоре с отцом еще в самое недавнее время, но вполне естественной теперь.
Да, время недомолвок между ними прошло. Теперь они – как два воина, которые стоят спина к спине и прикрывают друг друга в битве. Полягут замертво – так оба. Ну а ежели повезет, то победят – тоже вдвоем.
– Девства потерянного мне ни за какие деньги не вернуть. А рисковать, надеясь, что он ничего не заметит, – глупо, глупее некуда. Чай, он уже стольких девок распочал, что не проведешь на мякине-то.
– На мякине, девонька, только старого воробья не проведешь, – усмехнулся отец. – А такого-то желторотого птенца – очень даже запросто. Напоить покрепче, а потом… сама знаешь, ночью все кошки серы. И ежели мужик видит поутру в своей постели бабенку, разве может он усомниться, что именно с нею всю-то ноченьку кохался-миловался, а не с какой-то другой?
– Надо еще, чтобы та, другая, согласилась, – протянула задумчиво Екатерина. – Чтоб согласилась и чтоб целая была, да еще чтоб глянулась ему.
– Чтоб целая и чтоб ему по нраву – такая у нас есть, ты ее хорошо знаешь, – деловито молвил князь. – А вот насчет согласия ее – тут дело посложнее будет. Не сомневаюсь, предложишь ей это – потом стонов-воплей не оберешься. Ни за какие коврижки не согласится! Кабы с ней так вышло, как со Стелькою: и отказу ни в чем не дает, и не помнит ничего, что было. Кабы нам такого зелья раздобыть, коим Стельку опаивали!
Екатерина так и вонзила зрачки в глаза отца. Откуда, откуда это ощущение, что он знает, кто опоил Стельку? Нет, это совесть нечистая будоражит, а отцу правды нипочем не узнать.
Однако не зря говорят про Алексея Григорьевича: в его-де голове хитрости на десятерых хватит. Если так… если так, надо воспользоваться случаем и прояснить один вопрос, который давно тревожит Екатерину. Вот уже целый месяц, а то и поболее – с того самого дня, как на лесной дороге на карету Долгоруких напали грабители.
Екатерина облизнула губы, набираясь храбрости.
– Батюшка… – Голос невинный-невинный, что у девицы-белицы[28]28
Белицы – послушницы, еще не ставшие настоящими монахинями, не принявшие схимы, то есть черного пострига. Такие назывались черницами.
[Закрыть]. – Батюшка, помнишь ли, мы как-то в деревне были на крестьянской свадьбе? Женихова брата звали, кажется, Ксаверий. Этакий веселый, разбитной мужик, борода будто у старика, даром что молодой еще. Не помнишь ли, где он теперь, что с ним?
– А что тебе до этого Ксаверия? – Чудится или в голосе отца появилась некоторая настороженность?
– Да так, – пожала плечами Екатерина. – Просто спрашиваю. Вроде был он большой забавник, весельчак, умел скидываться кем хочешь, что твой скоморох. Даже лесным разбойником однажды представлялся, если память мне не изменяет.
Алексей Григорьевич молча смотрел на дочь – не без удивления смотрел, надо признаться. Ишь ты какая глазастая девка уродилась, он и подумать не мог, что она разглядит Ксаверия и, главное, вспомнит, где его видела! Не учел этого Алексей Григорьевич, не подумал, что Катька могла мужика запомнить. Вот же чертова девка, а? Интересно знать, она тогда же догадалась, что разбойники отцом были посланы, или только теперь связала концы с концами? Должно быть, и сейчас она не вполне уверена, камушек на пробу закидывает, тонкий ледок дрожащей ножкой пробует. Запросто можно отпереться – мол, знать не знаю никакого Ксаверия, однако надо ли отпираться? Гораздо лучше, если отец и дочь Долгорукие перестанут играть друг с другом в прятки. Раз уж начали называть вещи своими именами – стоит продолжать.
– Дурак он, этот Ксаверий, – с усмешкой ляпнул Алексей Григорьевич. – Мог я его наградить, а вместо того получил наш разбойничек плетей. Мало, что тебя до смерти напугал, так еще и бедолагу Мавруху убил. Оно конечно, Бог шельму метит, а все ж не про нее пуля была отлита. Не про нее!
– Но ведь хорошо, что этак вышло, – не сдержала улыбки и Екатерина. – Иначе… иначе что бы мы теперь делали, а, батюшка?
– И то! – покачал он той самой головой, хитрости в которой, по слухам, хватало на десятерых. – Твоя правда, Катюша!
И заботливо помог дочери подняться, глядя на нее с прежней любовью и нежностью.
Да уж! Его дочь, воистину – его! Только ежели отцовой хитрости хватит на десятерых, то дочкиной – аж на чертову дюжину!








