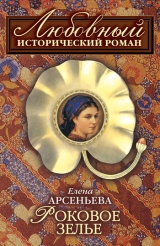
Текст книги "Роковое зелье"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Август 1729 года
– Катя, ты что?.. – начал было Алексей Григорьевич, но самоуверенная красавица только повела смеющимися глазами – и он замер, усмиренный.
Спору нет, князь Долгорукий был скор на расправу и умел с удовольствием ставить людей, даже самых близких, на место. Наедине с дочерью, пусть даже он ее и очень любил, князь не полез бы в карман ни за оплеухой, ни за грубым, уничижительным словом, однако в присутствии императора он обращался с Екатериной с не меньшей почтительностью, чем с самой великой княжной Натальей Алексеевной, как бы подавая пример венценосному юнцу. Сказать по правде, последнее время, когда далеко идущие намерения окончательно сложились в голове князя Долгорукого и он понял, какими путями можно приблизиться к желаемому – верховной власти, отец и наедине стал обращаться с дочерью иначе, стараясь не унижать ее и не грубить ей, а также со всем возможным старанием удерживался от рукоприкладства. Черт знает, если все так пойдет, как рассчитывает Алексей Григорьевич, если все сложится, не придется ли ему самому в ногах у Екатерины ползать, вымаливая прощение за каждый тычок, каждую оплеуху, каждое ехидное словцо? Лучше, чтобы таких грешков было поменьше, потому что нрав у доченьки такой же крутенький, как у батюшки. Сейчас ее прогневишь – как бы через год с головой не проститься!
Итак, старый князь смолчал. Не обмолвился ни словом и молодой Долгорукий, однако по другой причине. Сестру и отца он ненавидел (в его оправдание можно лишь сказать, что эта ненависть была порождением их ненависти и вынужденным ответом на нее), а потому страстно желал, чтобы Екатерина, которую Алексей Григорьевич старательно сводил с молодым императором – со всеми замашками опытной, прожженной сводни! – попала в дурацкое положение. Подобно всем высокородным гордячкам, она не выносила ни малейшей насмешки над собой, всякая ухмылка, пусть даже в сторону, казалась ей оскорблением ее достоинства. Что бы она там ни задумала с этим бродяжкою, будет очень забавно поглядеть, как она сядет в лужу.
Император Петр Алексеевич также не издал ни звука, поскольку в разговорах с княжной Екатериной не находил ни малейшего удовольствия. Вот наперегонки с ней скакать верхом – дело другое, всадница она отменная. А все прочее… Честно говоря, княжну Екатерину он не находил ни красивой, ни даже привлекательной. Его вообще раздражали точеные высокомерные красавицы. Именно такой была его прежняя невеста Мария Меншикова, по слухам, нашедшая свою смерть в далеком сибирском Березове. И этот городишко за тридевять земель, и судьба Меншиковых волновали молодого императора не просто мало, а вообще никак не волновали. Его неразвитый ум не способен был к длительному напряжению, и вспышки мудрости, прозорливости или просто трезвой разумности не только не просветляли его, но вызывали огромную усталость, вплоть до головной боли. Чудилось, состояние равнодушия и даже отупения, которые приходили им на смену, были для Петра спасением в том мире, в коем он вынужден находиться, – в мире непрерывного напряжения всех сил, в мире недоверия всем и каждому, в мире постоянной опасности. Петр не верил, не мог поверить, что на вершины богатства, власти его занесло навсегда. Каждое утро он просыпался с мыслью, что это закончится так же внезапно, как началось, и он никто, снова никто, забытый сын царевича, которого не пощадил, которого убил собственный отец…
Самыми лучшими минутами в жизни Петра были тихие утренние мгновения, когда он уже вполне проснулся, осознал, что в бездны ничтожества не сброшен, и, свернувшись клубком в своей роскошной постели, мог вполне насладиться покоем. Минуты эти были кратки, на императора обрушивалась жизнь дворца и двора – шумная, кричащая, слишком яркая, назойливая… А он вообще недолюбливал слишком громкие звуки, слишком яркие краски, слишком необычных или даже обладающих незаурядной внешностью людей – именно потому, что смутно чуял некую угрозу во всем, что слишком. И даже слишком красивых женщин не любил, за исключением тетушки своей Елизаветы Петровны, которая, с ее синими глазами и каштановыми волосами, с детских лет являлась для него идеалом гармонии. А вообще-то ему нравились русоволосые, сероглазые, с нежным румянцем, тонкие станом девушки с мягкими повадками и негромким голосом… Вроде вот той, которая сейчас спешила от дома Долгоруких в сопровождении горничной княжны Екатерины.
Конопатое смышленое личико субретки выражало сейчас крайнюю степень изумления, почти придурковатости. Глаза ошеломленно шныряли по лицам мужчин, руки изумленно всплескивали, а с губ срывались какие-то невразумительные словечки:
– Барин, вот диво-то!.. Диво дивное! Оне как рубаху сняли – а там… во какие! – И горничная описала руками впереди себя два внушительных полушария. – Святой истинный крест, не вру!
Петр ничего не понимал, но с удовольствием смотрел на незнакомую девушку в простеньком сарафанчике, перехваченном под высокой грудью. Одета просто, но на крестьянку не похожа. Сарафан в ту пору был отнюдь не только нарядом простонародья. Его носили и крестьянки, и женщины из небогатых дворянских семей, и в городском сословии, да и дочери княжеские, графские им не брезговали. Дело было только в качестве материи, из коих шили сарафан и рубашку. Этим и различалась одежда богатых и бедных.
Петр отметил, что сарафан незнакомой девушки сшит из хорошего голубого атласа с белой полосой посредине, шедшей сверху вниз и унизанной меленьким речным жемчугом. Из такого же жемчуга было ожерелье, в два ряда охватывающее стройную шею и спускавшееся на грудь, которая заметно волновалась под миткалевой сорочкой. Да и румянец, то взбегавший на щеки, то сменявшийся бледностью, показывал, что девушка очень взволнована.
Ее взгляд перебегал с одного лица на другое со странным выражением ожидания. Мельком улыбнулась она княжне Екатерине Алексеевне, которая уставилась на нее не то удивленно, не то насмешливо, а потом взглянула на загадочного испанского курьера, которому так и не было оказано никакой помощи, – и возмущенно вспыхнула.
– Да будьте же милосердны, ваше сиятельство, дядюшка! – воскликнула она. – Неужели вы хотите, чтобы этот человек умер у вашего порога? Где же добросердечие ваше?
– Дядюшка?! – возмущенно воскликнул старший Долгорукий. – Эт-то что еще за племянница у меня завелась? Да я таких племянниц по грошику в базарный день полсотни наберу! И ни одна пикнуть не посмеет, а ты… Кто такая?! Отчего языком бесчинно молотишь?
– Меня Дашей зовут, – уже спокойнее произнесла девушка. – Дарья Васильевна Воронихина.
Брови Алексея Григорьевича тоже взлетели чуть не выше лба.
– Данька? Дарья Воронихина?! Да ты не дочка ли Софьи… Сонечки? Ну конечно! Ее глаза! Как же я сразу не узнал?! Иван, взгляни, ты только взгляни, – возбужденно обратился князь Алексей к сыну, на миг забыв разделявшую их вражду и зависть. – Катя, посмотри!
Он всплескивал руками, так и этак поворачивал девушку, оглядывая еще пуще разрумянившееся лицо. Наконец взгляд его упал на императора, который с нескрываемым любопытством наблюдал за этой суматохой, и князь Алексей Григорьевич приложил руку к груди:
– Простите великодушно, ваше царское величество. Мать этой девицы была моей любимой троюродной сестрою. Сонечка выросла при мне, будучи много младше: я уже женился, а она к тому времени только входила в пору. Дочь ее – живой портрет своей матушки, видно, какой та была красавицей в свои года. Искали ей хорошего жениха с достатком, а она возьми да и убеги с каким-то… – Он взглянул на вспыхнувшую Дашу и оборвал себя: —…с тем, кто по сердцу пришелся. Отец у нее был мягок да жалостлив: единственная дочь, росла без матери, он все ей и спустил, а на мой бы характер такое – я бы с нее кожу живьем содрал!
Лицо у князя вдруг сделалось угрюмым, он метнул угрожающий взгляд на свою дочь… Княжна Екатерина вспыхнула, отвела глаза.
Внезапно раздался грозный рык, потом суматошный вопль, и общее внимание переметнулось от невесть откуда взявшейся Даши Воронихиной на Волчка, который отскочил от Хорхе и прыгал теперь вокруг Никодима Сажина.
Староста, о котором уже все успели забыть, пытался уйти со двора усадьбы, таща за руку заглядевшуюся на Дашу дочку, однако Волчок преграждал ему путь и еще норовил куснуть посильнее.
– Куда ж ты направился, голубчик? – весело спросил князь Иван Алексеевич. – Неужто не хочешь больше правды требовать с того, кто твою дочку сильничал?
Он захохотал, сестра его тоже не сдержала смеха. Никодим еще пуще насупился, Мавруха забегала лживыми глазами, а до Петра Алексеевича и князя Долгорукого только сейчас дошло то, что остальные уже давно сообразили.
Получается – что? Эта красавица и тот чумазый парнишка, которого Сажин обвинял во всех смертных грехах, – одно лицо?!
Они переглянулись, потом враз обернулись к Даше и уставились на нее:
– Ты… ты… это ты?!
Девушка кивнула смущенно:
– Ну да. Меня батюшка с матушкой Данькой звали. Говорили, что мне надо было мальчишкой родиться. Я в детстве забияка была – спасу нет, со мной даже Илья, старший брат, связываться боялся. Вот и назвалась Данькой, когда пошла родителей искать.
– Искать? – удивился Алексей Григорьевич, морщась от грозного лая Волчка, который нипочем не давал Сажину и его дочери удалиться хотя б на шаг. – А что с ними такое? Почему они на свадьбу дочери князя Василья Владимировича не приехали, там все Долгорукие собирались, и родственники, и свойственники, и седьмая вода на киселе? А Софья все же Василью Васильевичу, как и мне, троюродная сестра. Он долго злился, что за твоего отца вышла, да и все мы злились, да сколько можно? Порешили мы с ним предать забвенью старинные распри и помириться с Софьюшкой. Знаю, что ей было загодя приглашение отправлено. Неужто не получили?
– Получили, – угрюмо кивнула Даша. – И получили, и отправились в путь. Хотели меня с собой взять, да я накануне перекупалась, простыла, говорили, нельзя мне в такой долгий путь трогаться. Оставили дома. Брата Илью на хозяйстве, меня – за маленькими смотреть. До чего же сердце у меня болело, когда они уезжали, – передать не могу! Умоляла: «Матушка, родненькая, не езди, ради Христа!» Сон видела плохой – такой плохой и страшный… Не послушались они меня. Очень радовались, что его сиятельство Василий Васильевич про них наконец вспомнили, что с родней теперь помирятся, через столько-то лет. Поехали… Уже в последнюю минуту я упросила отца, чтобы Волчка с собой взял. Они уехали, а я места себе не находила. Прошло две недели – по моим подсчетам, они уже должны были быть в Москве, как бы медленно ни ехали, – вдруг снится мне сон – страшный-престрашный. Клубок змей… Вещим тот сон оказался! Поутру слышу: кто-то лает под моими окнами. Смотрю – Волчок! Весь ободранный, голодный, еле живой. Увидел меня, сел рядом и завыл… так завыл, как по покойнику воют. Я сразу поняла – беда. Волчок сутки спал, видно было, крепко досталось ему. А что стряслось – так не расскажет, не человек ведь, говорить не обучен. Зато как отлежался, очухался – опять начал выть да лаять, да вокруг дома метаться. Отбежит от крыльца и на меня глядит – пошли, мол, иди за мной! И в лес манит, вдаль. Долго мы с братом спорили да рядили, что делать. Он говорит: надо-де ждать. Я – ждать нельзя ни в коем случае, надобно идти на поиски. А на нем все хозяйство, тут как раз косьба-молотьба, ему продыху нет. И сам не может уехать, и меня не отпускает. Я взяла и…
Даша махнула рукой.
– Сбежала? – отчего-то особенно жадно спросила княжна Екатерина. – Неужто сбежала из дому?
– Что ж было делать? – доверчиво взглянула на нее Даша. – Взяла отцову старую одежку, в которой он ездил поля объезжать, косу остригла… – Глаза ее на миг заволокло слезами. – Коса у меня была такая, что ни в какую шапку не спрячешь.
– Косу! – ахнула Екатерина Алексеевна. – А не жаль было?
– Отца с матерью жальче, – ответила Даша с печальной улыбкой. – Коса – что коса! Коса вырастет, а нет, так и Бог с ней. А вот отца с матерью других Господь уже не даст.
Петр Алексеевич незаметно кивнул. Он всю жизнь жил с горькой обидой на судьбу за то, что отняла у него родителей, обездолила. Теперь отзвук той же обиды услышал в словах этой девушки и посмотрел на нее с еще большей симпатией. Хороша, ну до чего хороша! Только вот любопытно знать, куда она девала свои грудки, когда представлялась мальчишкою? Он сам видел ее в образе юнца и, сколько помнил, грудь у нее тогда была вполне ребячья, плоская. Небось потуже затянулась под рубахой какой-нибудь тряпкою. То-то дивилась горничная, когда Даша предстала перед ней в своем естественном виде. Грех, право слово, уродовать этакую стать!
И мысли рано созревшего, рано познавшего доступные женские прелести, рано развратившегося юнца незамедлительно обратились именно к этому, более всего в жизни интересующему его удовольствию. Теперь он смотрел на Дашу совсем иным взглядом – раздевающим. Он уже мысленно обладал ею и от мыслей этих возбудился так, что даже стоять сделалось неловко. Вот странно: ни прежняя невеста, Мария Меншикова, ни Екатерина Алексеевна, с которой его ненавязчиво, но неуклонно сводит князь Долгорукий (Петр был, может, и не больно умен, зато проницателен, особенно относительно человеческого корыстолюбия), не заставляли его томиться неодолимым плотским желанием. А тут – будто огнем обожгло!
Он неприметно усмехнулся. Еще не встретилось женщины, которая отказала бы императору, пусть он и неуклюжий юнец. Зато – венценосный юнец! Эта скромница тоже не откажет. Жаль, что нельзя получить ее прямо здесь.
Петр прикусил губу, пытаясь как-то успокоиться, в порыве желания забыв, что женщины, которые «не отказывали ему», были просто девки, добрые ко всем, готовые за подобающую плату отдаться любому и каждому, будь он государь или последний бродяга. К дамам из общества он не решался подступиться, опасаясь отказа, да и не имея ни навыка, ни охоты быть куртуазным кавалером, вот и таскался по сущим блядям, на которых даже не давал труда оглянуться, удовлетворив свое скороспелое желание.
Даша была другая. И глаз от нее не отвести, и смотреть невыносимо. А эти слезы, которые вдруг повисли на ее ресницах и покатились по щекам, едва не заставили Петра застонать от нового приступа похоти.
Слезы?.. Она плачет? Сквозь шум молодой, жаркой крови в ушах он услышал, как Даша рассказывает о своих скитаниях.
…Больше недели провела она в пути, когда наконец приблизилась к Лужкам. И тут Волчок, который неутомимо и упорно вел ее по проезжей дороге, метнулся в лес с таким жалобным воем, что у Даши сердце оборвалось. Она всю дорогу ожидала чего-то ужасного, а тут поняла, что ожидания сбылись.
Волчок привел ее на малую прогалину в сыром, чахлом перелеске, где царил вечный полумрак. Было нечто кладбищенское, беспросветно-унылое в этом месте, но оно не напоминало о вечном покое – напротив, казалось зловещим. Даже запах стоял здесь особенный – гнилостный, вызывающий тошноту.
Волчок улегся на каком-то холмике, сложенном из пластов дерна, и закрыл глаза. Даша подошла ближе… и упала рядом с псом, когда поняла, что это за холмик. Нет, не зря вспомнила она о кладбище! Вещее сердце подсказало: это могила, в которой нашли последний приют ее отец с матерью. И она замерла рядом с Волчком, почти обеспамятев от горя.
Даша не помнила, сколько времени пролежала так – не в силах ни размышлять, ни даже плакать. В чувство ее привела вечерняя сырость и страх – страх, который вдруг вкрался в душу, поселился там и завладел всеми ее помыслами. Вдобавок забеспокоился Волчок. Вцепился зубами и тащил, тащил с могилы… Еле двигаясь – все тело застыло и одеревенело, – чувствуя себя тоже мертвой, Даша отползла в чащу и замерла, вглядываясь в сгустившийся вечерний полумрак.
Это были два человека в крестьянской одежде: высокий, могучий – и тщедушный, низкорослый. Они вели в поводу коня, через круп которого был перекинут какой-то мешок. В мешке отчетливо вырисовывались очертания человеческого тела… Его сняли с коня и понесли к тому же холмику, на котором только что лежала Даша. Неизвестные разворошили дерн, опустили свою ношу в глубь земную, снова заложили ее и еще нарезали дерна. Холмик зримо вырос. Мужики – слова их были не слышны Даше, а лица мало различимы – сдернули шапки, перекрестились – а потом вдруг расхохотались, довольнехонько подталкивая друг друга, и после этого ушли, уводя за собой лошадь.
Еле живая от ужаса, Даша выбралась из своего укрытия. Волчок жался к ногам, поджимал хвост. Пса обуял ужас… от злодейства, которое свершилось недавно, от стойкого запаха смерти, который властвовал на поляне. Что же говорить о Даше?
Ей было страшно, невыразимо страшно! Но это был не тот темный, нерассуждающий ужас, который охватывает людей на кладбищах. Ей было страшно от человеческой лютости и кровожадности. И больше всего пугало предчувствие, что ужас, испытанный здесь, – это лишь начало кошмаров, которые ей предстоят. Так и произошло, когда она решила в одиночку выяснить, где и как были убиты ее родители, – и только чудом не погибла сама.
Октябрь 1728 года
Из донесений герцога де Лириа архиепископу Амиде. Конфиденциально
«Ваше преосвященство, вы, помнится, не поверили мне, когда я писал вам о здешних холодах. А между тем я уже приготовил мой дом к зиме. Снега пока нет, но морозы начались уже сильные, и дай Бог, чтобы король приказал мне выехать отсюда, прежде чем окончится зима, ведь на санях ехать лучше, чем как-нибудь иначе.
Вы приказывали мне поддерживать известие о предполагаемом супружестве нашего инфанта Дон Карлоса с великой княжной Натальей Алексеевной. Несмотря на то, что кажется просто невероятным быть такими доверчивыми, как русские (а при всей своей изощренной хитрости они верят в подобные сказки, словно дети), весь двор вполне проглотил наживку. Я заметил, что обращение со мною великой княжны, и прежде весьма обходительное, теперь можно назвать необычайно хорошим. Видно, что она бесконечно желает этого фантастического брака. Я,в свою очередь, буду поступать по вашей инструкции, с величайшим благоразумием, не навязываясь, не заходя далеко, не отталкивая прежде времени, пока нам не удастся вполне соблюсти здесь все наши интересы. Не буду говорить ни да, ни нет.
Великая княжна нездорова, редко выходит из комнаты, но ее гофмейстерина по имени Анна Крамер, расположение которой мне удалось купить с помощью некоторых подарков, передает, что все разговоры великой княжны вертятся на том, чтобы разузнать об обычаях и климате Испании. И если кто скажет, что Испания ей не понравится (она не хочет, чтобы об Испании говорили дурное, а только хорошее), она отвечает: все равно, пусть только приедет инфант Дон Карлос, тогда увидим. И так как ей очень нравится говорить о нашем дворе и вообще об Испании, то это и делают ее приближенные, желая доставить ей удовольствие. Увлеченность великой княжны мифической идеей брака с испанским принцем настолько сильна, что она даже поссорилась на этой почве с камердинером императора и своим дальним родственником господином Лопухиным.
Причина этой ссоры достаточно любопытна, излагаю вам эту историю.
Надобно вам сказать, что подземные ковы англичан не имеют себе предела. Они начали распространять весть, подобные которой фабрикуются редко! Барон Остерман буквально на днях сообщил мне: ходят слухи, будто ему поручено начать со мной переговоры относительно женитьбы царя на нашей инфанте, как будто ее брак с португальским принцем не состоялся! Это известие пришло к нему от графа Мафея, сардинского посла, и чрезвычайно встревожило французский двор. До тех пор пока Остерман не начал во всеуслышание смеяться над этой глупостью, повторяя: «Дай Бог, чтобы ее католическое величество родила дочь, чтобы отдать ее нашему императору!», подобные разговоры ходили и по хитрому и лукавому Кремлю. Некоторые, в числе их был и господин Лопухин, восприняли их всерьез. На беду, случилось так, что он оказался в покоях великой княжны, когда та вновь начала рассуждать о своих матримониальных планах. И господин Лопухин имел неосторожность сказать, что состояться может только лишь один союз с испанским двором: либо брак императора с инфантой, либо – великой княжны с Дон Карлосом, однако, поскольку брат обладает в этом случае преимуществами над сестрой как мужчина, к тому же речь идет о союзе государственном, то явно предпочтение будет отдано браку русского царя с испанской принцессой, а вовсе не замужеству великой княжны. Сам я при сем выпаде не присутствовал, однако Анна Крамер рассказывала, что голос государева камердинера звучал чуть ли не вызывающе.
Через несколько дней с моей помощью все разъяснилось, однако великая княжна затаила злобу против господина Лопухина и, по слухам, намерена довести случившееся до сведения своего брата-императора и просить взять себе другого камердинера, отказав этому от должности. Она очень обижена и положила себе непременно отомстить Лопухину. Вот каким невероятным спросом пользуются при русском дворе испанские принцы и принцессы!
Теперь великая княжна возобновила свой интерес к матримониальным намерениям Дон Карлоса и, по рассказам Анны Крамер, начала интересоваться тонкостями проведения некоторых католических служб, в частности мессы. Помнится, от кого-то я слышал, что один из предполагаемых браков великой княжны (мне проще называть ее принцессой) Елизаветы кончился ничем именно из-за необходимого условия перемены религии. Елизавета воспротивилась категорически. Однако, по всему видно, великая княжна Наталья Алексеевна ничуть не собирается быть столь категоричной. С ней вполне можно было бы договориться…
Это особенно обнадеживает в связи с поистине трагической новостью. Восемнадцать человек в Смоленске, на польской границе, сделались католиками. Об этом узнали в Москве; их тотчас же схватили и силой заставили обратиться к русской религии. Один из них был тверже других в католической вере; ему хотели отрубить голову, но наконец и его усмирили, подобно другим. Всех их сослали в Сибирь, где они останутся, пока не раскаются в своем отступничестве от русской религии и не возненавидят религию католическую.
Новость сию преподнес мне известный вам Хакоб Кейт, присовокупив, что насаждение католичества и даже унии в России может встретить на своем пути столько препятствий, что о них и помыслить-то страшно, не то что пытаться преодолевать. Он также говорил, что, учитывая пролютеранскую устремленность Феофана Прокоповича, гораздо реальнее видеть Россию в будущем страной протестантской.
Его рассуждения меня удручили до крайности, однако лишний раз привели к выводу, что миссионеров наших в России необходимо будет готовить с особенной тщательностью. Мы привыкли рассуждать о том, что трудно перечислить и представить себе все те ужасы, каким подвергается всякий миссионер, вступающий в борьбу с людьми и природой, чтобы проповедовать язычникам Евангелие, а того пуще – слово Игнатия Лойолы. Нет, мы никогда не отступали ни перед какими ужасами и угрозами. Точно так же, как храбрая армия выдвигает новые войска на место павших, так и иезуиты идут вперед под знаменем креста с изумительной храбростью и героизмом. Однако нельзя забывать, что никакие язычники не могут сравниться по окаменелости души и сознания с православными христианами, исповедующими греческую веру, и нам не следует забывать об этом…»
* * *
«Ваше преосвященство, за неимением курьера задержался с отправкою сего письма, однако оно и к лучшему, поскольку возникли другие новости.
Суть их в том, что великая княжна внезапно и очень опасно занемогла. Остерман, к которому она всегда питала великое доверие, весьма встревожен. Уменя создается впечатление, будто он скрывает истинное положение вещей: уверяет, что недомогание связано с обычным ухудшением грудной болезни Натальи Алексеевны, однако при этом намерен послать курьера к его величеству, который находится, по своему обыкновению, на псовой охоте. К сожалению, мне никак не удается встретиться с Анной Крамер, ибо общение великой княжны с посетителями прекращено, ее гофмейстерина находится при ней безотлучно, однако, судя по оживлению Блументроста, лейб-медика здешнего двора, положение этой молодой девушки и впрямь опасно. С другой стороны, Блументрост не кажется мне достаточным знатоком своего дела. Например, он и слыхом не слыхал, что в Испании, например, при лечении грудных болезней с успехом применяют женское молоко. А ведь от его усилий зависит жизнь сестры императора!
Умоляю вас помолиться за ее жизнь. Уверяю вас, ваше преосвященство, – это будет незаменимая потеря для России, несмотря на то, что речь идет всего лишь о женщине. Ее ум, рассудительность, благородство, наконец, все качества души – выше всякой похвалы. Иностранцы теряют в ней покровительницу.
Между прочим, ваше преосвященство, скоро исполнится год, как я при этом дворе, и поверьте, этот год стоит двух, проведенных в ином месте. Дай Бог, чтобы не прожить здесь еще года. Зима, кажется, еще и не думает подступать: вместо снега и мороза по утрам теперь непролазная грязь».








