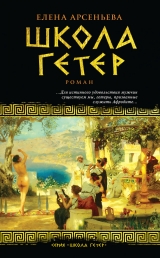
Текст книги "Школа гетер"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Однако с некоторых пор Александр отвлекся от прежних забав с эфебами и юношами. Теперь он не расставался с Кампаспой: взял ее в Афины и всюду водил с собой, даже когда навещал Апеллеса, так что она сделалась частой гостьей в доме афинского художника.
Царь и прекрасная фессалийка являлись обычно лишь вдвоем. Друг Александра, Птолемей, увлекся знаменитой афинской гетерой Таис и осыпал ее драгоценностями; Гефестион, второй близкий друг царя и, как поговаривали, его бывший любовник, с горя зачастил на скачки и там спускал свое состояние.
Охрану Александр оставлял на улице.
Рабов-мужчин и даже учеников Апеллеса не допускали прислуживать любимой наложнице царя, поэтому подавала еду и разливала вино Доркион, хотя, по всем правилам, это издавна было обязанностью хорошеньких мальчиков, которые умели, наклоняя кувшин над чашей, нежно прижиматься к пирующим. Обыкновенно Александр не имел ничего против того, чтобы огладить хорошенький задок и скользнуть ласкающей рукой под короткий хитон виночерпия. Но в присутствии Кампаспы взор царя следовал лишь за ней, а лицо принимало такое нежное и восхищенное выражение, что можно было не сомневаться в его страстной любви к фессалийской красавице. Именно это выражение хотел передать на своей картине Апеллес, однако он никак не мог его уловить и запечатлеть. Изводил папирус за папирусом, черкая угольком столь неистово, что мраморный пол пачкала черная крошка… Апеллес снова и снова ворчал, что разучился рисовать, и снова и снова приглашал царя посетить его дом – разумеется, с прекрасноликой Кампаспой!
После ухода гостей Апеллес собирал обрывки папируса и складывал их в сундук, открывать который было заказано и Доркион, и Персею с Ксетилохом. Никто из них и помыслить не мог ослушаться господина: ведь неудавшееся, искаженное изображение богоподобного Александра само по себе было святотатством, и они ужасно боялись осквернить себя прикосновением к этим кощунственным наброскам! То, что сходило с рук великому Апеллесу, может стать губительным для других.
Но однажды Доркион, которой было дозволено подметать пол в мастерской, не нарушая царившего там священного творческого беспорядка, нашла один скрутившийся в трубочку кусок папируса за сундуком и не сдержала любопытства: развернула его и взглянула…
Она тряслась от страха и готова была увидеть высокомерный профиль царя, однако вместо этого узрела прелестное лицо Кампаспы…
Доркион завистливо вздохнула, глядя на совершенные очертания носа, рта и томных век, и решила положить набросок в сундук, к портретам царя. Она подняла крышку, изо всех сил стараясь не заглядывать внутрь, но как-то так вышло… нечаянно… глаза скользнули…
Никаких неудачных набросков Александра! Ну, может быть, один или два. На всех остальных кусках папируса было изображение Кампаспы.
За стеной раздался голос Апеллеса, и Доркион поспешно захлопнула сундук. Она решила, что художник решил тайно нарисовать портрет Кампаспы для подарка царю, поэтому делает наброски украдкой. Но теперь, когда Апеллес назвал Кампаспу прекраснейшей из женщин Ойкумены, услышав странную дрожь в голосе возлюбленного, Доркион встревожилась…
Конечно-конечно, Апеллес был великим ценителем женской красоты во всех ее проявлениях, ему позировали многие афинские красавицы (обычно гетеры или флейтистки, потому что не всякий супруг позволил бы своей жене и дочери посещать мастерскую художника, будь это даже великий Апеллес!), но ни разу Доркион не слышала этой страстной, почти мучительной дрожи в его голосе, когда он упоминал какое-то женское имя!
Она непрестанно думала об этом. Ночью, когда Апеллес уснул, Доркион сползла с его ложа и отправилась в свою каморку за стенкой. Художник предпочитал спать один, но Доркион всегда должна быть поблизости, чтобы в любой миг прибежать на зов его проснувшейся плоти.
Однако на сей раз Доркион не зашла к свою каморку. Воровато оглянувшись на бессильно раскинувшегося любовника, взяла маленькую бронзовую масляную лампу и, прикрывая пламя ладонью, неслышно прокралась в мастерскую.
Там поставила светильник на пол, снова открыла сундук и принялась вынимать рисунок за рисунком.
Кампаспа, опять Кампаспа, Кампаспа вновь и вновь!
Ее лицо, ее глаза, ее улыбка, ее склоненная голова, ее стан, очертания которого чуть сквозят сквозь легкий белый хитон и нарядный гиматий… А вот эти очертания совсем даже не сквозят, а прорисованы четко и откровенно, с плотоядной ненасытностью порнографа!
Доркион мигом вспомнила, как Апеллес рисовал ее нагой, заставляя принимать самые причудливые позы. Эти рисунки необычайно его возбуждали. Когда у Доркион начинались ее лунные нечистые дни и художник, который не мог обходиться без совокуплений ни дня, брал себе на ложе рабыню или наемную шлюху, он, словно ему было мало владеть одной женщиной, раскладывал вокруг ложа изображения нагой Доркион и смотрел на них во время любодейства.
Почему она раньше думала, что всегда, всю жизнь будет владеть его мыслями, сердцем и похотью?! Почему не насторожилась, когда старая стряпуха, помнившая еще отца Апеллеса и прожившая в афинском доме художника много лет, отлично знавшая все его привычки и пристрастия, бормотала себе под нос:
– Ох, что-то зажилась, зажилась эта девчонка в нашем доме! Сроду такого не было, чтобы одна женщина владела господином так долго! Ишь, нос задрала, держится словно госпожа! А сама кто? Корабельная шлюха. Драли ее в море кто ни попадя, а теперь, ишь, господин ее до себя возвысил! Любимая наложница! А что он в ней нашел?! Ни тела, ни лица, ни помять, ни посмотреть! Словно обвела его, опутала! Ничего, скоро это кончится! Скоро, скоро, помяните мое слово!
Доркион казалось, что старуха просто обуреваема самой обычной завистью увядшей уродины к ней, молодой красавице. Но разве она красавица? Здесь, в Афинах, красивыми считаются высокие, статные, дебелые, пышногрудые, широкобедрые, белокожие, золотоволосые и голубоглазые женщины. Доркион, конечно, тоже не маленькая: высокая и длинноногая, как олимпийский бегун, однако ни золотых волос, ни голубых глаз…
– Я не ищу красоту, которая привычна всем, – не раз говорил Апеллес. – Я ищу красоту, которая ранит мужское воображение, будто накрепко засевшая в теле стрела: и мучает, и саднит, и вызывает жар, а извлечь стрелу невозможно!
Он уверял, что Доркион засела в его сердце, словно стрела, которую он не может и не хочет вырвать. Но что же теперь… Что значит лик Кампаспы на папирусах? Что значат очертания ее тела, которые изображены с такой сокрушительной, горячей мужской жадностью? В каждой линии Доркион видела страсть, которая двигала рукой Апеллеса, жажду обладания, которая волновала его чресла, – и при этом восхищение, смирение перед красотой, которое заставляло его снова и снова рисовать руку Кампаспы, ее пальцы с длинными, изящными, миндалевидными ногтями… Ах, как горячо завидовала им Доркион, ногти которой были всегда слишком коротки (она украдкой грызла их!) и некрасивы…
Что все это значит? Другая страсть вытеснила страсть Апеллеса к Доркион, другая стрела застряла в сердце художника, а первую он вырвал?! Раньше не мог и не хотел, теперь – захотел и смог…
Апеллес ее больше не любит, внезапно осознала Доркион. Она ему больше не нужна! Он любит другую и хочет другую, а Доркион владеет лишь потому, что не может владеть Кампаспой! Вот что значит то странное, как бы отрешенное выражение, которое стало появляться на его лице во время страсти, вот что значит неразборчивый, словно бы задыхающийся шепот, который срывается с его губ на пике наслаждения! Он обладает Доркион, но видит Кампаспу. Он выдыхает имя Кампаспы, блаженно изливая семя в лоно Доркион! И наверное – о, наверное! – у него хватило бы бесстыдства и жестокости украсить ложе изображениями Кампаспы, если бы она не была наложницей царя и если бы Апеллес не боялся неистового гнева Александра, который, конечно, не помилует даже своего любимого художника, если проведает о том, какое вожделение тот испытывает к фессалийской красавице!
«Но как мог Апеллес быть столь безрассуден?! – с внезапным приступом ужаса подумала Доркион. – Ведь любой, кто только взглянет на эти наброски, сразу поймет, что он обуреваем страстью к царской наложнице!»
О нет, он не безрассуден. Он просто самоуверен. Он убежден, что его секрет надежно сохранен в этом незапертом сундуке, под охраной преданных ему Персея и Ксетилоха и обожающей его Доркион.
Преданных ему?.. Персей и Ксетилох очень горды тем, что обучаются у великого Апеллеса, однако между собой злословят о том, что господин слишком уж высоко себя ценит, слишком гордится собой. Считает себя даже выше великого Аполлодора Афинского, первого скиографа, то есть тенеписца, мастера изображать полутона, любит унижать учеников и даже близко не подпускает их к настоящей работе. Ну сколько можно растирать охру и кадмий?! На это годится любой ремесленник, у которого нет никаких способностей к рисованию!
Доркион не раз слышала такие разговоры, но ничего не передавала Апеллесу, боясь его огорчить. А сам он ни о чем не подозревал. Где ему заподозрить – при его-то самоуверенности?! И, конечно, ему и в голову не придет, что Доркион, которая обязана ему жизнью, которая обожает его и ежеминутно готова целовать пыль под его ногами в знак своей благодарности, – что эта маленькая косуля может испытывать жестокую ревность, которая мутит ей голову, заставляет терять рассудок и разрывает сердце!
Девушка прижала руки к груди, глуша неистовую боль, и бросилась вон из мастерской. Ей хотелось накинуться на Апеллеса с кулаками, ей хотелось кричать, ей хотелось умереть!
Выскочила из покоев и кинулась к водоему.
Прыгнуть туда, нырнуть – и не вынырнуть! Утопить эту боль!
Она вообразила свое бездыханное тело, которое будет качаться на волнах, свои наполненные водой глаза, свои колышущиеся, словно водоросли, волосы, свои безжизненные губы…
«Безумная! – крикнет Апеллес. – Что ты наделала?! Как мне теперь жить без тебя?!»
Воображаемое горе Апеллеса на миг доставило девушке такое острое наслаждение, что Доркион уже ничего так не желала, как только причинить ему это горе. Не раздумывая, она бросилась в воду, нырнула – и вдруг почувствовала, что рядом упало что-то тяжелое.
Кто-то еще прыгнул в купальню!
Неужели Апеллесу не спалось, и он услышал, как Доркион куда-то отправилась? Неужели видел, как она рассматривает портреты Кампаспы, понял, какое отчаяние ею завладело, догадался, что девушка решила умереть, – и бросился ее спасать?!
Так, значит, она дорога Апеллесу по-прежнему? И портреты Кампаспы – это всего лишь рисунки и ничего больше?!
Обуянная счастьем, Доркион вынырнула и обняла плескавшегося рядом мужчину, прижалась к его губам, обвила всем телом, с восторгом ощутила, как он стремительно совокупился с ней… Но немедленно осознала, что у нее под руками не широкие плечи и мускулистое тело Апеллеса, а худой юношеский стан, и руки не те, и губы не те, и в ее лоно вторгся не мощный, напористый мужской орган, а какой-то недоросток, неумелых движений которого она почти не ощущает, и это вовсе не Апеллес – это Ксетилох!
Доркион с силой рванулась из сжимавших ее объятий, отплыла подальше и с ненавистью уставилась на обидчика:
– Да как ты смел?! Чтоб тебя пожрали ламии, чтоб эринии, дочери тьмы, истерзали тебя! Чтоб грифы клевали твою вонючую печень! Чтоб ты…
– Замолчи! – взвизгнул оскорбленный до глубины души Ксетилох. – Я думал, ты хочешь меня! Ну кто, кто не войдет в настежь распахнутую дверь? Кто не глотнет из протянутого кубка?! Ты так на меня набросилась, так целовала меня, что я чуть с ума не сошел! Еще подумал, что зря господин сетует, мол, Доркион в постели холодна и неподвижна, а в обхождении груба и нежности не понимает, и хоть ее лоно по-прежнему доставляет ему удовольствие, но подлинное наслаждение он познает только у гетер, которые отдаются, как шлюхи, и в то же время умеют вести себя, как самые изысканные и высокородные госпожи!
– Ты врешь! – взвизгнула Доркион вне себя от обиды. – Ты все врешь! Апеллес не мог такое сказать!
– Говорил, и не раз, – буркнул Ксетилох, выбираясь из водоема. – А еще говорил, что это не удивительно: ведь гетеры обучались своему ремеслу в Коринфской школе, а ты – как приблудная дворняжка, которая только и умеет, что задирать хвост.
– Не верю! – бушевала Доркион, яростно ударяя по воде кулаками и всплескивая фонтаны брызг. – Я сейчас пойду и спрошу его! И расскажу, что это от тебя я услышала все эти мерзости!
– Ага, спроси, – ухмыльнулся Ксетилох. – Конечно, спроси! И не забудь сообщить, где именно и когда именно ты услышала от меня все эти мерзости! Посмотрим, не утопит ли господин тебя в этом же водоеме.
– И тебя тоже! – прошипела Доркион.
– А тебе от этого будет легче, маленькая глупая косуля? – насмешливо спросил Ксетилох. – Однако надеюсь, что ты, при всей твоей глупости, все же не ринешься губить меня, ибо это будет означать, что ты погубишь и себя! Ну ладно, иди и ложись спать, пока кто-нибудь не увидел нас здесь.
Он исчез в темноте, а Доркион снова погрузилась в воду с головой и скорчилась в комок на дне.
Жить хотелось еще меньше, чем в тот момент, когда она заглянула в проклятущий сундук, набитый изображениями омерзительно красивой Кампаспы.
Значит, наложница Александра вовсе не вытеснила Доркион из сердца Апеллеса, а заняла опустевшее место. Художник давно разлюбил эту глупую маленькую косулю, и только привычка беспрестанно изливать семя в первое попавшееся лоно заставляет его держать при себе безумно влюбленную рабыню… Вдобавок отлично выдрессированную, редкостно терпеливую натурщицу.
Но теперь терпение Доркион кончилось. Кончилось! Сейчас она откроет рот и впустит воду в свою изголодавшуюся по воздуху грудь. И тогда прекратятся все мучения! Она вновь вообразила свое бездыханное тело, которое будет качаться на волнах, свои наполненные водой глаза, свои колышущиеся, словно водоросли, волосы, свои безжизненные губы…
«Безумная! – крикнет Апеллес. – Что она наделала?! Как мне теперь купаться в этом водоеме?! Она осквернила его! Водоем придется чистить и освящать!»
Доркион вырвалась на поверхность, жадно глотнула воздух.
«О-то-мстить… О-то-мстить…» – стучала кровь в висках.
Доркион издала горькое рыдание и отерла глаза. Ох, не в добрый час нашла она тот обрывок папируса!
Папирус… Папирус… Да, папирус!
Теперь она знала, как отомстит им всем: Апеллесу, разлюбившему ее, Кампаспе, из-за которой он разлюбил Доркион, – и заодно Ксетилоху, который зачем-то открыл ей глаза.
Ей поможет папирус.
Медленно, с трудом опираясь на ослабевшие руки, Доркион выбралась из водоема; медленно, слабо шевеля пальцами, отжала волосы, стащила с себя мокрый хитон; медленно, еле передвигая ноги, побрела в дом, задыхаясь от слез и приказывая себе не умереть с горя.
Теперь она во что бы то ни стало хотела дожить до утра!
… Доркион прокралась в свою каморку, взяла хламиду, завернулась с головой и проскользнула в мастерскую. Маленький язычок пламени все еще рассеивал тьму около заветного сундука Апеллеса…
Спустя несколько мгновений Доркион задула светильник, сунула его в укромный угол, чтобы не возвращаться в опочивальню и невзначай не разбудить Апеллеса, – и неслышно пробралась в поварню. Здесь она прихватила небольшой и острый нож, спрятала его в складках своей одежды, а потом выбралась из дома, перебравшись через ограду в самом дальнем углу сада.
Шаги ночной стражи гулко отдавались в сонной тишине, и Доркион подождала, пока они не отдалились. Но полночный Сейриос, чье имя означает «ярко горящий», стоял в зените, подмигивая Доркион, словно заботливо напоминал ей: надо спешить! – и она бросилась бежать со всех ног.
Апеллес жил в деме [22]22
Дем – квартал, район, округ в городах-полисах античной Греции.
[Закрыть]Гиппий Колонос – самом аристократическом во всех Афинах. Но Доркион спешила сейчас к Восточному Керамику. Собственно, Керамик испокон веков был кварталом гончаров, однако на восток от него с недавних пор начали селиться мастера по изготовлению папируса, переписчики текстов и изготовители ларцов и футляров для свитков.
Доркион не зря провела это время в доме Апеллеса. Среди прочего она знала, что в былые времена творения человеческой мысли, стихи, поэмы, пьесы, изречения мудрецов, рецепты приготовления целебных средств, описания событий, случившихся в прошлом, и все прочее записывали на свинцовых, восковых и глиняных табличках. Но глина была хрупкой и в любое мгновение могла превратиться в черепки, воск таял на солнце, а свинец был очень тяжел и стоил слишком дорого. Теперь только ворожеи писали на свинцовых табличках смертельные заклятия и посвящали их злобным богам подземного мира, украдкой подбрасывая в общие придорожные могилы, куда сваливали тела умерших рабов, бродяг, преступников и павший от болезней скот.
Ученые люди и любители чтения предпочитали папирус, и в Восточном Керамике возникло несколько мастерских по его изготовлению.
Это было весьма трудоемкое производство! Сначала с помощью острой иглы стебель тростника делили на длинные и широкие волокна. Самые лучшие извлекали из сердцевины стебля, из них делали папирус первого сорта.
Волокна склеивали в листы на доске, смоченной водой, в которую подмешивали речной ил. Нильский ил считался лучшим клеем, его привозили в Афины высушенным, в травяных мешках. Чтобы склеить волокна, их укладывали на доску рядом, ровным слоем, затем – крест-накрест – клали второй слой. Получившийся влажный лист отправляли под пресс, отжимали, сушили на солнце, отбивали молотком, разглаживали слоновьим бивнем или большой раковиной – и потом обычным уксусно-мучным клеем скрепляли с другим листом, постепенно собирая целый енграфос – свиток. В нем было не больше двадцати листов. Свиток наматывали на особую палку с загнутыми резными концами, которую называли омфалос енграфос – пуп свитка. На одном конце омфалоса писали название записанного в енграфосе сочинения – чтобы легче было найти его в библиотеке.
Первосортный папирус забирали храмовые переписчики теологических или философских сочинений. На папирусе второго сорта записывали тексты для чтения; также на нем делали наброски художники, писали письма и вели домовые записи богатые люди (те, кто победнее или побережливее, по-прежнему предпочитали глиняные или восковые таблички). Последний, наихудший сорт папируса, который изготавливали из жестких волокон, находящихся совсем далеко от сердцевины тростникового стебля, назывался рыночным: в него заворачивали самые дорогие и ценные товары; для прочих годились большие листья растений или вообще трава.
Одним из наиболее известных изготовителей свитков в Афинах считался Архий, сын Салмокиса Грания. При этом он занимался также переписыванием текстов для многочисленных заказчиков. Их было столько, что Архий открыл целую мастерскую и брал туда на работу лучших каллиграфов Эллады.
Они с рассвета до заката выводили на папирусе буквы камышовой тростинкой со срезанным наискось концом. Тростинка называлась стилосом. Рядом с каждым переписчиком стояли чернильные порошки и деревянная палитра с углублениями, чтобы разводить и смешивать краски. Хоть текст писали черными чернилами, но заголовки выделяли красным цветом.
Апеллес был одним из постоянных заказчиков Архия. Он хотел создать одну из самых больших частных библиотек в Афинах, и чуть ли не каждый день ему приносили из Восточного Керамика новые и новые ларцы со свежепереписанными свитками.
Царь Александр, учителем которого был сам Аристотель, очень любил читать. Он высоко ценил Пиндара, Стесихора, Филоксена, Телеста. Его любимым автором был Гомер, и царь уверял, что знает наизусть всю «Илиаду». Доркион сама слышала, как он не раз декламировал отрывки из этой великой поэмы. Она очень боялась однажды услышать тот монолог, который читал ей отец: боялась окунуться в мучительные воспоминания, – но Александр, на ее счастье, предпочитал героические фрагменты.
Царская походная библиотека была довольно тяжеловесной, однако Александр не мог устоять перед искушением пополнить ее новыми и новыми экземплярами. Среди собрания Апеллеса он наткнулся на антологию стихов «Девяти лириков» [23]23
Девять лучших мелических, то есть лирических, поэтов античной Греции, еще в описываемое время считавшихся классиками: Алкей, Ивик, Сафо, Анакреонт, Алкман, Стесихор, Стимонид, Пиндар, Вакхилид.
[Закрыть]и пожелал иметь ее у себя. Само собой, Апеллес был готов отдать царю собственный свиток, но Александр попросил всего лишь сделать для него копию. Апеллес обратился к своему доброму знакомому Архию. Свиток для царя следовало забрать сегодня.
Чаще всего относил и забирал заказы художника Ксетилох, но и Доркион приходилось бывать в мастерской Архия. Впрочем, она старалась избегать этого, потому что Хэйдес, двоюродный брат Архия, его помощник и главный склейщик свитков, донимал ее самыми недвусмысленными приставаниями. Однажды самонадеянный фиванец – Хэйдес был родом из Фив и перебрался в Афины по просьбе Архия – просил Апеллеса продать ему девушку и предлагал хорошую цену. Одновременно – и это не лезло ни в какие ворота! – Хэйдес послал известную афинскую сводню Ноксу подкупить Доркион и уговорить ее тайно встретиться с ним.
Доркион прогнала Ноксу взашей и нажаловалась возлюбленному. Это произошло примерно спустя месяц после того, как девушка появилась в доме художника, и страсть Апеллеса к ней тогда пылала огнем. Однако он не хотел ссориться с Архием из-за наглости его двоюродного брата, поэтому не стал устраивать скандал и отказал Хэйдесу весьма вежливо, хоть и непреклонно. Тем не менее бесцеремонность этого фиванца, осмелившегося протянуть руку к его, великого Апеллеса, собственности, задела его, и он решил поумерить желание Хэйдеса соблазнить Доркион.
Однажды ночью какие-то подвыпившие молодчики подстерегли склейщика в укромном закоулке и крепко избили его, не обмолвившись ни словом о причине. Хэйдесу показалось, что в одном из нападавших он узнал Ксетилоха, однако, когда началось разбирательство с властями, Апеллес заверил, что его ученик в это время был болен и лежал в постели.
Архий тоже не пожелал ссориться со своим лучшим заказчиком, поэтому обидчиков Хэйдеса искать перестали, однако и он, и Ксетилох при встрече косились друг на друга с неприкрытой ненавистью.
Доркион это никак не волновало, однако сейчас вспомнилось – очень кстати! Ведь они оба станут орудиями ее мести…
Быстроногая, проворная, она скоро оказалась на узкой улочке Лампы, где стоял дом, в котором находилась папирусная мастерская. Как водится, мастерская была облеплена со всех сторон возникавшими в разное время пристройками для жилья. В одной из них поселился Хэйдес.
Доркион вошла во двор и постояла, прислушиваясь к окружающим звукам. Ходили слухи, будто Хэйдес – великий женолюб, поэтому вполне возможно, что сейчас у него в постели окажется какая-нибудь девка. Тогда весь замысел Доркион рухнет. Как же она сразу об этом не подумала?! Но теперь отступать поздно.
Доркион зажмурилась, призывая на помощь Афродиту, и замерла, вслушиваясь в ночные голоса. Она пыталась уловить какой-нибудь ободряющий отклик, знак, поданный богиней, однако где-то далеко-далеко лишь хохотала сова Афины, а соловьи Афродиты молчали. Ну что же… В самом деле, отступать поздно, другого такого случая отомстить всем подряд: Апеллесу, Ксетилоху, а заодно и Хэйдесу – может не представиться никогда.
Она осторожно заглянула в окно – и вскоре разглядела привыкшими к темноте глазами убогое ложе Хэйдеса. Он спал один, спасибо Афродите, все же богиня не оставляет Доркион своим попечением!
Через мгновение девушка была в каморке. Сбросила гиматий, надетый прямо на голое тело, и скользнула под покрывало к Хэйдесу.
Ей пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы прильнуть к нему всем телом и прижаться губами к губам. Его дремлющий фаллос восстал мгновенно… Возможно, Хэйдесу снился непристойный сон, вот он и решил, что сон продолжается. Не просыпаясь, он целовал Доркион и пытался внедриться меж ее бедер. Доркион раздвинула ноги, впуская Хэйдеса в свою жаркую глубину. Ей было больно – она не хотела этого соития, – однако она все же терпела, но, лишь только Хэйдес начал по-хозяйски устраиваться в ее лоне, Доркион с силой вырвалась из-под его тела и, вскочив коленями на топчан, приткнула острие ножа к шее Хэйдеса.
Тот мигом проснулся и в ужасе уставился на девушку:
– Доркион?! Что… почему… О боги, какая жестокость! Лучше бы ты убила меня во сне, чем лишить этого счастья! У тебя нет сердца… так издеваться над мужчиной! Если ты хочешь перерезать мне горло, сделай это, но сначала даруй мне мгновение любви! Доркион, я готов умереть, но только в твоих объятиях!
– Значит, ты готов на все, чтобы заполучить меня? – тихо, дразняще шепнула девушка, не отнимая острия ножа от яремной вены Хэйдеса, а свободной рукой легонько поглаживая его напряженные чресла.
– Клянусь, что это так! – простонал он, содрогаясь, словно умирающий в агонии.
– Я хочу продать себя по дорогой цене, – медленно произнесла Доркион.
– Я отдам все, что у меня есть! – выпалил Хэйдес. – Я копил деньги, чтобы купить себе дом взамен этой жалкой хижины, но отдам тебе их все!
– Мне не нужны деньги, – усмехнулась она. – Мне нужна только одна услуга.
– Я готов служить тебе, как раб! Только убери нож и иди ко мне!
– Поклянись жизнью, что ты сделаешь то, о чем я прошу.
– Клянусь, клянусь… – задыхаясь, бормотал Хэйдес, совершенно потерявший рассудок. – Все, чем захочешь, клянусь! Говори!
Доркион сказала, что ей было нужно.
– Но работа уже готова, – удивился Хэйдес. – Как же я смогу?..
– Не сможешь так не сможешь, – покладисто кивнула Доркион и сделала попытку отодвинуться.
Хэйдес успел схватить ее за руку:
– Да, я это сделаю, я все ради тебя сделаю! Только не уходи!
Доркион заставила его принести священные нерушимые клятвы, потом отбросила нож и покорно простерлась перед Хэйдесом, готовая сдержать и свое слово.
Он опустился на колени меж ее раздвинутых ног и жадно оглядывал тело, которое так долго вожделел.
Доркион смотрела на него с холодным любопытством, не ощущая ни стыда, ни раскаяния, ни страха. Первый мужчина познал ее силой. Второй взял с любовью. Третий… Третий заплатил ей клятвой совершить преступление.
Вдруг Доркион ощутила необычайное возбуждение. Сознание того, что она продает Хэйдесу свое тело, как портовая шлюха, что мужчина заплатит ей ту цену, которую она назначила, внезапно разбудило ее дремлющую доселе плоть. Лоно ее с готовностью раскрылось для Хэйдеса и приняло его во влажные, жаркие глубины. Доркион оплела его тело руками и ногами, привлекла к себе – и отозвалась всем существом своим, застонала, завыла от внезапно нахлынувшего наслаждения, которого не смог доставить ей Апеллес ни нежностью, ни грубой страстью.
Наконец Хэйдес, насытившись, перекатился на спину, тихонько смеясь от переполнявшего его восторга. Доркион перевела дыхание, удовлетворенно провела по своему насытившемуся телу руками и поднялась.
Взяла свою одежду. Не забыла подобрать нож.
– Смотри, ты обещал, – сказала равнодушно.
– Я все сделаю, – сказал Хэйдес. – Ты еще придешь ко мне?
– Посмотрим, – пожала она плечами. – Посмотрим, как ты сдержишь свою клятву.
И, завернувшись поплотнее, Доркион торопливо пошла прочь. Вся ее женская суть еще хранила память о только что испытанном наслаждении, но у нее и мысли не было вернуться к Хэйдесу вновь. Впервые догадка, что женщина в силах купить своим телом у мужчины то, что ей нужно, заставить его исполнить любое ее желание, осенила Доркион. Оказывается, женщина может быть не только жертвой грубой похоти или Эроса. Она способна приобрести власть над мужчиной, ибо в миг желания его мысли находятся не в голове – они все сосредоточены на уровне чресел!
Доркион шла быстро и успела вернуться еще до того, как забрезжил рассвет. Первым делом она спустилась в водоем и смыла с себя следы совокупления. Потом на цыпочках вернулась в свою каморку и вытянулась на подстилке, улыбаясь в темноту и мечтая о том, как сейчас уснет.
– Иди сюда! – раздался сонный голос Апеллеса, и Доркион, подавив зевоту, кинулась на зов, обняла своего возлюбленного господина и привычно раскрылась ему… привычно, покорно и равнодушно, не испытывая того наслаждения, которое только что продавала Хэйдесу.
– …Дороги вашей великой Эллады ужасны! – горячо говорил Александр. – Эллинам гораздо легче путешествовать в заморские страны, чем по своей земле. Вы предпочитаете выдалбливать в камне колеи, а не выравнивать путь. Моя конница легко мчалась по этим колеям, но повозки тащились еле-еле. Я хотел бы все устроить так, как в Персии: отличные, ровные дороги, а через каждые сто сорок стадиев [24]24
Стадий Древней Греции – 178,6 м. То есть расстояние, о котором говорится здесь, составляет около 25 километров.
[Закрыть]размещена почтовая станция. Верховые посыльные останавливаются здесь, передают почту следующей смене, которая готова отправиться в путь даже ночью. Поэтому они летят, как стрелы! От Суз до Эфеса – а ведь это четырнадцать тысяч стадий! – послания доставляют всего за шесть с половиной суток! [25]25
То есть преодолевают 2500 км за 150 часов беспрерывной езды.
[Закрыть]
– Ты прав, великий царь, – со вздохом согласился Апеллес. – Нам, чтобы отправить письмо, нужно договориться с каким-то одним человеком, который возьмет на себя труд пешком добраться до места… Иногда это длится месяцами! В этом смысле персы нас опередили! И в другом тоже!
– Ты имеешь в виду качество дорог? – поднял брови Александр.
– Нет, я не имею в виду качество дорог, – ухмыльнулся Апеллес. – Известно ли тебе, что персы вознаграждают тех, кто изобрел новый вид наслаждения?
Александр усмехнулся:
– Я слышал об этом. А также слышал, что награды получают мужчины, хотя честь изобретений принадлежит женщинам. Впрочем, эллинам не на что жаловаться: ведь у вас есть знаменитая Коринфская школа гетер, где учат всем тайнам обольщения. Мой друг Птолемей окончательно потерял голову от одной из ее бывших воспитанниц, афинянки Таис.
Доркион бросила украдкой взгляд на своего господина. По словам Ксетилоха, он высоко ценит гетер… Однако глаза художника были прикованы к лицу Кампаспы, и ревность с новой силой ударила Доркион в сердце.
Ничего, потерпеть осталось недолго! Совсем скоро свершится ее отмщение. Ей не жаль никого. Она будет только счастлива видеть их мучения… А то, что Александр подвергнет их мучениям, – в этом не может быть никаких сомнений! О жестокости царя говорят его разноцветные глаза: один голубой, другой карий! Александр на своем пути убил уже стольких людей… Афиняне, чудом уцелевшие в битве при Херонее, рассказывали, что Буцефал, любимый конь македонца, ступал по бабки [26]26
Бабки – нижние части ног лошади, находятся над копытами.
[Закрыть]в пролитой его хозяином крови… И вот сегодня стены этого дома тоже будут залиты кровью! Александр не помилует Апеллеса, несмотря на давнюю дружбу. Расположение царей – ветер, который может мягко петь среди деревьев, но может вырвать их с корнем. То же произойдет и с Апеллесом! Он это заслужил, и совести Доркион совершенно незачем жалить ее, подобно злобной осе, забравшейся под одежду!








