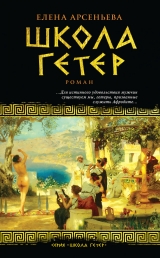
Текст книги "Школа гетер"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Пирей
Постоялый двор в Пирее – портовом городишке на берегу Эгейского моря, морских воротах Афин – всегда был переполнен. Постоялый двор назывался лесха. Раньше, только что построенная, лесха выглядела как обычный дом: внутри просторный общий зал, снаружи – очаг под навесом, – но со временем к ней лепились все новые и новые пристройки, в том числе загородки для купален, так что теперь она имела весьма причудливый вид, и народу здесь с каждым годом появлялось все больше. Частенько случалось, что в лесхе находили приют не только прибывшие в Пирей купцы или странники, но и местные жители, у которых вошло в привычку проводить здесь дружеские пирушки. На столичный манер их называли симпосиями, хотя, чего скрывать, это были самые обычные попойки в шумной компании. Такие пирейские «симпосии» стали весьма популярны в округе, и, хотя в Афинах они были публично презираемы и осуждаемы, все же находились афиняне, которые не ленились потратить несколько часов пути, отделявшие город от порта, ради веселого времяпрепровождения. В лесхе всегда можно было забыть про жену, детей и прочих домочадцев и вновь ощутить себя свободным человеком, можно было вволю поболтать, узнать самые свежие новости от мореходов и по дешевке выпить вина какого-нибудь нового сорта, которое потом в Афинах пойдет втридорога, да еще и не всегда его отыщешь, а вместо него тебе подадут какую-нибудь повторную выжимку, которая только для рабов годится!.
К слову сказать, рынок рабов был здесь также хорош – опытные торговцы нарочно караулили суда и закупали оптом сразу большую партию, а то и две, пленных иноземцев, чтобы в Афинах распродать их поодиночке и хорошо на этом нажиться. Пирейская лесха славилась также тем, что здесь можно было найти еще не истаскавшихся наложников и довольно свеженьких наложниц – кому что больше нравилось.
Одно – недавно построенное, с собственным водоемом, – крыло лесхи принадлежало некоему Элию из Эфеса, торговцу. У него всегда можно было купить знаменитые мелонские подушки, в которые тамошние мастерицы подкладывали шелуху от какого-то удивительного «сарацинского зерна» [12]12
Так в описываемое время называли гречиху.
[Закрыть], уверяя, что это средство начисто избавляет от головных болей и сулит сладкий сон. Элий продавал прекрасные финикийские ковры и покрывала, хотя знатоки и уверяли, что называются они финикийскими потому лишь, что скуплены у пиратов, а на самом деле изготовлены тринакрийскими [13]13
Тринакрия – так в описываемое время называли Сицилию из-за трех морей, которые ее омывали, и ее формы, напоминающей треугольник.
[Закрыть]и критскими мастерами. Торговал Элий и киосскими занавесями от мошкары, и мягкими тюфяками, набитыми морской травой, в которой не заводились блохи, и разными прочими постельными принадлежностями, необходимыми для сладостного сна. В число этих «постельных принадлежностей» входили хорошенькие мальчики и девочки, которых по сходной цене также можно было купить у Элия.
Разумеется, девственников и девственниц не отыскать было и здесь, однако Элий всегда призывал в свидетели богов, что товар побывал в одних, ну самое большее – в двух руках. Для особо недоверчивых Элий снабдил свое заведение несколькими отдельными клетушками, завешанными тростниковыми завесами. Сюда всегда стояла очередь из досужих посетителей лесхи. Прежде чем совершить покупку, ее разрешалось опробовать. Иные любители почесать блуд на дармовщинку часами пробовали да пробовали то один, то другой товар, задумчиво побрякивая кошелями: дескать, выбирают, выбирают, да никак не могут выбрать.
Элий, конечно, ворчал, но на первый раз никому не отказывал. Однако тем, кто никого не купил, впредь пробовать не позволял. Был, впрочем, один человек, который покупки совершал крайне редко, однако отказа у Элия не ведал. Более того! Торговец почти бесплатно отдавал этому человеку лучшие образцы своего живого товара в пользование – на несколько дней, даже на месяц, – стоило ему только пожелать! Элий относился к гостю с таким же нескрываемым восторгом, как и другие посетители пирейской лесхи, да, впрочем, и все прочие. Ведь это был знаменитый художник Апеллес, сын Пифия.
Однажды афинские живописцы спорили о том, чьи работы более правдоподобны, и вот на Акрополе, в Пропилеях – сооруженном из белого и фиолетового мрамора монументальном входе на Акрополь – устроили диковинное состязание, выставив на всеобщее обозрение огромные пинаки – картины, написанные восковыми красками на деревянных досках или терракотовых пластинах.
Яркий свет был вреден для восковых красок, а потому пинаки обычно держали в особой пинакотеке – в полутемном помещении, куда скупой свет проникал лишь через двери и два узких окна. Пинакотека размещалась в северном (левом) крыле Пропилей, более массивном, чем другие пристройки. Однако в тот день пинаки вынесли на солнце. Конечно, не все, а только те, на которых были изображены лошади.
Картины укрепили на некотором расстоянии друг от друга, а потом мимо них провели живых лошадей, копыта которых были обмотаны холстом, чтобы оберечь прекрасный мрамор Пропилей. Они равнодушно взирали на полотна, однако дружески ржали, проходя мимо лошади, изображенной Апеллесом.
Да, вот такой это был художник…
К яблокам с его картин тянулась рука, нарисованное вино, которое лилось из нарисованных кувшинов, пьянило одним своим изображением, ткани хотелось схватить и обернуть вокруг своего тела, в сандалии – обуться, в изображенных им мужчин влюблялись женщины, а нарисованных им женщин вожделели мужчины.
Слава Апеллеса гремела не только в Афинах, но и далеко за их пределами.
Вернее будет сказать, что слава пришла за ним в Афины из Македонии, где он был придворным художником царя Филиппа. В Македонию Апеллес отправился по совету своего учителя Памфила – македонца родом. Апеллес же родился в Эфесе, отчего поначалу был известен как Апеллес Эфесский, но затем, достигнув изрядной славы, он предпочел зваться одним только именем, заявляя, что Апеллес – один в Ойкумене [14]14
Так эллины называли земли, лежащие в границах в те времена исследованного людьми мира.
[Закрыть], а может статься, и за ее пределами, и никаких уточнений не нужно.
В самом деле, его знали все – и все восхищались его полотнами и тихографией, то есть росписью стен [15]15
Позднее римляне назовут эту технику фреской.
[Закрыть], – даже те, кто слыхом не слыхивал об ионической и сиконской художественных манерах, в которых он работал, и не смог бы отличить одну от другой. Главное было в мягкости рисунка и нежности колорита творений Апеллеса, а также в том тщании, с каким он изображал самые мелкие детали лица и одежды богов или царей. Благодаря этому они становились похожими на самых обыкновенных людей, и, глядя на них, можно было убедиться: боги воистину сотворили людей по образу своему и подобию. И вот теперь Апеллес воссоздавал их образы благодаря людям.
Торговец Элий из Эфеса гордился, что был земляком Апеллеса. Вдобавок они знали друг друга с детства, отчего меж ними всегда существовали особо доверительные отношения. При всей своей болтливости (ну а как же иначе уговорить человека сделать покупку, если не уболтать его?!) торговец умел хранить чужие тайны, а потому никому не говорил, зачем Апеллес берет у него молодых красавцев и красавиц.
Все были убеждены, что он ищет чувственного разнообразия, ведь он был молод, бесшабашен и сладострастен. Однако они забывали, что Апеллес был не только мастером постельных дел, но и художником. Рабов и рабынь Элия он использовал как натурщиков и натурщиц, а потом возвращал торговцу для продажи.
Накануне Апеллес получил весть от Элия, что к нему поступил новый товар, и очень обрадовался. Художнику как раз была нужна натурщица. Заказанная ему тихография для храма царственного Зевса требовала изображений целого сонма небожителей, низших божеств и людей. С несколькими восковыми табличками и стилосом Апеллес бродил по Афинам, делая новые и новые наброски, ловя необычные выражения лиц, примечая особенно красивые и яркие. Чаще всего его можно было встретить возле лачуг портовых шлюх и на рынках, в том числе на рынках рабов. Если набросок не удавался или встречалось более интересное лицо, он безжалостно размягчал пальцем воск и стирал изображение.
Апеллес никогда не искал натурщиков и натурщиц среди свободных людей. Его произведения были слишком знамениты, на них ходили смотреть семьями, и Апеллес вовсе не желал, чтобы афиняне тыкали пальцем в какого-нибудь Нина, сына Салмокиса, или Феодору, дочь Лисия, крича: «Вот идет Арес, смотрите, это с Нина списан лик бога войны! А вот и Гера, она живет близ Акарнийских ворот, у нее трое детей, ее зовут Феодора!» Только однажды в жизни допустил художник подобную ошибку, и она чуть не стала для него роковой: царь Филипп Македонский, коего Апеллес изобразил в виде Посейдона (у Филиппа была необоримая страсть к морю, хотя войны свои он вел на суше), пришел в ярость, увидев на картине знакомые лица своих подданных, возведенных художником в ранг тритонов и нереид.
Сначала Филипп отдал приказ казнить самонадеянного пачкуна и мазилу, однако вступился сын, молодой Александр, который сказал, что столь величаво никто еще не изображал царя и просто глупо уничтожать такого мастера, если стену можно расписать заново.
Филипп редко внимал советам сына (впрочем, Александр еще реже осмеливался вообще открывать рот в его присутствии!), но на сей раз неожиданно для всех его послушался. Изображение Апеллес переделал очень быстро. Лица пришлось выдумывать, и они утратили то живое, непосредственное выражение, которым пленяли прежде. Но царь остался доволен, ибо его собственный лик засиял теперь еще ярче. Он щедро наградил Апеллеса, и тот некоторое время состоял в свите Филиппа Македонского, пока не устал от непрестанных кочевий и сражений, не встревожился, что разучится писать что бы то ни было, кроме военных сцен и свирепых воинских физиономий, и не отпросился на время в Афины – дать мирный отдых своему взнузданному и нахлестанному вдохновению. Александр снова помог ему убедить отца, и Апеллес уехал, увозя с собой свою мировую славу – и те уроки, которые он извлек из общения с сильными мира сего.
Именно благодаря одному из таких уроков он теперь искал натурщиков где угодно, только не среди своих будущих зрителей и ценителей.
Рабы в этом смысле подходили больше всего, ибо их постоянно перепродают, это раз, а во-вторых, ни один раб не будет настолько безумен, чтобы признать свое сходство с олимпийцем или хотя бы сатиром. За святотатство его колесуют, и это будет еще мягким наказанием. Как бы не содрали кожу с живого, как некогда поступил разгневанный Аполлон с чрезмерно самонадеянным Марсием!
В поисках новых лиц с необычным выражением Апеллес и прибыл в тот день в пирейскую лесху и попросил Элия показать свежий товар.
– Вряд ли тебя хоть кто-то привлечет, – огорченно махнул тот рукой. – Не на ком взору отдохнуть! Нынче все полудохлые, как на подбор. Мало ели, а…
– …а били их много, – со знанием дела продолжил Апеллес. – Лица изуродованы?
– Нет, просто грязные и тупые.
– Грязные?! Ты их что ж, еще в купальню не водил? – изумился Апеллес, зная пристрастие Элия к чистоте: вымытый, аккуратный товар можно продать дороже, чем чумазый и вонючий.
– Только собирался.
– Ну так веди сейчас. А я посмотрю.
Элий отдал приказ надсмотрщику отправить товар мыться и вновь обратился к уважаемому земляку:
– Изволь отведать вина – алого самосского, сладкого, как ты любишь. Мне привезли также беотийский хлеб с орехами, твой любимый… Великолепный хлеб! Разводишь в кратере водой вино, обмакиваешь туда тугой кусочек хлеба, и он сразу становится мягким, будто только что испечен, а уж благоухает-то как! – Элий причмокнул губами. – Отведай! А тем временем эти грязнули немножко отмоются.
– Вино потом, – отмахнулся Апеллес. – Я хочу посмотреть на них сейчас.
– На немытых? – изумился Элий.
– На купающихся, – ухмыльнулся Апеллес, и Элий только вздохнул, не смея больше спорить с великим человеком.
Апеллей отстегнул круглую сердоликовую, вплавленную в золото, карфиту [16]16
В античные времена обычно носили одежду без швов, она скреплялась на груди или на плечах застежками. Могли быть самыми простыми, но могли стоить и целое состояние, поражая ювелирным искусством. Греки называли такую застежку карфита, римляне – фибула.
[Закрыть], которая придерживала на груди нарядный, изысканно задрапированный гиматий с охряной каймой по краям, сбросил его и остался лишь в длинном золотистом хитоне, украшенном по подолу темно-красным критским узором. Одни лишь рабы или воины носили короткие хитоны до колен или выше – почтенные люди позволяли себе открывать только щиколотки. Конечно, во время работы Апеллес не стеснял себя – на нем вообще была только грубая короткая эксомида [17]17
Разновидность туники, оставляющая открытыми правое плечо и правую руку; одежда низов – ремесленников, крестьян, рабов.
[Закрыть], открывавшая правое плечо и руку, что было очень удобно для размашистых движений, – однако пребывание при царском дворе приучило его к простой истине: встречают по одежке, даже если ты – художник, известный на всю Ойкумену.
Чуть приподняв полы хитона и ступая осторожно, чтобы не запачкать тонкие кожаные сандалии с яшмовыми пряжками, Апеллес прошел к купальне и опустился в кресло, стоящее в тени пальмы.
Купальня представляла собой небольшой, шагов двадцать на двадцать, неглубокий водоем с полого понижающимся дном и несколькими выступами в стенах. Сейчас на этих выступах там и сям примостились скорченные фигуры тех, кто уже помылся и теперь обсыхал.
Апеллес опытным взглядом скользил по лицам и телам – тела для художника имеют такое же значение, как лица! – и с грустью отмечал, что Элий с его наметанным глазом оказался прав.
«Люди вырождаются, – с грустью отмечал Апеллес. – Ну что это за сложение… что за руки и ноги… не найти даже намека на богоподобие! Как будто они все – из кривоногого племени лапифов, порожденных кентаврами! И можно подумать, их всех покусали бешеные собаки… у них водобоязнь! Даже помыться толком не могут, даже не способны получить удовольствие от купанья! Нет, этот товар мне не подойдет…»
Посреди купальни вдруг вспенилась вода, и оттуда показалась облепленная мокрыми волосами голова, и затем чуть не до пояса взметнулось девичье тело. Остальные купальщики с визгом метнулись врассыпную, словно от внезапно вынырнувшей акулы. Те несколько мгновений, пока девушка не канула снова в воду, сердце Апеллеса, казалось, не билось – во всяком случае, он ощутил резкий толчок крови в горле, когда купальщица исчезла. И поверхность воды вновь стала гладкой.
«Сколько же времени она провела под водой, если я ее сразу не заметил? – изумился Апеллес. – И сколько пробудет еще?!»
Он незаметно для себя задержал дыхание, и легкие уже начали разрываться от недостатка воздуха, когда девушка вынырнула вновь, и на лице ее сияло то же выражение, которое поразило Апеллеса еще в первый миг ее появления на поверхности воды: выражение нескрываемого наслаждения. Темно-серые глаза ее были затуманены блаженством. Чувствовалась: сейчас она так счастлива, что для нее не существует окружающего, – она забыла о рабстве и мысленно вернулась в те времена, когда была свободна и могла купаться не только для того, чтобы помыться, но и просто для удовольствия.
Апеллес жадно следил за каждым ее движением, за сменой выражений на лице.
Вот она легко, в несколько сильных, быстрых взмахов, подплыла к одному из выступов на стене купальни, взобралась на него и села. Собрала волосы в жгут, отжала их сильно, как прачки отжимают белье, слабо улыбаясь, когда капли падали ей на колени, потом внимательно осмотрела себя – и покачала головой, увидев, что на ее бедрах изнутри еще не смыты какие-то ржавые пятна.
«Она совсем недавно была девственницей, – понял Апеллес. – Ее насиловали, конечно: иначе отмылась бы от крови, – и насиловали жестоко: плечи и спина в царапинах от ногтей, видны следы укусов… Потом продали в лесху. Здесь она уже не сопротивлялась: на теле нет кровавых рубцов от плети надсмотрщика…»
Тем временем девушка, кое-как закрутив мокрые волосы в жгут и отбросив его за спину, чтобы не мешал, снова соскользнула в воду. Руки ее были опущены и двигались: насколько понял Апеллес, она пыталась оттереть пятна крови. Иногда подтягивалась на руках, чтобы бедра показались из воды, придирчиво осматривала себя – и снова принималась мыться.
По спине Апеллеса прошла волна дрожи. Каждое движение купальщицы было необычайно грациозно, и он люто пожалел о том, что живопись, как и скульптура, способна запечатлеть лишь паузу, а не само движение, остановить его, а не продолжить. Он мучился оттого, что невозможно изобразить, как она опускает пальцы в воду, и как они сжимаются в горсть, и как поднимаются, и капли одна за другой сыплются в водоем, покрывая его веселой рябью, а пальцы разжимаются вновь, ласкающими движениями отмывая нежную кожу межножья.
Апеллес вскочил. У него помутилось в голове, задрожали руки, но он и сам не смог бы сейчас понять, это нахлынула на него привычная творческая алчность – или он жаждет эту юную женщину, которой до него силой овладели другие.
Ну и великолепно, что уже овладели!
Апеллес брезговал тем, что особенно ценили прочие мужчины, готовые бешено сражаться за кровь и крики боли бедной девственницы. Похищение невинности они приравнивали ну просто-таки к похищению золотого руна!
Для Апеллеса это не имело никакого значения, тем более сейчас. Он видел своим опытным взглядом, что эта сероглазая, даже побывав под одним или несколькими насильниками, осталась неискушенной, что ей неведомы тайны блаженства, которые таит в себе соитие мужчины и женщины, что она знает только боль и сначала будет противиться. Ласковое обращение может совершить с ней чудо…
Но Апеллесу была нужна не только новая наложница. Он искал новую натурщицу – и уже знал, что нашел ее. Это редкостно выразительное лицо, которое может сделаться каким угодно, от уродливого до прекрасного, это нежное тело, которое скоро утратит детскую незрелость и приобретет головокружительную округлость форм, эти чуть угловатые плечи, эти трепетные пальцы, эти точеные ноги с высоким подъемом и тонкими щиколотками… В ней не было безусловной красоты и совершенства – в ней была безусловная обольстительность нераспустившегося цветка. Музы и Эрос помогут этому цветку раскрыться!
Апеллес повернул голову. Неподалеку маячил Элий, страдающий от того, что на сей раз не может предложить великому человеку ничего стоящего. И он радостно встрепенулся и даже разразился рукоплесканиями, когда художник вдруг загадочно улыбнулся и воздел палец, призывая к вниманию…
Элий проследил направление его взгляда и сделал знак надсмотрщику. Тот понятливо воздел плеть и крикнул:
– Эй! Эй, ты! Ты, на камне! Девчонка! Поди сюда!
Девушка испуганно вздрогнула, сообразив, что надсмотрщик смотрит на нее и этот приказ отдан ей, и Апеллес понял, что она, погрузившись в удовольствие от купания, совершенно забыла о своем положении и о тех страданиях, которые ей довелось перенести, а сейчас грубый окрик вновь поверг ее в ужас прошлого и настоящего, словно в бездны Тартара [18]18
Часть Аида, подземного обиталища мертвых, где для них приготовлены самые страшные мучения.
[Закрыть].
Художник досадливо поморщился. Догадливый Элий погрозил кулаком надсмотрщику, и благодаря этому девушку не приволокли к ногам хозяина и его почтенного друга за волосы, отвесив для острастки пару ударов плетью, а просто швырнули.
Мокрый жгут ее волос развалился и упал в пыль, снова став грязным.
Апеллес огорчился так, будто на его глазах было осквернено драгоценное произведение искусства, но тут же успокоил себя: в его доме прекрасная купальня, и если даже в этой жалкой луже девушка мылась так восхитительно, то какое же представление она устроит в теплой, прозрачной воде, в которую Апеллес прикажет пустить крошечных красных, синих, зеленых и золотистых рыбок и бросить лепестки роз, и четыре раба, сидя на четырех углах бассейна, будут медленно, тонкими струями, вливать в воду темно-красное, густое и тягучее критское вино, и оно будет постепенно менять цвет от багрового до бледно-розового, будет расходиться причудливыми облаками, то скрывая изгибы тела купальщицы, то обволакивая ее, словно прозрачная ткань…
Решено! Он напишет ее в образе Панопеи, красивейшей из нереид, жительниц моря!
Никаких традиционных синих вод, никаких пошлых белых гребней на волнах. Таинственная бирюзовая глубь вдали, а в центре картины – расходящиеся среди бледных, прозрачных водных струй яркие винные струи. Вино льют из больших витых раковин прекрасные тритоны, а между ними раскинулась, нежась, обольстительная Панопея, и одна тугая винная струя, направленная самым смелым, самым лукавым тритоном, стремится прямо в ее межножье, отчего лицо Панопеи выражает такое сладострастие, что зритель должен понять: сейчас она отдастся этому тритону, а потом всем другим, и завеса пролитого вина целомудренно скроет от любопытных глаз эту непристойную, но такую манящую картину…
Она появилась перед глазами Апеллеса настолько отчетливо, что у него даже руки зачесались – так захотелось немедленно взяться за работу. В то же время его плотское желание сделалось уже почти неодолимым, и сейчас в его воспаленном воображении сцены обладания неизвестной рабыней смешивались со сценами растирания красок и грунтовки стены для новой работы.
Он схватил девушку за руку и рывком заставил ее подняться.
– Как тебя зовут? – спросил хрипло.
Она мгновение молчала, потом губы ее дрогнули, словно она хотела что-то сказать, но передумала. Испуганные глаза заволокло слезами:
– Мое имя Доркион.
Апеллес улыбнулся. Его переполняла нежность к ней и этому прелестному имени, которое подходило ей необыкновенно. Маленькая загнанная косуля, измученная бесплодными попытками спастись от преследователей!
Художник готов был овладеть ею прямо сейчас, вот здесь, на пыльной, каменистой земле, или в любой из каморок, которые были приготовлены Элием для неотложных нужд посетителей. Но он не хотел, чтобы страх и боль искажали лицо будущей Панопеи!
– Элий, пусть Доркион отведут в мою колесницу. Да не в таком виде! Вели принести для нее красивый хитон и гиматий поярче. За деньгами потом пришлешь ко мне своего домоправителя. И… прими мою благодарность, друг!
Восхищенный Элий прижал руку к сердцу и склонился чуть ли не до земли.








