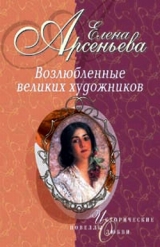
Текст книги "Возлюбленные великих художников"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Впрочем, бог с ним, с Трубецким. Он отправился в Нерчинск, чтобы с лихвой расплатиться за ошибки молодости, а флигель-адъютанта графа Самойлова хоть и привлекли к дознанию по поводу участия его в комплоте, но сие участие по высочайшему повелению оставлено было без внимания – за недоказанностью преступных действий.
Поговаривали, что новый император Николай Павлович, который учился подражать величавой осанке старшего брата, подражал ему не только в этом – и некогда даже отпил из царского бокала пьянящего вина под названием «Юлия Самойлова». Ну так вот он и не остался равнодушен к мольбам красавицы графини пощадить супруга.
Юлия Николая не любила. Юлия его безумно жалела! И еще более безумно не хотела числиться женой государственного преступника.
Словом, от Самойлова отстали. Некоторое время супруги умиляли свет своим нежным примирением (Пушкин даже поздравлял с этим своего приятеля в письме), а потом путь Юлии перешел барон Эрнест де Барант, сын французского посланника, – тоже очень яркий брюнет, такой же лукавоглазый и жуликоватый, как приснопамятный Мишковский. Гораздо более, чем этим романом, знаменит де Барант в русской истории тем, что спустя несколько лет на балу в особняке графа Лаваля на Английской набережной в Петербурге он упрекнет поручика Лермонтова, будто бы тот говорил о де Баранте «известной особе невыгодные вещи». Особой этой была то ли Тереза фон Бахерахт, то ли княгиня Мария Щербатова. Выйдя на дуэль, де Барант и Лермонтов сначала будут биться на шпагах, потом, когда у де Баранта сломается кончик шпаги, станут стреляться, а в результате разойдутся с миром, потому что Лермонтов, чуя, видимо, правоту противника (ну о ком злоязыкий юнец когда что доброе говорил в стихах либо в прозе?!), выстрелит в сторону. Но это еще когда-а будет…
Ни застрелить, ни продырявить Лермонтова де Баранту не удастся, видимо, утратит он меткость с годами, однако же в сердце графини Самойловой он попал с одного залпа своих дерзких глаз.
Пламень этой страсти пылал так жарко, что Николай Александрович понял: от его репутации скоро останется только пепел! И решил разъехаться с женой. Сам он отбыл в армию генерала Паскевича, а Юлия Павловна отправилась в имение Графская Славянка близ Павловска, доставшееся ей по наследству от графов Скавронских.
Вскоре слухи оттуда поползли самые невероятные. Описывались кутежи на манер Клеопатриных и Мессалининых. Бассейны, мол, там наполняются шампанским, шампанским же фонтаны бьют. А графиня-де Юлия вовсе с привязи сорвалась: каждого гостя берет себе в любовники. А которые отказаться норовят, тех крепостные силком в ее постель тащат!
Слушавшие эти сплетни в фонтаны шампанского верили, а в насилие над привередниками – нет. Прежде всего потому, что не хватало у людей фантазии представить себе мужчину, которому Юлия Павловна себя бы предложила, а он бы отказался.
Небыль это, господа. Небыль!
Не о ней, о другой напишет спустя несколько лет Пушкин следующие строки, однако они поразительно точно рисуют портрет Юлии Самойловой:
…Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сияньи исчезает.
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, —
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
Разумеется, перед красотой графини Юлии не «благоговели богомольно» – ее дьявольски вожделели! Это была еще одна «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», та, что называлась едва вошедшим в обиход словом «львица». Подражательницы Жорж Санд были свободны, дерзки и всячески выставляли напоказ свою личную жизнь. И дошло дело наконец до того, что слухи, выползавшие из Славянки, превзошли всякие мыслимые и немыслимые приличия. Николай Павлович внимал им снисходительно, вспоминая вкус терпкого вина, пригубленного им в былые годы, однако, когда стало известно, что в Славянке появляется народец подозрительный, тоже «за недоказанностью», подобно графу Самойлову, освобожденный от расследования по делу декабристов, – Юлии Павловне посоветовали слегка угомониться.
Этого прекрасная графиня сделать не могла, но и ссориться с государем было глупо. Она стала размышлять, как бы ей половчее отступить, не уронив своего эпатажного достоинства и, не дай бог, не запятнав смирением репутации «львицы», «вакханки» и «гетеры». И тут вдруг судьба просто-таки выпихнула ее из Петербурга!
Среди тех, кто останавливался невольно перед святыней… вернее, перед бесчинством ее красоты, был известный в Петербурге гусарский корнет и карикатурист Эммануил Сен-При. Веселый, популярный, всеми любимый, талантливый красавец однажды утром был найден в луже крови. Застрелился от безнадежной любви к Юлии!
Какой бретершей по натуре своей она ни была (родственная душа бывшему мужу своему, Николаю Александровичу, известному страстью к смертельным забавам!), но обагренные кровью поклонников платьица никогда не были в моде. Поэтому Юлия Павловна немедленно сочла, что север вреден для нее, и отправилась попутешествовать и помотать деньги во Францию, а потом и в Италию.
Под Парижем у нее было имение Груссе, известное собранием картин. Прекрасная графиня купила также виллу на озере Комо, дворец в Милане, заполнив их произведениями искусства, на которые она никогда не жалела денег. Ее виллы, дворцы и дома сделались самыми модными местами в Италии. В них собирался цвет общества – композиторы, артисты, художники, дипломаты. Бывали здесь молодой Верди, Россини, Доницетти, Беллини, Паччини. Юлия покровительствовала молодым дарованиям, нередко оплачивала постановки опер в Ла Скала.
С Паччини у нее, по слухам, был роман, который перешел в дружбу, настолько близкую, что Юлия взяла на воспитание двух его хорошеньких девочек, Джованину и Амацилию. Спустя годы заклубилась молва, что это были собственные дочери графини, рождение которых она почему-то скрывала.
Глупости! Она гордилась бы, появись у нее дочери, пусть даже от какого-то безродного итальянца. Нет, забота о девочках – это было все, чем она могла вознаградить Паччини за прелестный роман, потому что сердце ее уже принадлежало другому человеку.
Юлия услышала о нем случайно. Имя его звучало в связи со скандалом, живо напомнившим Юлии ее собственный петербургский пассаж: молодая красавица Аделаида Демюлен утопилась в Тибре, не перенесла равнодушия своего любовника, русского художника Карла Брюллова.
Художник, да еще и русский, да к тому же со скандальной славой…
Юлия почуяла товарища по несчастью, родственную душу – и заинтересовалась.
Кто такой? И что у него за душой, кроме смерти ревнивой натурщицы?
В Риме в те годы было много русских, и Юлии не преминули рассказать о Брюллове.
– Холоден, как лед. Бедная девушка засыпала его нежными письмами, а он их даже не распечатывал! Конечно, он глуховат на одно ухо – еще в детстве ударил отец, – но не слышать признаний Аделаиды было невозможно! Страшный эгоист, для него ничего не существует, кроме него самого. Как ни странно, именно это равнодушие ко всем на свете и обеспечивает ему невиданный успех у женщин! Бедняжка Аделаида – лишь одна из многих. Маркиза Висконти-Арагона с ума по нему сходила. Возила его по Италии, осыпала подарками. И что только прекрасные дамы в нем находят? Роста маленького, рыжий… – презрительно пожимали плечами одни.
– Небольшой рост его заключает в себе атлетические формы: эта широкая и высокая грудь, эти мощные плечи… не говоря уж о его прекрасной голове! Он невольно обращает на себя внимание всякого. Я не знаю мужского лица прекраснее его. Он красавец! – восхищались другие.
Впрочем, Юлию в человеке творческом интересовали не только и не столько мужские достоинства, сколько само творчество. Талантлив этот Брюллов или нет?
Постепенно она узнавала о нем все больше и больше.
Ему нет еще и тридцати. Родился в Петербурге. Предки его были французами, потом онемечились, и именно из Германии один из них был приглашен императрицей Екатериной, увлеченной созданием русского порцеллина, то есть фарфора, на только что созданный завод лепщиком глины. Потомки того Брюло были граверами, рисовальщиками… Один из них, Поль Брюло, художник-миниатюрист, стал преподавателем Академии художеств, куда поступили учиться сыновья – Александр, талантливый архитектор, и Карл… Ну, вот этот самый, из-за которого бедняжка Аделаида…
Оказывается, он стал учеником Академии в возрасте… десяти лет. Рисовать научил его отец. В Академии Карл мигом завоевал первенствующее положение среди своих товарищей, однако брата Александра искренне считал талантливее себя. Преподаватель Брюллова Егоров восхищался той чистотой античного штриха, которой обладал ученик. Товарищи нередко просили его поправлять их рисунки, и тихонько по ночам, в спальнях, он выправлял выкраденные из классов этюды. Когда наступило время конкурсов, молодой художник сумел из сухих поз академических натурщиков воссоздавать аллегорические картины, не довольствуясь точной передачей нагого тела, но выискивая мотив, почему именно в такой позе может быть изображен человек. В 1819 году он получил малую золотую медаль именно за такой этюд, превращенный им в картину «Нарцисс, смотрящий в воду».
В 1821 году Брюллов получил первую золотую медаль за композицию «Авраам и три ангела». Сюжет этот был предложен академическим советом для испытания сил молодых художников при одновременном изображении чудесного и реального. Миловидность ангелов, благородство типа Авраама, добросовестно изображенный пейзаж искупали античную барельефность композиции, которая составляла неизбежное требование всякой академической программы того времени.
Получив медаль, поощряемый первыми успехами, Брюллов счел себя человеком вполне состоявшимся и даже решился жениться. Он давно вздыхал по дочери своего профессора А.И. Иванова и сделал ей предложение. Мария Андреевна была к нему неравнодушна, однако… отказала. Честно говоря, она побаивалась необузданной страстности этого рыжего гения, а в его особенный художественный дар, в его грядущий грандиозный успех не слишком-то верила. Она ошиблась – успех ее несостоявшегося жениха окажется именно грандиозен… Однако Мария Андреевна оказалась редкостной женщиной. Когда Брюллов вернется из Италии, опьяненный триумфом, Мария Андреевна не станет рвать на себе волосы от невозможности вернуть несбывшееся и упрекать себя за ошибку, а, наоборот, будет гордиться собой: мол, если бы Карл связал с ней жизнь, то никогда не добился бы таких успехов.
Воистину так. Ведь в этом случае он не встретил бы Юлию Самойлову, которая одна была половина успеха…
А впрочем, не станем забегать вперед.
Итак, после отказа Марии Андреевны Брюллов грустил, как он полагал, от разбитого сердца. Одна работа была его исцелением.
В то время образовалось в Петербурге «Общество поощрения художеств», которое нашло дарование Брюллова необыкновенным и определило отправить его в чужие края на собственное иждивение. Общество снабдило Брюллова инструкцией, из которой следовало, что пенсионер [21]21
В былые времена так называли всякого, пусть и молодого человека, который получал от какого либо общества или организации деньги на содержание: по латыни pensio – платеж.
[Закрыть]должен писать в Петербург свои впечатления, которые он вынесет из обозрения европейских галерей. Далее ему был дан совет заняться серьезным чтением и изучить практические языки настолько, чтобы «писать отчеты на диалекте той земли, в которой будет находиться». Маршрут путешествия был такой: три месяца в Дрездене, для изучения Корреджо, Рафаэля и Ван Дейка; затем следовали Мюнхен, где предложено было пробыть месяца два; а в конце концов следовала Италия – Милан, Флоренция и Рим.
В 1822 году Брюллов с братом Александром выехал из Петербурга в Ригу, Планген и Берлин. Осмотрев берлинскую и дрезденскую выставки, Карл Брюллов, пораженный Сикстинской мадонной, особенно подчеркнул то обстоятельство, что «у Рафаэля каждая черта обдумана». Гораздо менее понравился ему в Мюнхене знаменитый в то время художник Корнелиус: Брюллов нашел его сухим и условным.
Прибывши в Рим и внимательно принявшись за изучение Рафаэля, он начал постепенно понимать все безвкусие итальянской живописи XVIII века и обратился к эпохе Возрождения как к новому живительному источнику. Здесь Брюллов начал серьезно довершать свое художественное образование, копируя статуи и фрески Ватикана и работая в натурном классе. В это время он написал «Девушку у фонтана», иначе называемую «Итальянским утром». Позднее эта картина разошлась в России множеством литографий. Брюллов был обуреваем темами и идеями: то он писал Юдифь, то Олега у ворот Царьграда, то библейские сюжеты, то вакханалии. В конце 1824 года он получил через русское посольство заказ написать копию с «Афинской школы» Рафаэля, этой огромной фрески. Работа занимала Брюллова четыре года. Одновременно он написал четырнадцать портретов и картин, поражая итальянцев своим странным, холодноватым талантом и пылкостью натуры. После завершения копии Брюллов сделался одержим мыслью написать «Последний день Помпеи». Он был совершенно уверен в своих силах создать грандиозное полотно – эту уверенность немало укрепляло слово известного богача Демидова купить будущую работу.
Именно в это время он расстался с маркизой Висконти-Арагона, свел в могилу Аделаиду Демюлен и встретился с графиней Юлией Самойловой…
Это произошло в имении Гротта-Феррара, которое принадлежало князю Григорию Ивановичу Гагарину, послу при тосканском дворе. Там Брюллов скрывался от упреков римского света, который с наслаждением обсуждал самоубийство Аделаиды. И вот однажды…
Во двор поместья на полном скаку влетела карета. День был ветреный, и Брюллову, который с восхищением наблюдал за взмыленными лошадьми (редко увидишь такую великолепную упряжку!), показалось, что высокая женщина с разлетевшимися в сторону черными волосами была вырвана из кареты порывом ветра и заброшена на террасу, не коснувшись ногами презренного земного праха. В ней все казалось слишком – слишком высокая, слишком красивая, слишком… неодолимая. Она смотрела на Карла сверху вниз, нисколько не стесняясь своего великолепного роста; она блестела глазами, словно хотела ослепить его; она сверкала зубами, словно хотела его укусить; у нее были яркие губы, которые будто разгорелись от поцелуев… Одна из тех страстных вакханок, которых он так любил изображать, умирая от вожделения рядом с экстатической страстью, которая, увы, существовала раньше лишь в его воображении.
И вот она – живая! Во плоти!
Некоторое время красавица испепеляла его своими черными очами, которым напрасно пытались противиться холодноватые серо-зеленые, словно речная вода, глаза Карла. Произошло невероятное: не вода загасила огонь, а огонь зажег воду!
С этого мгновения художником владело одно лишь желание – как можно скорей затащить эту красавицу в свою мастерскую и там овладеть ею. Впрочем, до мастерской он боялся не дотерпеть, а потому готов был утолить свое внезапно вспыхнувшее вожделение где придется, пусть бы прямо здесь, на террасе Гротта-Феррара…
Увы, появился хозяин. Пришлось делать взаимные реверансы. Красавица – оказалось, ее зовут графиня Юлия Самойлова – заговорила, и Карл даже не понял, чем он был поражен сильнее: звуком ее чувственного, насмешливого голоса или тем, что в этой хорошенькой головке роились какие-то мысли.
Нет, не какие-то, отнюдь нет!
– Я слышала, вы хотите писать гибель Помпеи? Слышали оперу Паччини «L’Ultimo giorno di Pomрeia»? Она имела огромный успех по всей Италии. Композитор – мой добрый друг.
Графиня произнесла эти слова, чуть облизнувшись, и Карл, который и так-то разобиделся, что она его чуть ли не в плагиате обвинила, вконец рассвирепел – теперь уж от неистовой ревности к несчастному Паччини.
– Ежели вы хотите писать этот самый l’ultimo giorno, – произнесла она, глядя ему в глаза и прекрасно понимая, какой пожар раздувает в его чреслах, – вам надобно съездить на место помпейских раскопок, перечитать Плиния, копировать позы найденных под пеплом помпейцев… Кстати, я давно собираюсь в Помпеи. Хотите поехать со мною?
– Что? – пробормотал Брюллов.
– Поехать со мною, – повторила она. – Хотите?
– Куда? – выдохнул Брюллов, едва ли слыша себя, и тут же, не ожидая ответа, выпалил: – Хочу!
Свидетель этой сцены господин посол Гагарин только вздохнул…
Брюллов кинулся в карету, словно за ним гнались фурии. Впрочем, фурии были просто детьми по сравнению с сонмом бесов сладострастия, которые зашвырнули Карла в карету Юлии.
Великолепная упряжка помчалась… и Карл понял, что в мастерскую ехать не обязательно. Карета вполне ее заменила.
«Между мной и Карлом ничего не делалось по правилам», – признается Юлия позже. Это было именно так – с первой минуты первой встречи!
Юлия и сама удивлялась безумной страсти, которая обуревала ее рядом с Карлом. Может быть, именно кровью они были повязаны? Кровью Сен-При и Аделаиды? Два сапога пара, муж и жена – одна сатана… Разумеется, их отношения не были узаконены. Да и зачем?! Взаимное желание их было почти неодолимо, и только работа над новой картиной могла заставить Карла отвлечься от Юлии. Впрочем, нет, это не слишком-то верное выражение – хоть он отрывался от ее тела, но глаза его не отрывались от ее глаз, вбирали в себя ее красоту, насыщались – и не могли насытиться ею, именно поэтому столько обольстительности в трех женщинах с полотна «Последний день Помпеи», обольстительности среди трагизма и ужаса.
Описывая впоследствии основные типы картин Брюллова, Гоголь найдет для них такие слова: «Его человек исполнен прекрасно-гордых движений; женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, – она женщина страстная, сверкающая, южная, италианская во всей красоте полудня, мощная, крепкая, пылающая всей роскошью страсти, всем могуществом красоты, – прекрасная как женщина».
Эта самая «красота полудня» испепеляла Брюллова любовью.
«Никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как твоя верная подруга…»
«Мой дружка Бришка… Люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду душевно тебе приверженная Юлия Самойлова…»
«Люблю тебя, обожаю, я тебе предана, и рекомендую себя твоей дружбе. Она для меня – самая драгоценная вещь на свете!»
И одновременно это была связь двух совершенно свободных людей. Юлия отлично понимала право Карла на внезапный порыв вдохновения, который может быть спровоцирован только порывом нового вожделения. Именно этого не смогла понять бедная Аделаида Демюлен. Да и вообще – не всякой женщине свойственно такое самоотречение. Разве только на подобное же самоотречение взамен. Ведь и Карл охотно отпускал от себя свою ненасытную подругу, со временем поняв, что не может сосуществовать в его жизни Юлия и искусство одновременно – нужно уметь выбирать. Да и вообще – рядом с Юлией недолго и умереть в постели!
А Брюллов хотел жить и работать.
Но, вообще говоря, он тоже был еще тот мужчина! Один из его современников писал о нем: «За внешностью молодого эллинского бога скрывался космос, в котором враждебные начала были перемешаны и то извергались вулканом страстей, то лились сладостным блеском. Он весь был страсть, он ничего не делал спокойно, как делают обыкновенные люди. Когда в нем кипели страсти, взрыв их был ужасен, и кто стоял ближе, тому и доставалось больше».
Пара подходящая. Одна сатана, воистину!
То ли высшей была их форма любви, то ли низшей? Может, они были люди будущего? Кто их разберет! Однако часты и такие строки среди сердечных излияний в их письмах: «Скажи мне, где живешь и кого любишь? Нану или другую? Целую тебя и верно буду писать тебе часто», – строчила перышком великодушная подруга.
Брату Карла, Александру, она признавалась, что они все же хотели соединить свои жизни, однако просто-напросто побоялись убить друг друга, уничтожить свою любовь. Оба были птицами свободными, свободными…
Может быть, они встретились лишь для того, чтобы красота Юлии была запечатлена в веках? Может быть, не она была музой Брюллова, а Брюллов – орудием влюбленной в Юлию вечности?
Она стала моделью для сверкающей нагой «Вирсавии». Из портретов Самойловой сохранились два. Другие исчезли бесследно. Один из сохранившихся – «Самойлова с воспитанницей Джованиной Паччини и арапчонком». Именно от этого портрета итальянская публика пришла в восторг, а его создателя взахлеб сравнивали с гениальными Рубенсом и Ван Дейком.
Красота Юлии на этом полотне не поддается никакому описанию. Слова меркнут… и становится понятно, что каждая картина была написана ими совместно: кистью Брюллова – и сияющей красотой Юлии Самойловой.
В том числе, конечно, и «Последний день Помпеи».
Художник решил запечатлеть бегство жителей Помпеи через Геркуланумские ворота. Для изображения он выбрал улицу, лежащую за городскими воротами, на месте ее пересечения с кладбищенской улицей. На картине боролись два освещения: красное, собственно от извержения, и синевато-желтое, которым осветила первый план сверкающая молния. Небо было затянуто густыми, черными клубами дыма, так что дневной свет ниоткуда не проникал…
Конечно, то, что изобразил Брюллов, далеко от той ужасной картины, которую рисовал в своих записках Плиний. Этот очевидец ужасной катастрофы особенно подчеркивал то обстоятельство, что все вокруг тонуло во мраке, сыпался такой густой пепел, что надо было беспрерывно его стряхивать, чтобы не быть навсегда засыпанным.
Некий французский критик, описывая впечатление от картины Брюллова, иронизировал: она-де создана совершенно в тоне манерных мелодий и цветистых декораций оперы Паччини, в ней масса театральности. Упреков в чрезмерной декоративности, патетичности было много. И в чрезмерной красивости… Разумеется, разговоры о пресловутой груди и соблазнительной позе тоже велись. Но при всем при том любовник Юлии Самойловой взлетел на гребне такого триумфа, который мало кто из художников испытывал.
Успех «Помпеи» был громадный не только за границей, но и в Петербурге. Это был апофеоз славы Брюллова – слово «гений» раздавалось со всех сторон. Академия преклонялась перед ним; молодые художники считали за честь быть его учениками.
Маркиза Висконти, его бывшая любовница, которой Брюллов обещал рисунок, никак не могла зазвать Карла к себе. Вернее, он приходил, но не шел дальше привратницкой, удерживаемый там красотою дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись юной красавицей, уходил домой. Наконец маркиза Висконти сама отправилась в привратницкую.
– Противная девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества моего и моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь иметь его рисунок. Но отдашь его мне!
«Брюллов меня просто бесит, – гневно писала княгиня Долгорукая, бывшая в то время в Италии и давно умолявшая художника о свидании. – Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел… Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка!»
В 1835 году Брюллов был отозван в Петербург – Россия жаждала увенчать его лавровым венком. Юлия тоже отправилась в Россию.
«Самойлова вернулась из-за границы и появилась на вокзале в Павловске с целой свитой красавцев – итальянцев и французов… ее сочные уста, вздернутый нос и выражение глаз как будто говорили: „Мне нет дела до мнения света!“» – такой ее запомнил художник Петр Соколов.
То есть прекрасная графиня продолжала будоражить свет и общество своими эскападами. Вдоволь назабавившись, она снова уехала в Италию, потому что север продолжал быть вреден для нее, для этого жаркого цветка. Да и любимый Бришка сделался невыносимо скучен теперь, поднятый на пьедестал своего невероятного успеха. Возомнил себя академиком, мэтром, бессмертным, жаждет писать исторические полотна, но натурщиц ищет теперь исключительно среди бледных россиянок…
Да, а что же Брюллов?
Вернувшись в Петербург, художник был принят Николаем I, а потом начал работу над историческим полотном «Осада Пскова». Для этого через две недели после торжеств в Академии художеств в его честь, состоявшихся 11 июня, он отбыл во Псков.
Работа над картиной продолжалась почти восемь лет, но так и не была завершена. Мечта Брюллова – создать более значительное, чем «Последний день Помпеи», произведение не сбылась, поэтому он не обращался больше к историческим сюжетам. Зато за это время Брюллов написал, создал целую галерею портретов своих современников, которые, несомненно, принадлежат к его удачам: Е.П. Салтыковой, графа А.А. Перовского (писателя Антона Погорельского), В.А. Жуковского, И.А. Крылова.
Мода на Брюллова была невероятная! Брюллова донимали заказами как частными, так и государственными: император и весь свет относились к нему как к придворному художнику.
В январе 1837 года Александр Сергеевич Пушкин побывал в мастерской художника. Одна из акварелей привела его в такой восторг, что поэт попросил ее в подарок. Когда же Брюллов ответил, что работа уже продана, Пушкин в шутку опустился на колени, настаивая на своей просьбе. Чтобы как-то смягчить отказ, Брюллов предложил написать его портрет и портрет Натальи Николаевны и даже назначил время первого сеанса. Увы, условленный день окажется следующим после роковой дуэли…
Почти за год до этого в одном из писем Пушкин описывал жене свое посещение в Москве Перовского, который повздорил с Брюлловым и перемежал восхищение его этюдами бранью: «Заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник».
Однако Брюллов был недоволен всем: и работой, и жизнью, и даже невероятной популярностью своей. Перовский не зря называл его пьяницей: кутежи и дебоши на какое-то время захватили всерьез модного художника.
Просыпаясь после очередной попойки, Карл, размышляя, начинал понимать, что в России, в круговороте светской жизни и светских заказов, он не может совершенствоваться. Ему грозило почить на лаврах, а для художника это значит – именно почить,умереть. Он рвался в Италию, но заказы от высочайших особ, доставлявшие ему, между прочим, отличный заработок, не отпускали. Единственный заказ, который на время воодушевил его, была работа по оформлению купола Исаакиевского собора, где он должен был написать несколько святых покровителей членов императорской фамилии. Вспоминая Микеланджело, Брюллов готов был расписать целое небо и с таким рвением занимался работой, что нередко являлся в собор раньше своих учеников.
Увы, это вдохновение скоро остыло: отрешенные от простых человеческих чувств, тем паче – от бурных страстей, лики святых наводили тоску на художника, самую суть которого составляли неистовая страстность и чувственность.
Именно в то время ему показалось, что он найдет спасение в новой любви.
На званом вечере в доме Зауэрвейда, придворного баталиста и любимца императора, Брюллова познакомили с прекрасной музыкантшей – дочерью рижского бургомистра Федера Тимма. Ее звали Эмилией, она была тиха, скромна, чиста, юна – воплощение кротости и непорочности. Ну, сущий ангел! Рыжий демон почувствовал себя укрощенным и свободным от бесовских страстей: Брюллов влюбился и пригласил Эмилию позировать. Она согласилась. Брюллов упоенно написал портрет: тоненькая девушка в белоснежном платье – изящный лесной ландыш! – у рояля. Кстати, на рояле стояла именно что ваза с ландышами. Многим показалось странным, что фоном для фигуры нежной Эмилии был выбран красный занавес такого тревожного оттенка. Считалось, это было сделано для того, чтобы ярче оттенить ее неяркую красоту. Однако интуитивный выбор Брюллова, возможно, не слишком понимавшего, что он делает и почему, оказался безошибочным и роковым…
Влюбленный Карл сделал предложение. Ему было сорок, Эмилии – восемнадцать. И она, и ее отец предложение приняли с радостью. То есть Эмилия, конечно, потупляла глазки и прелестно краснела, однако шептала нежные, сбивчивые слова любви. Первой любви, был убежден тщеславный Карл…
27 января 1839 года состоялось венчание. И тут гости почуяли нечто неладное. «Я в жизнь мою не видал, да и не увижу такой красавицы, – вспоминал потом свидетель бракосочетания, один из учеников Брюллова, Тарас Шевченко. – В продолжение обряда Карл Павлович стоял глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту».
Почему? Да потому, что накануне он узнал правду о той почве, на которой растут такие вот цветы непорочности, как его Эмилия.
Ну да, она была не девица… Но это еще полбеды! Ужас состоял в том, что у Эмилии был постоянный любовник, и этого человека Брюллов знал. Его звали Федер Тимм. Отец Эмилии был ее растлителем и любовником.
Вот он, красный, тревожный фон, на котором проистекала жизнь девушки в белом платье!
Нежность, чистая, романтическая нежность, которую испытывал Карл к своей юной невесте, была так велика, что он даже готов был закрыть глаза на случившееся. Удалось бы это сделать или нет – вопрос другой, главное – он был на это готов. Однако Федер Тимм не смог расстаться с любовницей даже и после свадьбы. Впрочем, Эмилия тоже не мыслила жизни без него.
То есть Брюллов с ужасом понял: он сам оказался всего лишь занавесом– ведь по Риге и Петербургу поползли было сплетни о странных отношениях отца и дочери, а чем лучше их прикрыть, как не свадьбой с известным художником? Тимм рассчитывал: Брюллов не сможет долее оставаться рядом с Эмилией, но скандала не захочет, жить станет вдали от нее, а она по-прежнему будет принадлежать любовнику, нося звание мужней жены и приличной дамы.
И эти расчеты едва не оправдались. Конечно, Брюллову не хотелось скандала, но… существовать в такой позорной грязи было свыше его сил. Он стал настаивать на разводе, Эмилия не соглашалась. По Петербургу поползли новые слухи – на сей раз о том, что Брюллов бьет свою юную, прелестную жену, что она убегает из дому, ища спасения у родственников и друзей…
Брюллов тоже убегал из дому и тоже искал спасения у родственников и друзей. Например, в доме барона П.К. Клодта. Карл забивался в детскую и плакал, словно сам был обиженным, потерявшимся ребенком.
Чтобы добиться разрешения на развод, Брюллову пришлось писать прошение на имя министра двора князя Волконского, а также давать письменное объяснение шефу жандармов и фактически второму лицу в государстве – Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
Вот лишь несколько строк из этих унизительных, позорных объяснений.
«Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь обратиться к Вашей Светлости, как главному моему начальнику, и надеяться на великодушное покровительство Ваше…»








