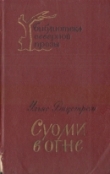Текст книги "Путеводитель потерянных. Документальный роман"
Автор книги: Елена Макарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Я врубила Битлз. «Эй, Джуд!» Мауд танцевала и хохотала. Как девчонка. Совсем другая Мауд. Не серая мышь.
– Ты влюблялась до Шимона?
Зря спросила. Мауд покраснела и уткнулась в фотографии, которые я привезла от Рене.
– Стыдно танцевать, когда занимаешься… всем этим. Деньги за разговор верну.
Как же глубоко погрузилась она в свое кино, каждый кадр выворачивает память наизнанку. Что кроме справедливости движет ею?
***
Преподаватели Еврейской гимназии в Брно. «Сэм Бак, погиб, Вальтер Айзингер, погиб, Драхман под вопросом. Эдельштейн погиб, Отта Унгар, профессор математики, погиб, инженер Фукс под вопросом».
– Кто из них кто? Где чья голова? Эх, Ренка, ну кто подписывает на оборотной стороне? Надо положить на фотографию кальку, обрисовать каждого… Есть у меня одна такая.
Я вынула из конверта оригиналы, нет такой, может, ксерокопировальщики не вернули?
– Неважно. – Мауд залилась краской. – Смотри, какая Рене хорошенькая, тоже танцует, как мы… Нет, это несправедливо. Учителей из Еврейской гимназии надо сдать.
– И вместе с ними весь мой архив.
Мауд окинула взглядом папки, которыми была занята вся стена.
– Да уж… Посмотри на Эвичку у фонтана. Что-то она грустная… Думаешь, предчувствие?
На второй фотографии у того же фонтана Эвичка повеселела.
– Слава богу, – улыбнулась Мауд, погладила ее по бумажной головке, но тут же спохватилась – ее же убили… – А это что? Рене-теленок, Рене-мышка, Рене-медведь… Наверняка у них была гувернантка. Вряд ли мать шила костюмы сама. У меня тоже была, но наряжала однообразно. Только в лисичку.
Мы убрали Рене из текста, оставили все, что касалось Эвы. Вышла тоненькая полоска.

Эва и Рене Киршнер, 1939. Архив Е. Макаровой.
– Мириам Сонненмарк, вот она, рот до ушей, четвертая слева в белом платье и гольфах. Сороковой год, тут ей восемь. А мы-то, крутые физкультурницы, кто, интересно, выстроил нас по росту? Справа – моя любимая подруга Рут, самая высокая, за ней я – самая грудастая. Знаешь, сколько мне здесь? Не поверишь, двенадцать. Такая вот я была – девочка в женском теле. Кстати, про Мириам я так ничего и не написала. Кроме того, что ее отец занимал высокий пост в еврейской общине Простеёва. Покажи ее рисунки, пожалуйста!
– У нас же есть фотография!
Мауд неумолима. Показала ей рисунки на экране. Девочки в клетчатых платьицах, цветы…
– А вот эта с прыгалкой она, сравни!
Сравнили. Точно она.
Мауд загрустила. Такая чудная девочка, а она ничего о ней не помнит.
Приклеили фото, отложили анкету в сторону.
Зато про Эву Мейтнер столько воспоминаний, а лица нет.
– Из Простеёва в Оломоуц мы ехали в одном вагоне. Оттуда до Богушовице, и пёхом в Терезин… Тихая, не особенно привлекательная, но очень славная девочка-очкарик. Сколько помню – всегда в очках, всегда за рисованием. А я, корова безмозглая, – Мауд постучала кулаком по лбу, – все прошляпила. Слушай, у тебя на выставке был потрясающий Эвин рисунок «Седер», давай ее там поищем, за праздничным столом…
Поискали, ни одной девочки в очках. А что делать с текстом, он же никуда не влезет!
«В Простеёве у семьи Вольф была текстильная фабрика и большой дом. Главой семьи был доктор медицины Оскар Вольф. У него был брат-близнец и две дочери. Незамужняя Хедвика увлекалась спортом, играла в теннис, ходила в походы, у нее была собачка. Другая, Хана, была замужем за Гансом Мейтнером, и у них была дочь Эва, на два года младше меня. Как большинство зажиточных еврейских семей, Мейтнеры держали гувернантку. Когда немцы захватили Судеты, евреи бежали кто куда, некоторые оказались в Простеёве: например, Грюнхуты с дочкой Зузкой. Прелестная пара – оба высокие, ладно сложенные, и Зузка – невероятная красавица с длинными светлыми волосами, пухленькая (что ей очень шло) и всегда со вкусом одетая в красивые коротенькие платьица. Она была очень самостоятельной, я бы даже сказала – самоуверенной. Благодаря старой госпоже Вольф, которая часто приглашала Эву и Зузку поиграть в саду (деваться-то еврейским детям было некуда), девочки стали неразлучными подружками. В Терезине жили в одной комнате, спали рядом. Эва продержалась до октября сорок четвертого, а Зузку депортировали в декабре сорок третьего… Представляю, как они плакали… Из семьи Вольф вернулся лишь Эвин дядя Отто, из семьи Грюнхут – никто».
– Семья Вольф в саду, и семья Грюнхут здесь, не хватает одной Эвы. Не любила фотографироваться? Убежала в туалет? Нет, ее бы подождали… Заболела? Вольфы стояли вплотную, чета Грюнхут тоже, одна Зузка бегала, расплывчатая. Придется отрезать их друг от друга. Но как? Голову вместе с чьим-то лбом?
– Для этого мы сделали копии. Главное, не перепутать, где чья голова.
Отрезали, приклеили.
Что делать с Эвой Мейтнер?
– Давай возьмем ее монограмму, смотри, как она изысканно свое имя разрисовала.
Взяли. Но как кромсать текст? Проще подклеить целиком к каждой анкете.
– Нельзя выходить из рамок!
– Иногда можно.
– Тогда пусть это будет на твоей ответственности.
Пусть.
Власта Хас.
– Вот она, моя Властичка, в нижнем ряду справа. Ты только посмотри на нее! А рядом Олли… Я сама их вырежу и приклею. Помнишь, я тебе говорила про апельсин? Первый был у господина Самета, а второй – у Властички. Прочти!
После истории с Ренкой я вышла из доверия.
«Последнее счастливое лето 1940 года. Несколько еврейских семей из Простеёва взяли на лето детей из еврейского сиротского приюта города Брно. У нас гостила Олли, а в доме моей подруги Рут – Властичка. Маленькая, шустренькая, с живым умом и острым языком.
Через два года я встретила Олли в Терезине. После тяжелой зимы в гетто она исхудала, оголодала, а Властичка как была, так и осталась – шустрая и жизнерадостная.
У нее был обожаемый брат Руди, и он мечтал об апельсине. Властичка решила во что бы то ни стало раздобыть ему на день рождения апельсин. Она нашла кого-то, кто получил это сокровище в посылке и согласился обменять его на три буханки хлеба. Подсчитаем: каждые три дня мы получали четверть буханки. Значит, Властичка примерно пять недель жила без хлеба! Не знаю, как она это выдержала, – но апельсин Руди получил.

На спортивной площадке «Маккаби» в г. Простеёв. Стоят (слева направо): Эва Фурман, Лидия Банд, Дита Хелиг, Мауд Штекельмахер, Рут Вайс. Сидят: Зденка Бергер, Регина Вейзенгоф, Олли и Власта Хаас, 1940. Архив Е. Макаровой.
В мае 1944 года немцы готовились к приему представителей Международного Красного Креста. Чтобы произвести хорошее впечатление, депортировали в Освенцим стариков, больных и сирот. Олли, Властичка и Руди оказались в списке».
– Лето сорокового года было самым счастливым, – повторила Мауд и уткнулась лбом в ладонь.
Она явно ждала вопроса: почему «самым счастливым»? Ясно, что-то сокрыто под этим панцирем из спрессованной памяти. Но я в поддавки не играю.
– Лили Хаусшильд. Не из твоего списка. Но зато есть фотография, посмотри, фарфоровая кукла!
– Да. Ты так и написала.
«Лили была похожа на фарфоровую китайскую куклу: нежная кожа, розовые щеки, большие зеленые глаза и золотые кудри. Вот только голос надтреснутый. Может, потому, что она была из Судет и плохо владела чешским. Матери у Лили не было, а отец был слепым. Лили о нем заботилась, по нескольку раз в день ходила к нему в казарму, пыталась раздобыть для него еду, водила к врачам. Некогда ей было рисовать. На куцем, запинающемся чешском она рассказывала нам о своих бесчисленных горестях».
– И вот транспорт слепых… Идут, щупают дорогу палками, и среди них – фарфоровая кукла Лили. Она вызвалась сопровождать отца. Представь себе, слепые не видели, куда их ведут, а бедная Лиля все видела… Не могу себе представить… И зачем это представлять? Кого это сегодня трогает?
Мауд сникла. Она пытается достучаться до человечества, а оно – в берушах.
– Даже если это нужно одной тебе…
– Тогда это эгоизм, – перебила меня Мауд, – гадкое намерение обслуживать собственные комплексы…
Кажется, пора сделать перерыв. Собрав в пакет обрезки голов и туловищ, – ничего не выкидывать, пока не закончим, – мы вышли из дому.
Несгораемый шкаф
С пригорка, обсаженного соснами, открывался дивный вид на монастырь Креста и оливковую рощу, вдалеке белели кубы израильского музея, но Мауд в ту сторону и не глядела, она выискивала полураскрытую шишку, в которую можно было бы всунуть голубенький цветочек. Нашла! Цветочек держался, Мауд добавила еще несколько. Вышел букетик. В Израиле запрещено рвать цветы. Но ради того, чтобы показать мне фокус, которому ее научили в детстве, законопослушная Мауд пошла на преступление.
– Когда мне было лет десять, мы проводили лето в Татрах и познакомились там с двумя еврейскими семьями – Шмидты с сыном-красавцем и Келлеры со взрослой дочерью Ханой. Мы гуляли по лесу, и Хана научила меня чудесной вещи – «начинять» еловую шишку цветами. А я научила этому своих внуков. Без ссылки на источник. А что, если память о Хане и есть еловая шишка с цветочками? Но это так, лирика.
***
Мы принесли «лирику» домой и поставили ее на полку с архивными папками.
Татры, 1938 год. Шмидты есть, но меленькие. А Келлеров и вовсе нет.
– Такими я их и запомнила, – вздыхала Мауд, глядя на отсканированных Шмидтов, теперь занявших весь экран. – Жаль уменьшать.
Я распечатала больших Шмидтов дважды. Отрезать их друг от друга без повреждений было непросто, так что этим занялась я, а Мауд вырезала сына-красавца, он стоял в стороне от родителей.
От Шмидтов – к Рите Кребс, ей было пятнадцать (высокая, стройная, смуглая, с черными курчавыми волосами, красивая и, как мне тогда казалось, задавака); от нее – к Маргит Поргес (тихая, с большими грустными карими глазами, темной кожей и чувственными губами, – ее отец был ортопедом).
– Подумай, чему я радуюсь, – усмехнулась Мауд, вырезая девочек из школьной фотографии. – Лица есть! Но сами-то пропали… Нескончаемая череда прекрасных, добрых людей, жаль, как жаль…
***
Пришла из школы дочь, придала темп работе. Мауд вырезала головы, Маня подцепляла их на палец, смазывала клеем, влепляла в квадрат.
– Главное, не перепутать, – твердила Мауд, выдавая ей очередное лицо и с ним вместе анкету. – Это госпожа Флуссер, мать знаменитого профессора Давида Флуссера, специалиста по раннему христианству. Он приехал в Палестину в 1939 году. В его биографии и словом не упомянуто о том, что стряслось с его матерью. Она работала в пошивочной, ужасно симпатичная. Сшила мне из старья платье и кофту. Но это не вся история. А дело было так: однажды мы с мамой и сестрой получили повестку на транспорт. Мы спрятались, а наши вещи отправили в Освенцим… Поезд должен был увезти тысячу единиц хранения, ровно. Кто были те трое, которых отправили вместо нас? Как ты думаешь, сохранились финальные списки? Если да, то наши имена должны быть вычеркнуты, а их вписаны.
– Последние списки сожжены нацистами.
Ложь, произнесенную уверенным голосом, легко принять за правду. Мауд вернулась к платью, которое ей сшила мать знаменитого в будущем профессора.
– А я шила юбки из разноцветных тряпочек, вырезанных ромбиками, для куклы Оленьки. Крик терезинской моды. В нашей комнате была одна модница, которая меняла еду на тряпки и так исхудала, что заболела туберкулезом.
– Где госпожа Флуссер? – спросила Маня, обмакивая палец в клей.
– Ее нет, – ответила Мауд.
Маня вытерла палец салфеткой.
– А почему ваши дети вам не помогают?
– У каждого есть тайна, – ответила Мауд. – Она в сердце. Я свою тайну спрятала в несгораемый сейф. Ведь сердце невзначай может остановиться…
– А где сейф, дома? – спросила Маня.
Мауд заплакала. Слезы размыли ксероксные лица семьи Шпрингер. Ничего, есть копии!
– Нет. В банке «Апоалим». Эти фотографии тоже оттуда. Мои дети их никогда не видели.
– А что там еще? – спросила я.
– Много чего. Целый чемодан…
– Вещей из Терезина?
– В том числе. Можно мне принять душ?
Запах одиночества
Мауд мылась, я кормила Маню обедом.
– Из всех твоих старушек эта казалась самой нормальной, – сказала Маня, уминая борщ за обе щеки. – Но и самая нормальная не того, – покрутила она пальцем у виска.
– А разве это не ты писала сама себе записки от мальчиков и прятала их в железную коробочку из-под монпансье? «Маня, я тебя люблю, завтра поцелую». Твоя тайна умещалась в коробочке, а Мауд пришлось купить несгораемый шкаф.
Маня отпросилась в гости к подружке, а я вернулась к заваленному бумагами столу, распечатала мелким шрифтом два длиннющих текста. Один про подругу мамы Мауд, одинокую старую деву Лоли Шпрингер, у которой были щуплая и очень нервная мать и старый седобородый отец в пенсне, больной душевно и физически. Когда-то Лоли была юной и играла в теннис, эта единственная фотография со времен молодости ее родителей хранилась у Мауд. В 1941 году родители отправили Мауд к Лоли – доводить до совершенства разговорный немецкий, – что они себе думали, осталось неясным, но ей пришлось отдаться в руки синему чулку, тщедушной женщине в очках и в заношенной трикотажной робе до пят. От Лоли пахло одиночеством, и этот запах застрял в ноздрях Мауд. Лоли расстреляли в Барановичах в июне 1942 года, а ее родителей уничтожили в газовой камере Освенцима в октябре того же года.

Густа и Рут Зборовиц, Густа Штайнер, 1939. Архив Е. Макаровой.
Другой рассказ был о Густе, двоюродном брате Мауд, и его отце, овдовевшем Йозефе, которому пришлось растить сына, чтоб вдвоем с ним погибнуть в Барановичах.
– А как ты думаешь, самоубийцу в Зал имен примут?
Мауд вернулась из душа чистенькая, мытенькая, нашла в куче бумаг отца.
– Посмотри на него! Франт, каких свет не видел, и вот что сотворил… Вырезай его сама.
Вырезала. Оставила его без ног и без тросточки, но и так он в квадратик не уместился. Пришлось отрезать низ пиджака. Приклеили, тютелька в тютельку.
– Теперь Густа, – памятуя о разрушительном действии влаги, Мауд держала наготове носовой платок. – Смотри, какой толстяк! Похудел бы – стал бы сердцеедом… Видно по чертам лица – глаза большие, карие, кудри густые, цыганские, носик вздернут… Мы были не разлей вода. Вместе играли, гуляли, проказничали, но и вели умные беседы. Летом, по воскресеньям, я спозаранку заявлялась в волшебный дом неподалеку от замка. Дядя Йозеф с моим прадедушкой купили его, когда выбрались из еврейского квартала. В подвале располагалась кожевенная лавка. О, этот запах! И по сей день упоительный запах кожевенной фабрики или просто сапожной мастерской переносит меня в далекое и, наверное, самое счастливое время…
Густа, где он постарше и расчесан на косой пробор, легко отрезался от Йозефа с огромным лбом в тройке и при галстуке – на фотографии они едва касались лбами.
– Оттуда мы шли в далекий лес, гуляли, собирали ягоды, грибы и полевые цветы. Дядя Йозеф разводил костер. Зимой, по воскресеньям, я ходила к бабушке обедать. Еда была вкусной, а бабушка очень ласковой. Потом Густа спускался к нам, и мы или играли в какую-нибудь игру, или тренькали на большом дедушкином рояле, или отправлялись кататься на санках. В Терезине я совершенно случайно столкнулась с Густой, он подарил мне конфету, всамделишную. Наверняка он берег ее для себя. Такие вещи в гетто не водились. Я не знала, что вижу его в последний раз. Не знала, что они с дядей Йозефом получили повестку, все произошло молниеносно.
Мауд слово в слово пересказала текст, который я только что прилепила к анкете, и ненадолго умолкла.
– У тебя ведь тоже есть свои истории, а ты занимаешься чужими.
– Это проще.
– Где они в тебе умещаются?
Я указала на стеллаж с папками.
– А меня ты где хранишь?
– Видишь, «Дети Терезина», четвертый том?
– Да. А почему я в четвертом?
– Там те, кто выжил.
Вырезали и приклеили бабушку в молодости с двухэтажной прической, крепенького юного дедушку с воротничком под горлышко.
– Они жили на первом этаже, в самой большой и самой красивой квартире, а Густа с Йозефом занимали второй этаж. Я любила навещать бабушку. Она ничего от меня не требовала, никогда меня не ругала, одним словом, чистая радость.
Вырезали и приклеили любимую подругу Рут, писаную красавицу с волнистыми волосами, вырезали из сонма подруг каждую в отдельности, – не все, прямо скажем, красавицы, – но все убитые… Вырезали почетных граждан еврейской общины города, – Мауд помнила, кто в их синагоге на какой скамье сидел, соседей по дому, еще каких-то дальних родственников…
Поздним вечером на столе образовалась стопка высотой в полметра, а вокруг стола и под ним – ковер из обрезков. Ползая на четвереньках, Мауд подбирала неповрежденных, всех, даже тех, у кого отрезаны край шляпы или пара кудрей. Не может она выкинуть живых людей на помойку.
Зал имен
Утром мы поехали в Яд Вашем. В Зале имен было приемное окошко. «Вся память» в него не влезет, только по частям. Чтобы ускорить процесс, я позвала приятеля, научного сотрудника данного заведения. Мауд сдала ему на руки «всю память», спросила про место хранения.
– В принципе, каждому документу присваивается инвентарный номер, – объяснил ей мой приятель, – под этим номером он проходит сканирование, после чего помещается в базу данных. Оригиналы хранятся по шифру уложения.
– Я хочу видеть конкретное место.
– К сожалению, вход туда разрешен только сотрудникам.
– Но Лена ведь тоже здесь работает, – не отступала Мауд.
– Искусство – это другой департамент.
Пришлось звонить начальству. Позволило.
Мы попали в святая святых памяти. Полутемное помещение со стеллажами в десятки рядов, казалось, не имело ни конца ни края.
– Где будут лежать мои? – спросила Мауд.
– Здесь. Но не сразу. После обработки.
– Где производится обработка?
– В приемке.
– Где приемка?
– У окошка.
– Так зачем же мы отдали их вам?
– Чтобы я передал дежурному сотруднику.
– Где он?
– Это Катрин, девушка в окошке.
Мы вернулись к приемке с тыльной стороны.
Мизансцена со святая святых оказалась лишней, но Мауд была довольна – теперь она знает, где физически обитает память о каждом из шести миллионов. Катрин пересчитала анкеты. Их оказалось шестьдесят семь.
– Всего? – удивилась Мауд.
Катрин пересчитала снова, из уважения к пережившей Катастрофу. Шестьдесят семь.
– Ничего, что некоторые без фотографии, а некоторые с рисунком вместо фотографии? – спросила Мауд.
Разумеется, важна правдивая информация. Но это – не к Катрин. Ее дело – заполнить карту подателя и выдать квитанцию о приеме.
***
Вышли из Зала памяти налегке. Куда там!
– Думала, сдам и все… Нет! Они все равно тут, – постучала Мауд пальцем в седой висок.
Мы поднялись в гору и сели на автобус. Трамваев в Иерусалиме тогда не то что не было, о них даже не помышляли. Сейчас от Яд Вашем до центральной автостанции мы бы добрались за семь минут, а тогда приходилось кружить вокруг города.
Всю дорогу Мауд нудила: «Забыли сдать твоего дядю, не заполнили анкету на Ханичку Эпштейн. Да, она была не совсем в своем уме, в одиннадцать лет писала в постель. Но ведь ее убили! Могли бы и о ней сказать. Конечно, не то что она была ненормальной и писала в постель… Еще была такая Бедржишка Мендик, из двадцать третьей комнаты. Темная, неряшливая, может, даже умственно отсталая, несчастный туповатый дьяволенок… Но ведь и ее сожгли… Я бессовестная, раз помню такие гадости. Хорошо, что нашлась Рене… Сколько стоил разговор? Точно не меньше пятидесяти шекелей. А твоя работа?»
Я молчала. Мауд искала, к чему бы прицепиться, и в конце концов вцепилась зубами в носовой платок.
– Я тебя обманула, – процедила она сквозь зубы, прикрыла ладонью рот и умолкла до конечной остановки.
Автобус в Тель-Авив отправлялся через пять минут. Мауд пребывала в разобранном состоянии. Уговорить ее остаться? До вчерашнего дня все было просто и ясно. Совестливая душа, с этим непросто жить, но она справлялась… Поддаться, спросить про обман?
– Ты громко думаешь, – отозвалась Мауд. – Скажу одно – мы не сдали самого главного человека.
Я провела рукой по ее голове. Волосы как наждачная бумага.
– Позволь мне еще раз к тебе приехать. С чемоданом.
– Навсегда? – пошутила я неловко.
– На пару часов. Без ночевки.
Чемодан
Через неделю в семь часов утра я встречала Мауд на автостанции. После того как сестра одного погибшего художника назначила мне встречу в Беэр-Шеве в шесть утра, семь в Иерусалиме – это по-божески.
Мауд вышла из автобуса первой. В косынке и без чемодана.
– Он в багажнике, – объяснила Мауд. – Не хотела класть его туда, но водитель настоял. Наверное, я сумасшедшая, – хихикнула Мауд, когда багажник открылся и она увидела чемодан. – Куда он мог деться из автобуса? А я всю дорогу дрожала.
Чемодан и впрямь оказался нелегким.
– Возьмем такси. Нечего таскать на себе такую тяжесть. Хватит той, что внутри.
Дома мы водрузили чемодан на тот же стол, за которым неделю тому назад собирали в кучу память. Судя по всему, это было лишь увертюрой к опере.
За эту неделю я успела побывать во Франкфурте, подписать все бумаги, касающиеся транспортировки выставки из Иерусалима, огорчиться из‐за небольшой, относительно Яд Вашема, площади тамошнего еврейского музея и из‐за новой статьи для немецкого каталога, которую придется писать. Трудно возвращаться к пройденному. И только взявшись за статью, я поняла, что «пройденного» нет, любой материал – это тема с вариациями, а они бесконечны.
– Молнию заедает, аккуратней, пожалуйста!
Старый клетчатый чемодан поддался, и мы принялись выгружать на стол его содержимое. Сначала громоздкие предметы – бабушкину кастрюлю, она была с ней в Терезине, ее же ковш и железные кружки, раскладной деревянный стул – на нем все сидели по очереди, маленькая Ханичка очень его любила…
– А я больше всех на свете любила бабушку, но это ты и так знаешь. Вскоре после приезда в Терезин бабушка овдовела. Ей пришлось лицезреть все тяготы жизни, через которые прошла моя мама, ее единственная дочь, и мы, ее внучки. Как и все, она привыкла спать на голом полу в переполненном помещении, привыкла к голоду… Прежде дородная, она стала похожа на скелет в косынке. Кстати, это ее косынка, как увидела… Бабушка так боялась отправки на восток. Может, она умерла в поезде? Или она доехала, разделась и пошла туда… Говорят, в Треблинке их сначала заставляли бежать, они падали с ног…
Мауд обхватила голову руками.
– А вот и кукла Оленька, – сказала я, – и Мауд тотчас включилась в другую историю. Как ребенок.
На кукле была бирка с именем. С пошитой Мауд юбки сыпались обесцвеченные временем ромбики – крик терезинской моды. Я принесла микалентную бумагу – подарок реставраторов, – и запаковала куклу.
– Муж моей сестры запретил хранить Оленьку дома.
– Он тоже из ваших мест?
– Нет, из Марокко.
– Ему-то чем кукла мешает?
Мауд пожала плечами, пригладила седой бобрик.
– У меня про Оленьку есть короткий рассказ, кажется, я тебе посылала. Когда мы отправлялись в Терезин, семилетняя Карми несла в рюкзаке алюминиевый ночной горшок, фаянсовый не годился – тяжелый и легко бьется, – одежду, а главное, Оленьку. Через три года безоблачным жарким днем мы оказались вот с этим всем на пороге нашего дома. И тут Карми как завопит: «Оленькина рука опять оторвалась!» Мама нашла в рюкзаке иголку и нитку и, присев на порог, пришила руку на место.
– Надо отнести к реставратору. В Яд Вашеме большая коллекция кукол из концлагерей.
Мауд не отозвалась, она распаковывала вещи, завернутые в газету.
Серая фетровая шляпа. Вполне сохранная…
– Шляпа самоубийцы переживет века, – вздохнула Мауд.
– Папина?
– Нет. Это доброе сердце моей бабушки. Она взяла под крыло одинокого беспомощного еврея из Германии. Транспорт стариков прибыл летом сорок второго, их расселили на переполненном чердаке. Однажды вечером подшефный пришел к бабушке и попросил сберечь его единственную ценную вещь – вот эту шляпу. Наутро его нашли на чердаке повешенным. А шляпу бабушка сберегла. Она умела держать слово.
Записная книжка с мизинец, дедушкина. Одни цифры. Давление и время приема лекарств…
– Не помогло. Умер в Терезине. Дураки мы с Шимоном, тоже все записываем… Он еще и будильник ставит, чтобы лекарство не проспать.
Вторая книжечка, чуть потолще, разлинована от руки. В ней – даты и часы проведения лекций, имена лекторов, в основном по иудаизму; отец организовывал культурные программы. Это необходимо отсканировать.

Макс и Штепанка Штайнер, 1907, дедушка и бабушка Мауд. Архив Е. Макаровой.
Часы. Большой циферблат с римскими цифрами. Те самые, которые важно было не потерять…
Общая тетрадь. Дневник Мауд. Карандашный рисунок центральной площади гетто с датой, 21 июня 1943 года, девочки-модницы в одежде с множеством карманов, наброски людей…
– Так ты здорово рисовала!
– Думаешь? Нет, это просто так.
– Прочти что-нибудь из дневника.
– Наугад?
– Давай наугад.
– «Не хочу оставаться в галуте; уеду в страну, о которой могу сказать одно – она наша. Я не упертая националистка, но отказываюсь жить за чужой счет». Ля-ля-ля… «В кибуцах будет жить рабочий класс, но это будут мыслящие люди, а не автоматы. Их цель – не богатство и пустое наслаждение, а образование, труд и служение добру. Жизнь улучшится, если сам человек станет лучше». Ля-ля-ля… «И не нужны будут рестораны, салоны красоты и прочие выкрутасы, с которыми в жизнь проникают ложь, легкомыслие, зависть и прочая дурь». Видимо, я предчувствовала, что выйду замуж за Шимона. Кстати, в рестораны он по сей день не ходит. «Представляю себе Эрец как новую страну, которая справится с теми ошибками, которые мы совершили, живя среди чужих народов. Как только наш народ объединится, объединится весь мир». Ля-ля-ля… Да, неспроста я за него вышла. В Терезине я верила в сионизм, но, попав в жару и мошкару, сникла. Тут-то и подвернулся Шимон. С его непоколебимой верой в Израиль. До сего дня. «Чтобы не жить в постоянной обороне, нам нужна Родина. Ее возрождение». Но и Родина не спасает. Сидим в противогазах. То есть сидели, три месяца тому назад. «Бог, искусство, красота, добро – сегодня все это так далеко от нас. Наверное, пройдут сотни или тысячи лет, пока эти понятия настолько в нас укоренятся, что мы будем думать о них так, как сегодня думаем о вещах насущных – заработке, пище и т. п. …Имеет ли жизнь смысл сама по себе? Не человек ли призван наполнить ее смыслом?» Тут я уже похожа сама на себя. Шимон абстрактных рассуждений не любит.
Мауд тянула резину. Не для обсуждения сионистских или даже общечеловеческих идей ехала она ко мне с чемоданом. Меж тем он пустел, на дне оставалось несколько газетных свертков. Мауд наверняка знала, что в них, но никак не могла подступиться.
– Это второй дневник, я писала его уже в детском доме, куда меня после всего устроил отец, чтобы я примкнула к коллективу.
Осталось задать вопрос, и подступ к сверткам будет открыт.
– Где первый дневник?
– Я его сожгла.
– В Терезине?
– В Израиле. После того как дала Шимону слово.
– А это почему не сожгла? – кивнула я на газетные свертки.
– Увидишь, – сказала Мауд, потупив очи долу.
Пакетики. «Незабудка», 30 мая 1942 года, «Лютик», 5 июня 1942 года, «Роза», 8 декабря 1941 года… Заглянула внутрь. Пожухлые лепестки прилипли к бумаге.
– Надо показать реставратору.
– Дарю, – Мауд раскраснелась. – И что ты будешь с ними делать?
– Помещу на выставке, между пуленепробиваемыми стеклами.
– Смеешься надо мной?
– Что ты! Если позволишь, я правда это сделаю. Обещаю.
Защелка
В последнем свертке оказалась сумочка с металлической защелкой. Мауд нажала на защелку и оттуда выпорхнула фотография. Я поймала ее на лету.
Молодой мужчина с усиками и при галстуке внимательно, чуть исподлобья смотрел на меня. Точно как Мауд, изучающе-выжидательно.
– Знакомься, Герман Тандлер. Это его цветы.
Внизу рукой Мауд приписано: «Bx № 1449, 22 октября 1942, Треблинка».
– Об этом я узнала после войны. Его мать записали на транспорт, он поехал с ней, добровольно. А это наши с Германом транспортные номера. Я вышила, гладью.
Мауд погладила их рукой и положила на лицо Германа. Подумав, она приставила его фотографию к кастрюле, села на корточки и застыла.
С тех пор при слове любовь передо мной встает одна картина – Герман, приставленный к кастрюле, и Мауд, сидящая перед ним на корточках.
Оставив их наедине, я вышла на балкон. Облетела турецкая сирень. Светло-фиолетовые цветочки покрыли ковром серый бетон. Собрать и засушить?
Докурив сигарету, я вернулась в комнату. Мауд держала на ладони малюсенького фарфорового слоника.
– Герман подарил. И эту божью коровку тоже. А мышка куда-то задевалась. Он звал меня мышкой. Мауси. Вот я и задевалась. Кстати, вот и фотография, о которой я тебе говорила, с контурами на папиросной бумаге.

Герман Тандлер, 1940. Архив Е. Макаровой. Транспортные номера Мауд и Германа. Фрагмент афиши документального фильма «Встретимся», 1997. Фото Е. Макаровой.
Фото в саду. Лето 1941 года. В первом ряду – светленькая стройная мама Катерина обок с не очень веселым папой Фрицем, маленькая Карми верхом на детском велосипеде и грудастая Мауд с затаенной улыбкой. За спиной Мауд, склонившись к ней, сидит совсем другой Герман, веселый, с пышной шевелюрой, а за спиной Катерины – Дора, мать Германа. Счастливое семейство.
Бедная Мауд.
В сумочке лежал конверт. Терезинские письма Германа, на тонюсенькой бумаге.
– На просвет что-то видно, – Мауд поднесла письмо к окну, – да не очень… Не волнуйся, я их переписала, – Мауд достала из-под тряпочной чемоданной обивки листы в клетку. – Тогда мне удалось разобрать почти все. Теперь я бы не справилась. Но это дорого только мне. Для посторонних там нет ничего интересного… Он жил в мужской казарме, сотни мужчин, шум, крик… Потом он начал кашлять, заболел затяжным воспалением легких… А когда выздоровел, его мама получила повестку, и он отправился с ней. Но все же нам удавалось встречаться… И это было чистое, беспримесное счастье.
– Как вы познакомились?
– У нас дома. Герман с матерью и тетей бежали из Судет и оказались в Простеёве. Их подселили к нам. Мы считались богатыми и должны были потесниться. Ему было 24, мне не было и тринадцати. Все приходилось скрывать. Мы встречались тайно, в прихожей прятали записки в ботинок – где и когда свидание. Эх, все это детские глупости. Давай заполним анкету, ты еще хотела сделать копии, а мне нужно успеть сдать чемодан в сейф.

Дора и Герман Тандлер в верхнем ряду; Штекельмахер Катерина, Фриц, Мауд и Кармела на велосипеде. г. Простеёв, Садки, 9. Архив Е. Макаровой.
Штрихпунктирные встречи
Прошло пять лет. За это время я умудрилась побывать на разных континентах, переговорить с сотней людей, переживших концлагеря, собрать материал на несколько томов, пропутешествовать с выставкой «Культура и варварство» по скандинавским странам и поучаствовать в съемках трех документальных фильмов.