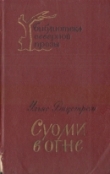Текст книги "Путеводитель потерянных. Документальный роман"
Автор книги: Елена Макарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Осколки древних амфор
В августе 1945 года два чемодана с детскими рисунками из Терезина были доставлены в еврейскую общину Праги. Что значит – доставлены? Кем? Кто их туда внес, чьи это были руки? 4500 рисунков – нелегкая ноша, особенно если учесть, что многие выполнены на плотной чертежной бумаге и на лагерных формулярах. Плюс коллажи, которые куда весомей рисунков…
Этими вопросами я донимала сотрудников Еврейского музея в Праге. Но тщетно. Ответ мне дала Рая Энглендер, дочь старшей воспитательницы детского дома девочек: «Перед уходом на транспорт Фридл22
Фридл Дикер-Брандейс родилась 30 июля 1898 года в Вене, училась в частной школе Иттена, затем в веймарском Баухаусе (1919–1923). В 1922‐м начала преподавать студентам «Вводный курс» Иттена. Работала в разных областях искусства: скульптуре, графике, живописи, дизайне и сценографии. В 1934 году, после правого путча в Вене, была арестована за «подрывную деятельность». После освобождения из тюрьмы эмигрировала в Прагу, где в 1936 году вышла замуж за своего кузена Павла Брандейса. В 1938 году супруги переехали в Гронов, откуда 17 декабря 1942 года были депортированы в Терезин. Там Фридл преподавала детям рисование, используя методику Баухауса. 29 сентября 1944 года Павла депортировали в «новый рабочий лагерь», а 6 октября 1944 года Фридл добровольно последовала за мужем. Лагерем оказался Освенцим-Биркенау, где Фридл погибла 9 октября 1944 года. Пять тысяч рисунков, выполненных детьми на занятиях с Фридл, вошли в сокровищницу мировой культуры. До недавнего времени произведения самой художницы оставались в тени. Ныне, благодаря моей монографии и выставкам в разных странах мира, они получили признание. Роман «Фридл» издан в 2012 году в издательстве «Новое литературное обозрение».
[Закрыть] показала моей маме, где спрятаны чемоданы, и Вилли Гроаг, директор нашего детского дома, который, кстати, прекрасно знал Фридл, перенес их в комнату воспитателей. Там они и хранились. Мы с мамой отбыли из Терезина сразу после того, как сняли карантин, а Вилли оставался там до конца лета. Чемоданы с рисунками он отвез на склад в здание пражской синагоги, куда сдавали все, что осталось в лагере, после чего отчитался перед моей мамой – принято на хранение работником еврейской общины таким-то… Если Вилли жив, искать его надо в Израиле».
Впервые оказавшись в Израиле в ноябре 1989 года, я по справочной нашла номер телефона Вилли Гроага. На вежливо-осторожный вопрос: «Чем могу служить?» – я отрапортовала по-пионерски: «Хочу поговорить про Фридл». «Про Фридл? – переспросил он задумчиво, – жду! В любое время, хоть сейчас. Жду до полуночи и после полуночи». Дело было вечером, и, как объяснили мне друзья, в такую пору из Иерусалима в кибуц Маанит добраться можно только на машине. «Отвезите», – взмолилась я. Всю дорогу – а она заняла около двух часов – они говорили о том, что кибуцники ложатся спать засветло, что въезд в кибуц может быть закрыт, поскольку вокруг него неспокойные арабские поселения, что я поддалась на розыгрыш остроумного старика, – а я вдыхала запах апельсиновых рощ вперемешку с навозом. И молчала в тряпочку.
В кибуце Маанит светилось лишь одно окно, у которого мы и остановились. Из одноэтажного домика вышел человек с голубыми глазами, даже в темноте они были голубыми.
– Вилли Гроаг, – представился он. – Вильгельм Франц Мордехай Гроаг, в соответствии с метриками. Должен вас предупредить, моя жена Тамар спит. Она встает на работу в пять утра. Так что будем шептаться.

Вилли Гроаг и Елена Макарова, 1991. Фото С. Макарова.
Мои знакомые что-то пролепетали на иврите и сели в машину. Чао, бай-бай!
Вилли открыл передо мной дверь, и я на цыпочках вошла в освещенную комнату. Картины… Но не Фридл. Небольшие скульптуры в стиле чешского барокко. Потрогала.
Плотная бумага, затонированная под бронзу.
– Это работы моей мамы Труды, – объяснил Вилли. Он не спускал с меня глаз, разглядывал, как художник модель. Погасив верхний свет, он поманил меня к двери. Мы вышли. Светила сумасшедшая луна, пели цикады.
– Поедем в Хадеру. А потом я уложу тебя спать на диване.
Семидесятипятилетний юноша подвел меня к машине, стоящей под огромным деревом напротив дома. Мы сели и поехали. Снова дорога, уже знакомая, запах из коровника, запах апельсинов, аллея с высокими деревьями, шоссе.
Я спросила Вилли, почему у него три имени.
– Так сложилось исторически. Я родился в Оломоуце в разгар Первой мировой войны. У кайзера Вильгельма было второе имя – Франц. В семье с почтением относились к еврейской традиции. Деда звали Мордехай. Так что мое третье имя – Мордехай. Сложи и получишь – Вильгельм Франц Мордехай. Вполне подходящее имя для ребенка, родившегося в буржуазной семье и воспитанного в немецко-еврейской традиции.
Человек, который хорошо знал Фридл, вел машину. Я смотрела на него в профиль – нос с резкой горбинкой, твердый подбородок, седая прядь на высоком лбу.
– Хочешь еще что-нибудь спросить?
– Да. Про Фридл.
– А кто она такая вообще? – воскликнул Вилли и положил руку на мое плечо. – Скверный старикан тебе попался. Ничего его не интересует, ни Москва, ни перестройка, ни Горбачев! Заманил девушку на ночь глядя и везет в Хадеру… Говорит только о себе. Так вот, учился я в немецкой школе, чешский язык там преподавался как иностранный. Потом стал химиком, учился в Праге и Брюсселе, потом служил в чешской армии довольно долго, а потом настал тридцать девятый год. Пришли немцы. Куда бежать? Перейти польскую границу? Поступить на службу в британскую армию? Вступить в «Хехалуц»? Эта организация занималась нелегальной отправкой в Палестину. Но для этого нужно быть сионистом. У меня была знакомая в Южной Америке. Ее отец пытался перетащить меня туда с помощью эсэсовцев. Он устроил мне встречу с эсэсовским генералом. Я был в ужасе. И тут мой друг Гонда Редлих33
Эгон (Гонда) Редлих родился 18 октября 1916 года в Оломоуце, Моравия. В 1930‐х – лидер молодежного сионистского движения в Чехословакии. Депортирован в Терезин из Праги 4 декабря 1941 года. Член совета старейшин гетто, ответственный за организацию жизни детей и подростков. В Терезине вел дневник на иврите и по-чешски. Преподавал иврит. Писал пьесы. Депортирован в Освенцим 28 октября 1944 года вместе с женой Гертой и полугодовалым сыном Даном. Все погибли. Дневник Э. Редлиха целиком опубликован в первом томе книги «Крепость над бездной.Терезинские дневники» (далее – КНБ-1).
[Закрыть] предлагает мне работу в «Маккаби ха-Цаир». Я говорю ему: «Дай прочесть что-нибудь про сионизм, что это за штука такая». Гонда дал мне две брошюры, про кибуц и еще про что-то, уже не помню. Через месяц я стал одним из лидеров пражского отделения «Маккаби ха-Цаир». Вокруг нас сплотилась вся еврейская молодежь. У нас были летний лагерь и своя школа, где мы с Гондой преподавали. Потом я ушел оттуда, занялся сельским хозяйством. Готовился к будущей жизни в кибуце. Гонда погиб, а я стал кибуцником. Интересно, правда?

Фридл Дикер, 1928. Архив Е. Макаровой.
Я кивнула.
– Это Гонда назначил тебя заведующим детским домом девочек?
– Да, но не сразу. В сорок втором мы всей семьей оказались в Терезине. Поначалу я работал на строительстве железной дороги Богушовицы – Терезин. Это было интересно, прежде мне не приходилось прокладывать дороги. Потом я стал балагулой. У нас с приятелем были две белые лошади, необыкновенные – они не умели спать стоя. Приходилось подымать их по утрам. Ложились белыми, вставали черными! С пропуском на выезд за пределы гетто мы стали белыми людьми, как наши лошади, разживались куревом, хлебом, – гешефт! Но тут снова является Гонда, просит меня оставить лошадей и перейти работать в детский дом. Другу не откажешь. Это был очень большой дом для девочек 12–17 лет.
Вилли притормозил у пестрого магазинчика. Около него стояли три белых круглых пластиковых стола и белые пластиковые стулья. Мы сели друг против друга, Вилли в голубой рубашке и голубых джинсах под цвет глаз; не помню, в чем была я, но помню иссиня-черное небо в звездах и апельсиновую луну.
Вилли пошел в магазин и вернулся оттуда с белыми бумажными стаканчиками, в них был кофе, снова ушел и принес две булки.
– Все, – сказал он, – теперь про Фридл. Спрашивай!
Я спросила, какая она была.
– Да вот такая! – указал он на меня пальцем. – Маленькая, как ты, но поплотней, глаза как у тебя, только побольше и поширше, но общее выражение – твое, это первое, что я заметил. Есть глаза, которые фиксируют, глаза, которые считывают информацию, а есть глаза, которые рисуют. Такие у нее были глаза. И у тебя такие. Однажды на занятиях она взяла у меня альбом и за минуту, не вру, нарисовала в нем лицо акварелью. Несколькими пятнами слепила форму и усадила глаза, и они смотрят, смотрят и смотрят.
– А где альбом?
– Дома. Не волнуйся, завтра все покажу.
Так мы сидели на белых стульях за белым столом и пили коричневую бурду.
– «Боц» – кофе для ленивых израильтян, – объяснил Вилли. – Сыплешь его в стакан, заливаешь кипятком. Фридл написала мне письмо…
– Где оно?
– Терпение! Утром все увидишь. Ты как Фридл, все ей подавай немедля, сию секунду! Я как-то спросил ее, что мне делать после войны: работать химиком, по профессии, или стать художником. И наутро получил развернутый ответ о том, что такое талант и с чем его едят. Я учился у нее в Терезине на дневных курсах. Скорее всего, она не увидела во мне большого таланта, так что пришлось вернуться к химии и работать на кибуцном заводе по производству фруктозы. Рисую я в свободное время в своей собственной мастерской.
– Можно будет посмотреть?
– Конечно! У нас в роду все художники-любители. И мама Труда, и папа Эмо44
Гертруда (Труда) Гроаг родилась 28 декабря 1889 года в Забре-на-Мораве, Моравия (ныне Хохенштадт, Австрия). Выйдя замуж за Эмо, Труда занималась воспитанием детей, а также литературой, садоводством и рисованием. 4 июля 1942 года депортирована в Терезин с мужем и сыном Вилли. Работала медсестрой в больнице для стариков, где написала цикл стихов «Песни медсестры», а также воспитательницей в детском саду. В Израиле – соцработник и скульптор. Труда Гроаг умерла 7 июля 1979 года в Кирьят-Тивоне. Эммануэль (Эмо) Гроаг родился 25 мая 1886 года в Оломоуце. Владелец завода по выработке солода. Одаренный карикатурист и рассказчик. С Гертрудой у них было трое сыновей – Ян, Лео и Вилли. Дом Гроагов в Оломоуце посещали такие знаменитые люди, как Людвиг Витгенштейн, Карл Краус и др. Ян и Лео успели эмигрировать в Палестину. Эмо, Труда и Вилли были депортированы в Терезин 4 июля 1942 года, где Эмо работал плотником и учителем труда, а также устраивал юмористические чтения для больных, стариков и инвалидов. В 1949 году Гроаги репатриировались в Израиль. Эмо умер в Хайфе 19 мая 1961 года.
[Закрыть], и оба моих брата. Профессионалом был мой дядя Жакоб Гроаг, правда, архитектором. Он участвовал в постройке виллы для сестры философа Витгенштейна. В Вене.
– В Вене он работал вместе с Фридл над проектом теннисного клуба, – добавила я.
Вилли попросил у меня сигарету. Так-то он не курит… Разве что когда волнуется. Неужели Фридл работала с Жакобом? Почему ему в голову не приходило спросить ее о том, где она жила до войны, где училась, лишь краем уха он слышал про Баухаус. Да, они были заняты детьми, поденно, порой круглосуточно, но стоило ему обратиться к ней с вопросом, что такое талант, она же тотчас ответила, и в развернутой форме… Обидно. Ведь они встречались каждый день…
Они встречались каждый день!
– Вы видели ее после того, как она получила повестку на транспорт?
– Этого я не помню. В то время моя жена Мадла ждала ребенка…
– А что с ней стало?
– Она родила в лагере, а в 1946 году умерла от полиомиелита, уже здесь, в кибуце. Слышал, что Фридл не было в списках на транспорт, она записалась туда из‐за мужа.
– Вы не пробовали ее отговорить?
– Тогда такое творилось… Транспорт за транспортом, девочки, про которых я знал все, даже, прости меня, есть ли у них месячные и с кем они гуляют, складывали вещи. Мы с Мадлой тоже проходили перед Эйхманом, Мадла, как могла, прятала пузо, иначе зацапали бы вмиг. Знаю, что Фридл попала в транспорт, где было много детей-сирот… За день до этого она сложила все рисунки и отдала на сбережение старшей воспитательнице Розе Энглендер.
– Я встречалась в Праге с ее дочерью Раей. И та велела мне отыскать вас в Израиле.
– Тамар за это ей спасибо не скажет. Она меня к моим ботинкам ревнует… Но когда ты позвонила, я подумал: у каждого есть двойник, может, появится вторая Фридл… И не ошибся.
Вилли умолк и уставился на луну. Она была так близко.
И Фридл была близко.
– Пора, майн кинд, будем вести себя, как хорошие дети.
В машине Вилли обнял меня и поцеловал в щеку. Тот самый Вилли, который привез в Прагу чемодан с детскими рисунками из Терезина, тот самый, который видел Фридл, смотрел на нее теми же глазами. Каждый день.
***
Все, что рассказывал мне Вилли на протяжении двенадцати лет, рассортировано по разным книгам. Письмо Фридл к нему переведено на разные языки, даже на японский. Лицо, которое она нарисовала в его альбоме, увидели посетители выставки на трех континентах.
– И все-таки, майн кинд, не будь тебя, рано или поздно нашелся бы тот, кто взялся бы за эту историю, верно?
Вилли любил сослагательное наклонение. Будь у него талант, он бы стал художником. Будь у него свободное время, он бы больше читал. Будь в квартире больше места, привел бы в порядок архив.
В закутке за занавеской, слева от входа в дом, хранилось все, что его жена Тамар не хотела видеть в «салоне». В салоне едят, смотрят телевизор и принимают гостей. Она не намерена превращать дом в Яд Вашем! В свое время родители не поддержали ее решения про Эрец Исраэль и погибли. А она приехала сюда, вышла замуж за вдовца, вырастила чужую дочь, родила двоих детей, с нее хватит. Вилли не спорил. В присутствии Тамар он боялся уединяться со мной в закутке. Зато, когда она уходила, мы усаживались там на маленькие табуретки и рассматривали фотографии Мадлы-красавицы – одну из них он мне подарил – и фотографии всех возлюбленных его отца Эмо, ежегодные юмористические альбомы «Амбунданция», которые Эмо «выпускал» ко дню рождения Труды в Оломоуце, в Терезине, а потом в Израиле, самодельную книжечку Трудиных стихов с рисунками Вилли. По стилю рисунки Эмо и Вилли очень похожи, тонкие, контурные, лаконичные, их вполне можно было бы использовать как раскраски. Что, собственно, Вилли и делал. По праздникам он посылал друзьям и родственникам поздравительные открытки собственного производства. Он рисовал их, ксерокопировал, а потом раскрашивал. И это он тоже перенял у Эмо.
Обычно я приезжала к четырем. Тамар уходила в бассейн, и мы с Вилли отправлялись в лес. Там, на дне глубоких ямин, сохранились кусочки византийской мозаики, и когда Вилли еще был в силах, мы осторожно слезали, вернее, скатывались на пятой точке в яму и сгребали со дна «византийской бани» сосновые иголки. Потом Вилли доставал из кармана носовой платок и протирал им камешки: «Смотри, как проступает глазурь!»
Иногда мы взбирались по винтовой лестнице на смотровую башню, где в 1948 году держала оборону еврейская бригада; это Вилли тоже помнил. С башни был виден весь кибуц и арабский город на горизонте, кажущийся издали огромным белым кораблем с мачтами-мечетями.
Внизу, в подножье смотровой башни, стояли, еще со времен царя Ирода, мраморные ноги-раскоряки, – некогда на них лежала мраморная плита, все вместе это составляло ворота. Тесное соседство с древней историей восхищало Вилли. В закутке он хранил огромную чашу с черепками, осколками амфор. «Копнешь и найдешь!»
Иногда мы рисовали в лесу, иногда просто так гуляли вокруг кибуца, где в 1946 году ничего не было, а теперь все цвело и пахло магнолиями и апельсинами, хрупкие гранатовые деревья гнулись под тяжестью плодов, мычали коровы, старички разъезжали на маленьких машинках по ровным асфальтированным дорогам. Вилли был социалистом: общая столовая, общая машина, общая прачечная, общая земля; если все это любить и работать во имя общего блага – жизнь прекрасна. Развал кибуцов для него был равен развалу страны. Мысль об этом не оставляла его до самой смерти.
В представлении старого человека, в коего со временем превратился Вилли, родной город Оломоуц и римские развалины сливались воедино. Закуток заполнялся видами Оломоуца и римскими черепками.
Когда Вилли заболел, Тамар уговорила его подарить терезинский архив кибуцному мемориалу «Бейт Терезин», одним из учредителей которого он был. Вскоре и сам Вилли был сдан в архив, то есть переведен в кибуцный дом престарелых, в отделение лежачих. Я навещала его и там. Однажды он попросил меня отвезти его домой на коляске – всего-то метров триста. Я прикатила Вилли, но Тамар сочла это непозволительным самоуправством.
– Мы проштрафились, – вздохнул Вилли, когда мы покинули дом, – разволновали Тамар, ведем себя как непослушные дети. А раз так, прокати меня вокруг кибуца!
Мы проехали мимо его мастерской, мимо коровника, свернули к лесу и остановились у того места, откуда вела тропинка к «византийской бане». Я поставила коляску на тормоз и села на траву рядом. Вилли положил мне дрожащую руку на голову.
– Прямой линии провести не могу, пора, майн кинд.
Последний раз я видела Вилли перед отлетом в Атланту – там открывалась очередная выставка Фридл. По дороге из Иерусалима в Маанит старенький таксист показывал мне места боевых сражений, в которых он участвовал. Узнав, что я еду в такую даль прощаться с больным стариком и даже не родственником, он растрогался и взял с меня половину назначенной суммы. «Ты делаешь мицву, я делаю мицву», – повторял он.
Вилли спал. Я прикоснулась к его руке, и он открыл глаза.
– Не сон ли это? А я думал, ты в самолете, привязаны ремни…
От Вилли остались одни глаза. Как на рисунке, который нарисовала ему в альбоме Фридл.
– Передай ей от меня привет, – пробормотал Вилли и смежил веки. Я сидела рядом, и он улыбался, не открывая глаз. Что-то ему снилось. Может, что я приехала. «Жизнь есть сон», – сказал Кальдерон.
Мауси
Что делает человека человеком?
Маленькая неприметная Мауд, или Мауси, как звал ее возлюбленный более полувека тому назад, жила в центре Тель-Авива рядом с площадью Рабина. Когда мы познакомились, Рабин еще был жив и площадь называлась иначе.
В ту пору я искала сведения о детях, которые занимались у Фридл. В списке из шестисот имен Мауд Штекльмахер не числилась.
– Я была ярой сионисткой, а наша воспитательница – коммунисткой. Она дружила с Фридл. И, видимо, поэтому я сторонилась уроков рисования. Жаль, – вздохнула Мауд и уткнулась в список. – Гертичка Абель, на первой же странице! Что она рисовала? Наши отцы были двоюродными братьями…
Я оставила Мауд списки и вскоре получила от нее увесистое письмо.
«22.12.1990. Дорогая Лена! Посылаю тебе все, что пока удалось вспомнить. Обрывочные воспоминания о детях из детдома L-410 я приписала к графе „Комментарии“, графу с номерами комнат дополнила, красной ручкой исправила мелкие ошибки. О некоторых детях есть целые рассказы, не знаю, понадобятся ли они тебе. Но пусть будут, на всякий случай».
Первая порция историй умещалась на пятнадцати страницах и была написана по-английски.
Но этим дело не кончилось. Мауд стали одолевать воспоминания, они вспыхивали в ночи и горели в ней до утра. Дождавшись, когда за мужем закроется дверь, она бежала к телефону.

Мауд, 1996. Фото Е. Макаровой.
– Доброе утро, Лена. Не помешала? Отвлеку на минутку. Видела, как наяву, старого господина Самета. Мы тащимся в Терезин. Я иду за ним. От тяжелой поклажи на его руках взбухли голубые жилы. Утром чищу апельсин – опять господин Самет. У него же был магазин с экзотическими фруктами! Зимой папа покупал там яблоки из Калифорнии, огромные, красные, словно вощеные. Поговаривали, что он бывал в Америке. Однажды он закупил грейпфруты в Тель-Авиве. Подвиг сионизма. Никто не знал, как их едят, как избавиться от горечи, – мы добавляли сахар, еще и еще, не понимая, что нужно снять кожуру с долек… Посмотрела в Памятной книге – его вместе с женой отправили из Терезина в Барановичи. Ты не знаешь, где это?
– В Белоруссии.
– Сколько туда езды? По тем временам…
– Думаю, дня два.
– Ехать два дня, чтобы тебя расстреляли… А под кустом нельзя? Закрыть на засов ящик на колесах, везти тысячу человек в такую даль, только чтобы расстрелять? В этом поезде ехала моя любимая подруга Рут с родителями… Дядя Йозеф, мой двоюродный брат Густа… В Терезине он подарил мне всамделишную конфету… И еще Хана Шпрингер… Все они принадлежат к моей семье убитых и все не дают спать, понимаешь? Спать еще ладно. За что ни возьмусь, как утром с этим апельсином… Еще одну историю вспомнила про апельсин. Потерпишь секундочку? Девочка-сиротка обожала своего брата, а тот мечтал об апельсине. Где его взять в Терезине? Нет, не могу дальше… Скажи, что делать? Ведь я разумный, целесообразный человек…
– Мауд, пиши все и присылай мне.
– А тебе на что?
– Мне это необходимо. Для работы.
– Образование, труд и служение добру делает человека человеком… Так говорил наш президент Масарик.
Храня верность президенту, Мауд служила добру в роли секретарши при больничной кассе и повышала образование в Свободном университете: учиться надлежит в любом возрасте. Теперь перед ней открылась новая область – «писательство». Как организовать процесс?
Мауд купила в канцтоварах упаковку с липучими квадратиками. На ночь она прилепляла по две-три штучки к торшеру в изголовье, все, что вспомнится, – на карандаш. Шимон давно спал отдельно и застукать ее за этим делом не мог.
– Доброе утро, Лена! Не помешала? Вот думала ночью… Но это личное… Когда я только приехала в Эрец, мне было так странно видеть еврейских детей… И не то, что их так много, а то, что они, слава богу, этого не знают. Я не хочу детей, которые будут несчастны. Перед свадьбой, а было это в 1951 году, если не ошибаюсь, ты тогда и родилась, я со свойственной мне дурацкой прямотой спросила Шимона: «Скажи, могу ли я верить, что здесь это не случится?» Он испугался. И взял с меня клятву забыть это все, жить настоящим ради будущего – иначе не создать здоровой израильской семьи. Его травма плюс ее травма – кого они родят?
***
Шимон покинул Брно в 1938 году. Родителей пугали арабы и жара, однако немцы в прохладе оказались опасней, и вся его семья погибла.
Но когда их младшая дочь покончила жизнь самоубийством, Мауд подумала – и, конечно, этой мыслью с мужем не поделилась, – что сколько ни насилуй себя во имя светлого будущего, прошлое настигнет, возьмет врасплох. Яэль не знала про уничтоженных бабушек-дедушек со стороны Шимона, не знала, что ее дед по материнской линии наложил на себя руки в Терезине, не видела его прощальной записки с перечнем предметов, спрятанных там-то и там-то, и с упреждением ни в коем случае не потерять его ручные часы. А если б знала? Ведь со старшими все в порядке…
– Прости, что морочу тебе голову, – извинялась Мауд. – Но произошло еще одно странное явление – ночью я стала писать по-чешски. Сорок лет на этом языке не думала, как быть? Перейти на иврит или продолжать по-английски?
– Пиши по-чешски.
– А как ты будешь переписывать, у тебя же нет на клавиатуре чешских букв?
– Дело техники, справлюсь.
– Если Шимон узнает, нам не поздоровится, – вздохнула Мауд.
Я напомнила Мауд, что когда я пришла к ней со списками, Шимон был дома, сидел с нами на кухне, пил чай, курил «Ноблес». Вроде ничего его не смущало…
– Знаешь, что было, когда ты ушла?
– А что было?
– Зашкалило давление. Два дня ходил красный, как рак, и молчал. Рыжие – они такие. А он огненно-рыжий. Был. Но внутри таким и остался. Уходит в себя, и там еще пуще раскаляется. От этого депрессии. Иногда затяжные.
Выбрав меня в сообщники, Мауд делилась со мной всем. Так, во всяком случае, мне казалось. Близких подруг у нее не было, а далеких – пруд пруди, в основном из Терезина. Возможно, она и с ними делилась. Но это не то: в одно ухо влетело, в другое вылетело. А тут перед ней куратор выставки в Яд Вашеме, хранитель памяти. Стало быть, память целесообразна. Ей можно придать любую форму, скажем, вылепить из слов памятник господину Самету с его заморскими фруктами и голубыми жилами. Она уже исписала целую пачку липучих квадратиков, куда их?
Я предложила подумать над книгой.
– Нет, Шимон этого не переживет. А что, если сдать память на хранение? Компьютер может сломаться, дом сгореть, боже, конечно, сохрани…
– Куда?
– В твой Яд Вашем.
Не очень представляя себе процедуру такого рода, я вызвалась помочь: встречу на центральной автостанции в Иерусалиме, поедем сдаваться вместе.
Сдать память в архив
Мауд привезла с собой конверт с фотографиями, ножницы, клей и увесистую стопку яд-вашемовских анкет, заполненных ее рукой. Все это нам предстоит оформить.
– Неделю сидела. Шимон за дверь, я – в Памятную книгу. Здесь и мои, и твои.
– Мои? По еврейской линии у меня только дядя погиб, остальные – по сталинской.
– Дядю сдадим. Я прихватила с собой пустые формуляры.
Моими Мауд считала детей, которые рисовали с Фридл. Рассказы о них надлежало поместить в графу «дополнительная информация», вместо отсутствующих фотографий вклеить рисунки. Не совсем, конечно, по протоколу, но у выжившей обязаны принять все.
– Выжившей не из ума, разумеется, – пошутила Мауд, приглаживая седой чубчик перед выходом в свет. – Как я выгляжу?
До ксерокопировальной конторы надо было идти в гору. Мауд ходкая. Со спины ее можно принять за подростка. Короткая стрижка, клетчатая рубаха заправлена в брюки, легкий шаг. Она ходит пешком по пять километров в день, иногда, опять-таки тайком от Шимона, ездит на велосипеде.
Мы сдали фотографии. Групповые Мауд велела увеличить, снять с каждой по пять копий. На всякий случай.
Процесс шел медленно. Мауд проверяла качество каждого ксерокса. Все должно быть сработано раз и навсегда. Даже если мир рухнет, Яд Вашем выстоит.
Я не спорила.
Вернувшись, мы выпили чайку и принялись за дело.
– Сначала детей из твоего списка, это самое трудоемкое. Из-за рисунков. Кстати, на каком языке пишем?
– На английском.
– Почему не на иврите? Считаешь, что Израиль рухнет?
Я сказала, что в мире далеко не все знают иврит, Мауд согласилась – это аргумент.
– Кто у нас на «А»? Вот, Гертичка Абель. Кстати, в Освенцим она была депортирована «семейным транспортом» 6 сентября 1943 года, но сожгли ее в марте 1944-го. Промежуточной графы в анкете нет. Куда писать?
– Добавим графу от руки.
– Нарушим протокол?
Мауд уставилась в экран компьютера. Худенькая девочка в платьице с пояском стояла на крепостном валу и смотрела вдаль, приложив ладонь ко лбу козырьком. За ее спиной было здание пекарни.
– Похожа на Гертичку, и фигурой, и позой… Наши отцы были двоюродными братьями. Гертичка жила с отцом в Оломоуце, мать ее умерла, когда она была маленькой. Она была единственным ребенком в семье. Рослая, черноволосая, зеленоглазая, хорошенькая…
Чтобы уместить девочку в платье с пояском в двухсантиметровый квадрат, нужно было изменить параметры в фотошопе. Распечатали. Еле видно. Что будем делать?
– Вклеим. Раз это единственное, что от нее осталось…
Трещал принтер, выплевывая на кюветку страницы. Ошибка. Текст про Алису Гутман из города Табор придется распечатать снова, мелким шрифтом, иначе не влезет в рамку «Дополнительная информация».
«Одно время моей соседкой по койке была Алиса, бледная, худая и деликатная девочка. Мы обе остались без отца, ее – умер в гетто, мой – покончил с собой. Терезин был перенаселен. Несмотря на все усилия, трудно было соблюдать гигиену. Мы делили кров с клопами, блохами и вшами. Мы недоедали и страдали от множества болезней. Скарлатина и туберкулез, разные виды тифа, к тому же и полиомиелит. Орган здравоохранения гетто решил спасти детей от заражения полиомиелитом; для укрепления иммунитета нам переливали кровь родителей. Наши с Алисой матери сдали по две порции. И мы их отблагодарили – выдали по бутерброду. К этому сюрпризу мы готовились заранее: скопили немного маргарина и два ломтика хлеба, где-то раздобыли щепотку супового порошка. Непросто было заставить их принять этот дар, но мы настояли. Какая это была радость – смотреть на наших матерей, они ели с таким аппетитом! Скоро Алиса с мамой были отправлены в Освенцим».
Тот же транспорт 6 сентября 1943 года. На рисунке ночь, мчится черный поезд, светит луна. Страшно.
– Хана Камерман из Праги, малышка, родилась в 1935 году. Опять без фото. Покажи рисунок.
Толстенькая девочка держит за руки каких-то малышей.
– Ханичка, боже, – Мауд закрыла лицо руками. – Посмотри на ствол дерева – это же труба, а ветки вверх – пламя… И куст, как пожар… Как ты думаешь, она предчувствовала?
– Не знаю. Взгляни на текст, в порядке?
«Хана Камерман и ее мать жили в одной комнате с моей мамой, бабушкой и сестрой в Q 802. Мать Ханы работала на кухне, у них была еда. И даже что-то вроде постели (мои спали на полу). На постели сидела кукла. Мать Ханы в тридцатых годах была в Палестине, но ей там пришлось туго, и она вернулась в Чехословакию. В октябре 1944 года они были уничтожены в Освенциме».
– И что же тут, по-твоему, в порядке?!
Мауд нервничает. Так дело не пойдет.
– Будем переживать, наляпаем ошибок.
– Ни в коем случае. Все должно быть правильно. Я всю жизнь к этому стремилась. Быть хорошей, никого не обижать, не лгать… Девочку с трубой распечатаешь?
– Зачем?
– Будто это Хана… Она была пухленькой.
– Мауд, что мы сдаем?
– Память, – ответила она, не отрывая глаз от дерева-трубы и ветки-пламени. – Ханичка сидела на горшке, прикрывая ноги юбочкой. Как ни уговаривала ее мама, что здесь все свои, она стеснялась. У печки сидела госпожа Штейн, варила из какого-то суррогата кофе и с блаженной улыбкой дымила какой-то дрянью, закрученной в газету. Она не смотрела на Ханичку, но девочке-то каково?
– Мауд, мы заполняем формуляры в надежде на то, что отыщутся родственники или знакомые. Возможно, и снимок Ханички найдется. Рисунок девочки с трубой тут не поможет.
– А как мы узнаем, найдется он или нет?
Тогда у меня не было ответа. Теперь все компьютеризировано. Но снимок Ханички так и не появился на сайте holocaust.cz. Моравский архив пока еще не разобран.
– Почему ты не показала этот рисунок на выставке?
– Их четыре с половиной тысячи…
– Господи, – вздохнула Мауд, – что же делать?
– Идти по списку. Кто следующий?
– Хана Карплюс из Брно. Ее цветы я видела. На выставке. Рядом с цветами Фридл. Ой, они в одном транспорте, 6 октября. Ужасно… Невозможно представить… Только что они вместе рисовали цветы и теперь въезжают в смерть. Может, Яэль правильно сделала, уйдя из этого поганого мира по собственному желанию? Ведь и мой отец поступил в Терезине точно так же. Но какую надо иметь решимость… У меня был такой момент… Все. Молчу. Приклеивай! Правда, она тут совсем крошечная… Годика три.
«Ханичка Карплюс – моя дальняя родственница из Брно. Ее мама умерла в Терезине, а она осталась с отцом, весьма несимпатичным. Он работал в огороде, а бедная Ханичка была бледная и тощая. В этой ветви нашего семейного древа было много талантливых художников, у Ханички, как мне кажется, были художественные задатки».
– Про задатки отрежь.
Отрезала.
– А может, нехорошо говорить, что отец был несимпатичным? Ведь он тоже погиб…
– Да, в Дахау.
– Тогда отрежь «весьма несимпатичным».
Отрезала.
– То, что отец работал в огороде, а дочь голодала…
– Но ведь это правда.
– Правда. Но он-то погиб…
На этом застряли. Мауд решила убрать отовсюду собственные суждения. Будущим исследователям нужны факты, а не оценки.
Мауд занялась цензурой, я – борщом. Подкрепившись, мы принялись за дело.
Эва Киршнер. Фото у меня есть.
– Откуда?
– Я навещала ее родную сестру в Праге, Рене. Милая, сухонькая, – хотела сказать «старушка», но, взглянув на Мауд, назвала ее «дамой в возрасте». – В квартире Рене все блестит. У входа надо снять обувь и поставить на газету, чтобы не испачкать полы. Поила меня чаем, надарила кучу фотографий…
Что-то не так. Мауд поджала губу, сощурилась.
– Обманщица, – процедила она сквозь зубы. – Ты не читала того, что я тебе присылала! Прочти хоть сейчас!
«Рене и Эва Киршнер из Брно. Старшая, Рене, жила с нами в 25‐й комнате, и Эва с мамой часто приходили ее навещать. Рене была очень инфантильной и нуждалась в постоянной опеке. Когда начались осенние транспорты, вся семья числилась в списках. В последний момент во дворе Гамбургских казарм Рене узнала, что ее оставили в Терезине, поскольку она работала в огороде. Рене рыдала. Она не хотела разлучаться с семьей. В мае 1945‐го пронеслись слухи, что отец Рене выжил. Но они не подтвердились. В последний раз я видела Рене в Брно на курсах молодых сионистов. С тех пор ищу ее по свету и не могу найти».
Да, это я упустила. Но можно загладить вину, если, конечно, повезет. Рене отозвалась после первого же сигнала. Передав Мауд трубку, я вышла на балкон.
Жирный фикус щебетал птичьими голосами. Хор скворцов напоминал болельщиков футбола – солист выкрикивал лозунг, и все разом его подхватывали. Но тут команда противников с другого дерева подняла гвалт, освистанный фикус напыжился и вытолкнул из своей кроны летучее братство. В громогласном щебете звучала неподдельная ярость. Птиц не примирить, зато Мауд сияет.
– У Ренки есть внуки! А не работай она тогда в огороде, не было бы ни ее, ни внуков. Она обещала приехать. Закатим сабантуй!
– Прямо сейчас и закатим.