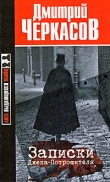Текст книги "Алмазы Джека Потрошителя"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В кабаке было темно, пламя редких свечей задыхалось от недостатка воздуха, который выжирали беззубые рты местных бродяг. Выпивка пахла болотом, а местную еду и мои собаки не рискнули бы попробовать.
Именно то, что нужно моему пациенту.
Он с удивительной легкостью вписался в компанию шулеров и, радуясь как дитя, проиграл в стаканчики пять фунтов. Проиграл бы и больше, но внимание, столь неустойчивое в последние дни, переключилось на иной объект.
Шлюхи… женщины, поправшие само понятие женственности. Уродливые бездушные существа, одно присутствие которых пробуждало во мне воистину звериную ненависть. И заглушая ее, я опрокинул стопку виски. Потом другую…
– Мистер не желает развлечься? – Одна из них, особа, чей возраст определить не представлялось возможным, осмелилась прикоснуться ко мне.
Волна омерзения заставила меня отпрянуть.
– Мистер пусть не боится. Я чистенькая.
Она завлекательно улыбнулась, демонстрируя желтоватые зубы.
– Уйди.
– Иди ко мне, киска! – закричал мой пациент. – Ко мне! Все ко мне! Будем веселиться! А он пусть тухнет! Ему не положено!
И видит бог: я был благодарен ему за свое нечаянное избавление. Но именно в этот момент я понял, что убью снова. Может быть, эту белую… или вон ту, в зеленом платье с низким вырезом. Из выреза выскакивают груди, и мой пациент трогает их. На лице его появляется выражение счастья.
Или ту, которая держится тени, опасаясь отпугнуть клиента сломанным носом. И зубов у нее, кажется, нет…
Нельзя.
Других – да, но не этих. Меня здесь видели. Запомнили. Опишут. И пусть бы шанс, что описание их будет иметь сходство с реальностью, ничтожен, я не должен упускать его из виду.
В прошлый раз я рисковал.
Но больше это не повторится. Я буду действовать осторожно. Я продумаю каждый свой шаг. Я не оставлю полиции ни единой зацепки. И стану тем человеком, который освободит Лондон от грязи.
Кабак мы покинули в половине девятого, и время, проведенное в ожидании моего пациента, который вовсе не спешил, оказалось довольно полезным. Теперь я совершенно точно знал, что желания мои, сколь бы странны они ни были, существуют во благо города.
– Я хочу жениться, – сказал мой пациент, хватая меня за руку. – Слышишь? Я хочу жениться!
Он был изрядно пьян и потерял всякую связь с реальностью.
– Хорошо. – Я отвечал ему с уважением и покорностью, поскольку нынешнее состояние требовало особого обращения. Если он заподозрит, что я невнимателен к его желаниям, устроит скандал.
А скандал привлечет внимание.
– Кто та счастливица, которая глянулась вам?
– Мэри. Ее зовут Мэри.
Уж не та ли белесая девка, которая приставала и ко мне?
– Красивое имя? Правда?
– Красивое, – охотно согласился я.
– Значит, ты одобряешь? – Остановившись, он повернулся ко мне и заглянул в глаза: – Ты же одобряешь?
– Во всяком случае, сэр, не имею ничего против. Однако замечу, что столь поспешная женитьба бросит тень на девушку. Люди станут скверно говорить о ней. Вы же не хотите причинить вред ее репутации?
– Н-нет. Ты умный.
Скорее привычный. Они все говорят, что взывать к разуму бесполезно, если разума нет. И ошибаются. Мой пациент существовал в собственном мире, постигнув законы которого я получил те самые рычаги, что позволяли в некоторой степени управлять его поведением.
– Тогда я пожалую ей титул! – воскликнул он. – Герцогини!
– И это тоже будет подозрительно. Да и к чему подобной особе титул? Давайте подарим ей цветы. Это мило, романтично и расскажет о ваших глубоких чувствах куда лучше, чем какая-то бумага с печатями.
Некоторое время он смотрел на меня, явно подозревая, что в словах скрыт какой-то иной смысл, но потом все же согласился:
– Да… ты прав… ты очень даже прав. Цветы! И как я сам не подумал! Мы вернемся сюда завтра! Я скажу матушке, что…
– Не следует беспокоить вашу матушку. – Я представил, в какой ужас придет она от этой затеи. – У нее ведь имеется собственная невеста для вас. Она не обрадуется другой. Нам надо держать все в тайне. Понимаете?
Мог ли я стереть из его памяти странную фантазию о женитьбе на проститутке? Безусловно. Я уже стирал ее не раз и не два, но сейчас…
Я взглянул на пациента по-иному. Кто он? Безумец? Определенно. Второй в очереди к престолу? Да. Идеальный щит, который скроет меня от всего мира. И за щитом этим я буду неуязвим.
– Мы обязательно вернемся сюда. Позже.
Когда я буду готов.
– А она…
– Она дождется.
Кого-нибудь из нас, и так ли важно, кого именно?
– Господа не заблудились? – Из тени вышел человек, чей вид заставил мое сердце замереть, а затем забиться в темпе куда более быстром, нежели предусмотрено природой.
– Инспектор Абберлин, – представился он, неуклюже кланяясь. – Ваше высочество, вы…
– Вы ошиблись. – Я произнес это с нажимом, и Абберлин понял верно.
– Извините. Я ошибся. Но позвольте проводить вас до кеба? Ночью здесь нечего делать… достойным людям.
Отказаться? Или согласиться? Мой пациент решил за меня.
– Я вас знаю, – он приветливо улыбнулся. – Я вам медаль вручал. За… не помню, за что. Вы же в Индии служили? Расскажите про Индию.
Инспектор вздрогнул, и губы его искривились. Неприятные воспоминания? Что я знаю об Абберлине? Он расследует смерть той девушки. Пресса отзывалась о нем крайне сдержанно.
Понимаю их: неприятный человек.
– Там нет ничего, что стоило бы вашего внимания…
– Мистер Смит. Джек Смит, – представил я пациента.
Джек – хорошее имя, невыразительное. Оно легко теряется среди других имен, и не в том ли его ценность?
– Мистер Смит, – повторил инспектор.
Он шел рядом со мной, и я ощущал легкий аромат лаванды, исходивший от его одежды и волос. Этот запах скорее подошел бы девице, нежели нашему новому знакомцу.
– Расскажите что-нибудь, – повторил я просьбу шепотом. – Неважно, что именно.
Абберлин подчинился. В его осанке сохранилась военная выправка, но старые раны мучили это тело. Я видел, сколь тяжело ему дается каждый шаг. И как неловко придерживает инспектор левой рукой правую, словно опасаясь выронить трость. Синхронно дергаются кадык и веко.
– Там очень душно. Даже когда дождь идет, душно. Много обезьян. Много зверья. Наши охотятся… охотились… местные чтят. У них странные боги. Есть один с головой слона. И другой, черного цвета, со множеством рук. И еще такой, который сидит в цветке лотоса. Лотос священен. Животные тоже. Не люди…
Он прикусывает губу и не замечает этого.
– Они приносят богам жертвы. Когда цветы. Когда кровь… кровь чаще.
Красная струйка ползет по губе.
– А боги дают им золото. И драгоценные камни… рубины. Изумруды. Алмазы… – Он замолкает на полуслове, и странное дело, мой пациент не торопит его с историей. По складкам на лбу, по запавшим щекам, по тику, который усилился, я вижу, сколь изломан этот человек.
И возможно, Господь устроил эту встречу, вложив в мои руки его судьбу. Об этом я думаю. Инспектор предпочитает действовать. Он останавливает кеб, тем самым прерывая раздумья.
– Мистер Абберлин. – Я говорю это очень и очень тихо, чтобы слышал лишь он. – Мне кажется, что и вам не помешает помощь.
Визитную карточку приходится силой вкладывать в его скользкую ладонь. Она деревяниста, что свидетельствует о высочайшем напряжении мышц.
– И я готов оказать ее.
– Я не…
– Вы не сумасшедший. – Я помог забраться в кеб моему подопечному. – Но вы устали. Разум, тело, душа… Дайте мне шанс. Если окажется, что я бесполезен, то… вас никто не станет удерживать силой. Сейчас я имею практику в клинике на Харли-стрит. Это недалеко.
Его одолевают сомнения. Мне же искренне жаль этого несчастного человека. И движимый сочувствием, я не оставляю ему выбора:
– Жду вас завтра. В шесть пополудни. И не вздумайте опаздывать.
Абберлину снилось Лакхнау.
Этот город долго готовил ножи.
Он помнил предыдущий год. И железную руку в бархатной перчатке, которая стряхнула Ваджид Али Шаха с трона, передав прекрасное королевство Ауда под опеку Ост-Индской компании. Он помнил побег Бирджис Кадара, который по малолетству не понимал, чем грозит ему подаренный мятежниками титул. А мать, Хазрат Махал, слишком верила в силу слова.
И словом травила воды реки Гумти.
А голод был лучшим аргументом. Не ты ли, Абберлин, видел, как золотом сочатся свежие раны Лакхнау и жадные рты пьют его.
Мало… всегда было мало… а тебе – плевать. Какое дело британскому офицеру до индийских обезьян? Все знают, что местные – ленивы. И если так, то кто виноват, что их поля опустели?
Но тошно смотреть на умирающих детей. И ты отворачиваешься.
Все отворачиваются, а город готовит ножи.
И только Генри Лоуренс с его нечеловеческим чутьем подозревал неладное. Но он постарел, бессменный полковник, и перестал доверять себе. Все ведь спокойно…
Только город готовит ножи.
Резиденция Лоуренса спасла их в ночь восстания. Она была достаточно велика, чтобы вместить не только остатки гарнизона, но и женщин, детей… многие позже умерли от голода.
И это ли не высшая справедливость, лейтенант Абберлин?
У вас было 240 бочек пороха и 5 миллионов патронов.
А муки не хватало. Оказалось, что в местном климате она быстро плесневеет. И вода тухнет. Вы еще не научились пить тухлую воду… ничего, у вас имелось полгода в запасе. И сотни тысяч целей. Как раз то, что нужно, для пороха, патронов и английского мужества. Его ведь хватило, чтобы дождаться Кэмпбелла.
Как ненависти хватило на то, чтобы вернуться.
И вновь загрохотали британские пушки, и ядра обрушили глиняные стены, пронзили насквозь частоколы и раскрошили мрамор зданий.
Рушились дворцы.
Бежала армия.
Славься, Императрица Индии! Порядок восстановлен.
Горел Лакхнау. Стонал, выл и корчился на солдатских штыках. Кровь и дым пьянили. Страх подгонял сердце: быстрее, быстрее… спеши, лейтенант Абберлин, пока не растащили все. Слышишь, твои солдаты уже вошли в дома. Они, дрожавшие в резиденции Лоуренса, вернулись, чтобы отомстить. И теперь утоляют голод золотом, которое – знает всякий наемник – лучший из лекарей.
И ты понимаешь своих людей.
Там, в центре города, нетронутый, ждет тебя дворец Аламбаг. И ты рвешься, силишься успеть раньше других, палашом прорубая себе путь.
Месть? Жадность? Опьянение кровью?
Двенадцать дней продлится веселье. И ты очнешься в комнате с удивительной красоты расписным потолком. Синий. Красный. Желтый. Золотые звезды и белые лилии. Слоны и тигры.
Люди.
Ты встанешь с чужой постели, грязной и вонючей. Сам такой же грязный и вонючий, пропитавшийся пороховой гарью. Твои губы будут сухи, а горло и вовсе склеится, ты не в силах произнести ни звука. Полуслепой, растерянный, ты оглядываешься, надеясь найти хоть кого-нибудь, кто объяснит, где ты. Но в комнате пусто.
Мертвецы не в счет.
Их много. Ты удивляешься – неужели ты убил их всех? Переступаешь, стараясь не глядеть на лица. Первый робкий стыд появляется в твоем сердце.
Ты бредешь к двери, разрисованной ромбами и цветами, надеясь, что дверь открыта.
– Эй… – Голос все-таки остался при тебе. Он – шелест осенних листьев, скрип старой двери, но никак не речь человеческая. – Эй… есть тут кто?
Есть. Сперва ты принимаешь ее за призрака – из-за белых одеяний. Но она живая.
– Эй, постойте! Погодите!
Ты окликаешь ее, но женщина не оборачивается. Ты, спотыкаясь, идешь.
– Послушайте… не бойтесь… я вас не обижу.
Пытаешься вспомнить слова на местном диалекте, ты ведь выучил несколько. Только забыл.
– Я вас не обижу, – повторяешь ты с расстановкой, как будто это поможет. – Где я?
Оборачивается. У нее лицо еще не старое. Белое носят вдовы – знание рождается в голове само, должно быть, оно и раньше там было. На ее голове – венок из лотоса. Ее глаза – черны, и Абберлин падает в них, но женщина удерживает от падения.
– Здесь. Смотри.
Город пылал. Ты видел рыжее пламя и алые угли разрушенных домов. Ты слышал голоса, хотя не должен был слышать. Ты смотрел в глаза мертвецам, и не смел отвести взгляда.
– Это все вы сделали, – сказала незнакомка в белом сари. – Для чего?
И ты понял, что не имеешь ответа.
С черных ресниц ее срываются слезы. Тяжелые, звонкие, падают в ладони женщины. И она протягивает их Абберлину. Уже не слезы – мутные разноцветные камни.
– Бери же… бери, инспектор. Вы за этим сюда шли.
Абберлин просыпается.
В ушах еще стоит голос, не то незнакомки в белом, не то рыжеволосой Кэтти Кейн.
– Уолтер!
Губы шевелятся. Бесполезно. Ты же знаешь, Абберлин, что голос вернется позже. И тело твое, застывшее бесполезной колодой, отойдет от сна. Надо подождать.
Подумать.
У тебя неплохо получается думать в предрассветные часы.
Тикают часы. Огромные напольные в дубовом коробе. За белым ликом циферблата скрипят шестеренки, разворачиваются пружины, и тонкие струны часовой души приводят в движение стрелки. Ты не способен пока повернуть голову, шея деревянная, как и все тело. Но ты научился определять время на слух.
Четверть пятого.
Скоро на улицах появятся трубочисты и торговки свежим салатом, молочники, мясники, торговцы свежей рыбой – все те, кто существует вне твоих кошмаров.
– Уолтер! – Голоса по-прежнему нет, и язык царапает сухие десны. Потом станут кровоточить. И зубы шатаются.
У шлюхи Марты Талбот, зарезанной в переулке, зубы были все и свои, крупные, желтоватого цвета, но, как сказал врач, – целые. А это – редкость. Кто ее убил?
Абберлин беседовал с итальянцами. И с поляками, которые говорили на английском медленно, подбирая каждое слово и страшась сказать неправильно. И с хитроватыми евреями, которым не верил вовсе. И с ирландцами… со всеми, кому случилось свить гнездо на Уайтчепеле.
Никто ничего не слышал.
И люди злились. Им не нравился инспектор, но куда больше не по вкусу было то, что происходит на Уайтчепеле.
Энни. Долли. Молли. Салли. Вирджиния и Хоуп, чье лицо исполосовали. Вы хотите на него взглянуть, миста? Не выйдет. Хоупи убралась из города. Бедняжка… это все Красный передник. Как вы не слышали? Он грабит шлюх. Бьет молотком и грабит. Грязное занятие. А уж бить-то их зачем? Девочки боятся, инспектор. Найдите этого поганца. Вы даже не арестовывайте, просто найдите. А мы уж сами.
И поверьте – не забудем.
Красный передник? Человек с молотком? Мог ли он взяться за нож? Порезанное лицо Хоуп… и сломанные кости. Нож и молоток. А потом – только нож. Одно движение, и горло перерезано.
В Уайтчепеле много мясных лавок. Скот иногда режут, но порой забивают ударами молотка. Но банды проверили мясников.
Красный передник хитер? Или просто удачлив? Но он вернется.
– Уолтер! – Речь вернулась. И сонный паралич отпускал тело. Абберлин сумел пошевелить руками. Он поднял левую правой и положил на деревянную перекладину, которую поставили над кроватью пару месяцев тому. Рывок. И еще один, чтобы приподняться, выбраться из кокона промокших одеял и сбитых сырых простыней. Сесть.
Увидеть часы.
Стрелки ползли по белому циферблату, стирая время.
– Уолтер, черт бы тебя побрал!
Абберлин ударил кулаком в стену.
– М-мистер? – Уолтер появился в комнате, взлохмаченный, зевающий. – Опять кошмары?
– Воды. Принеси воды.
В его воде будет изрядно рома, и выпивка согреет. Пока же Уолтер ходит, инспектор поднимется и будет стоять, вцепившись в перекладину, прислушиваясь к собственному телу, к ослабевшему сердцу и жестким сосудам.
– Не бережете вы себя, мистер. Ну чего дергаться? Вот мой дед тоже неспокойный был. Ноги отнялись, а он все дергался, дергался. Ни минуточки на месте усидеть не желал. Чуть отойдешь, так и сразу орет.
– Заткнись.
Немота тела сменялась болью. Она рождалась в стопах, поднималась к коленям, и еще выше, скручивая мышцы судорогой. Но Абберлин стоял, закусив губу.
Боль пройдет.
– Пейте, мистер. По глоточку… по глоточку… аккуратненько. А то порвется в голове сосудик, и все. Мой дед-то так и помер, мир праху его. Спал-спал, а потом вскочил. И все.
Уолтер говорил больше по привычке, он успел привыкнуть к упрямому норову хозяина, который теперь до самого утра будет стоять, что статуя в королевском саду.
И не бросишь его такого.
Сменив белье – снова придется прачку звать, – Уолтер сделал еще одну попытку:
– Прилягте. Поспите.
Удивительно, но хозяин разжал руки и позволил уложить себя в кровать. Вот ведь чудак-человек. Другой на его месте давным-давно или спился бы, или умом двинулся. Каждую ночь орать… Абберлин держится. Пока держится.
– И к врачу надо бы.
– Завтра пойду, – Абберлин лег, скрестив руки на груди. Ну аккурат, что покойник в гробу.
Чтоб его.
– Вот и ладно. – Укрыв хозяина, Уолтер велел: – А теперь спите. Я вот тут посижу. В креслице.
Обещание свое он сдержит, и не потому, что побоится потерять работу.
Жалко хозяина.
Мое желание стать врачом не было связано ни с родом деятельности моего отца, по ряду причин данный выбор одобрившего, ни с желанием принести пользу людям, ни с надеждой получить профессию достойную, которая обеспечит меня в будущем.
Однажды я увидел женщину.
Забавно. Я видел до того дня десятки, сотни женщин, начиная с собственной матери, весьма достойной, пусть и несколько холодноватой особы, и заканчивая местной шлюхой, чье имя в приличном обществе не упоминали, да и вовсе делали вид, будто такой женщины не существует.
Вот не могу вспомнить ни возраста, ни обстоятельств того дня.
Кажется, было жарко. Или холодно? Дышал я с трудом, но это могло быть естественным следствием возбуждения, испытанного мной при виде крови и раны на белом животе, белого же лица, отмеченного печатью великих страданий.
Она была привязана к столу. Беспомощна перед человеком в кожаном переднике.
Прекрасна.
Тогда я ничего не знал о совершенном механизме женского тела, но увлеченный, смотрел, как руки врача входят в плоть, исчезая в животе, чтобы позже извлечь из него дитя. Красный сморщенный уродец. Живое существо, родившееся внутри другого живого существа.
– Джон? Что ты тут делаешь? – В голосе доктора не было злости, скорее удивление.
– Я… я хочу стать врачом, – ответил я, заливаясь краской стыда.
И понял – это правда.
С того случая прошли годы. Я учился, сначала движимый той чудесной картиной, но после – увлеченный самим знанием. Человек, разложенный на органы и системы органов, раскрытый в сотнях таблиц медицинских атласов, был иным. И глядя на окружающих меня людей, я удивлялся тому, что они живут, не зная, сколь сложно устроены. Порой даже испытывал сомнения – правда ли это?
Правда.
Помню первое вскрытие – не животного, на которых я отрабатывал хирургические умения, а человека. Это был бродяга, уснувший под мостом и замерзший насмерть. Его одежды воняли, в волосах и бороде было полно насекомых, и сама мысль о прикосновении к этому существу внушала мне глубочайшее омерзение.
Но я преодолел себя.
Я разбирал этого бродягу, повинуясь древнему врачебному ритуалу. Я вынимал орган за органом и каждый измерял, взвешивал, описывал столь тщательно, сколь мог.
Где-то сохранились записи… помнится, легкие были забиты угольной пылью, печень увеличена, а в его желудке я насчитал с полдюжины язв.
Но имеет ли это значение сейчас? Не знаю.
Я есть тот, кто я есть.
Ночью снился дом с розовым фасадом. Окно и мутноватое стекло, по которому ползала муха. Стол за стеклом. И женщина с разрезанным животом. Сейчас у нее было лицо мертвой шлюхи, отвратительное, но вместо отвращения там, во сне, я испытывал восторг. Мне хотелось запустить руки в ее исстрадавшийся живот и вытащить…
Я проснулся, дрожащий и возбужденный, и некоторое время лежал, силясь вызвать в памяти ту картину, которая уже и не воспоминание, но и не реальность, радуясь, что супруга моя давным-давно предпочитает супружеской спальне собственный будуар.
Мне не хотелось пугать ее.
А чего бы хотелось?
К завтраку я спустился бодрым, полным сил, чего давно уже не замечал за собой. Я шутил, и моя Мэри слабо улыбалась.
– Ты вернешься к ужину? – спросила она тоном чуть более теплым, нежели обычно.
– Конечно. Но возможно, несколько задержусь. У меня новый пациент. Весьма необычный, к слову…
Я сомневался, что он придет, и был готов сам отправиться на поиски. Но часы пробили шесть, и в моем кабинете возник инспектор Абберлин. К этому времени я знал о нем немного больше, чем вчера.
Герой последней Ост-Индской кампании. Он был в Лакхнау, когда восставшие сипаи заперли город, и, вместе с остатками гарнизона, лейтенант Абберлин держался, надеясь на чудо.
И чудо явилось драгунским полком Кэмпбелла.
Об этом много писали в свое время, но память стерла подробности, а копаться в слухах и газетах у меня не было времени. И я знаю лишь то, что Абберлину удалось выжить и вернуться домой.
Ему слегка за сорок, но выглядит он куда старше.
Его волосы белы от рождения, и эта белизна скрывает седину.
Его кожа изрезана ранними морщинами, рисунок которых превращает лицо в гротескную маску страдания.
– Здравствуйте, доктор, – говорит он низким вибрирующим голосом. – Вы были правы. Мне действительно не помешает помощь.
Он криво улыбается, и я обращаю внимание на подергивающиеся уголки губ.
– Здравствуйте. Рад, что вы решились. Проходите.
Вчерашняя хромота усилилась. И теперь инспектор опирается на трость обеими руками.
– Раздевайтесь. Вам помочь?
– Нет.
Он останавливается за ширмой. На белой ткани проступает тень, чьи движения скованны. И я снова обращаю внимание на левую руку, которая в какой-то момент повисает безжизненной плетью.
– Вы давно работаете здесь? – Он первым нарушает молчание, должно быть чувствуя себя крайне неловко.
– Несколько лет.
Здесь следует сказать, что клиника на Харли-стрит представляет собой многоэтажное здание из красного кирпича. Некогда весьма пристойное заведение ныне пребывало в том состоянии упадка, который одинаково мог обернуться и смертью, и возрождением.
– Это место вам не подходит, – инспектор озвучил мысли, которые не раз высказывала моя Мэри, когда мы еще вели беседы. – Вы ведь имеете… положение.
И доверие Ее величества, а также Его высочества принца Уэльского и всего королевского дома, которое воплотилось в достойный ежегодный доход и титул баронета. И пожалуй, я бы мог ограничить практику в клинике, а то и вовсе отказаться от нее. На мой век хватило бы иных пациентов, но…
– Моя супруга думает так же, – ответил я Абберлину. – Ей кажется, что я растрачиваю свое умение.
– А на самом деле?
Он проницателен. И чудовищно худ. При росте в шесть футов инспектор Абберлин весит едва ли сотню фунтов.
– На самом деле и эти несчастные нуждаются в лечении.
Весы показали сто десять.
– Вдохните. Выдохните.
Это тело взывало о помощи влажными всхлипами в легких, бурлением, скрипом. Оно напоминало мне изношенный механизм, который вот-вот развалится на части. Абберлин стоически выносил мои измерения. Он присаживался и вставал, вытягивал руки, задерживал дыхание и с военной четкостью выполнял все, даже самые нелепые приказы. И эта покорность была удивительна мне.
– Зачем вы приходили в Уайтчепел? – спросил Абберлин, когда я позволил ему одеться.
– Не я. Я – сопровождал. И мне также хотелось бы поговорить о той… встрече. Надеюсь, вы никому о ней не…
– Мне некому рассказывать о любых встречах, доктор.
– Джон. Полагаю, уместно будет обращаться по имени.
– Фредерик.
Одевался он куда как медленнее, но предложение о помощи вновь было отвергнуто.
– Мне довелось встречаться с мистером Смитом несколько лет тому. Он выглядел иначе.
Неужели я слышу беспокойство в голосе инспектора? Ему, истощенному, едва живому, не все ли равно, что происходит с моим пациентом? Ведь о мистере Смите есть кому позаботиться.
Но я рискнул ответить:
– Уверяю, что большую часть времени он остается прежним. Однако порой и на солнце случаются затмения.
С каждым годом – все чаще. И мой коллега, мой соперник, уверенный в том, что хирургия – удел бездельных разумом, изобретает все новые и новые средства, которые должны остановить лавину. Будучи весьма разумным человеком, Рейнолдс в данном случае столь же слеп, сколь и прочие.
Нельзя спасти раненый разум.
О если бы я умел удалить поврежденную часть, как удаляю тронутую гангреной плоть, свищи или старые гнилые рубцы. Но разум – материя тонкая. Верю, что когда-нибудь столь презираемые Рейнолдсом хирурги сумеют решать и подобные задачи. Правда, случится это не скоро. И Альберт обречен.
– Расскажите лучше о себе. Вы когда в последний раз ели?
– Я не нуждаюсь в жалости, – Фредерик цепляется за трость, как утопающий за соломинку. – Доктор, поверьте, в чем я действительно не нуждаюсь, так это в жалости.
В его взгляде я увидел отголоски того же безумия, которое поразило душу моего пациента. Пожалуй, именно это и позволило выбрать правильный тон.
– А кто сказал, что я собираюсь вас жалеть, Фредерик?
Ему не по вкусу звук собственного имени.
– Идемте. Я приглашаю вас на ужин.
– Я не…
– И не приму отказа. Моя супруга весьма желает познакомиться с вами…
Она придет в ужас от того, что я не предупредил о внезапном визите.
– И ваш рассказ об Индии. Редко удается встретить человека, который действительно там побывал… вам не хочется говорить? Верю. Но вы никогда не думали, Фредерик, что ранить можно не только тело? К слову, оно у вас в отвратительнейшем состоянии. Вы истощены. Такое случается с людьми, которые долгое время голодают. Или испытывают непомерные нагрузки. Но вам-то нет причин истязать себя?
Собираясь медленно, я предоставляю ему возможность отступить. Это было бы весьма печально. Но в моих силах было лишь удерживать его на привязи слов.
– Конечно, вы пока не доверяете мне настолько, чтобы рассказать о ваших кошмарах. А они есть у любого человека, уж поверьте. Но хотя бы просто поговорить… за ужином… это ведь не слишком сложно для вас?
– Вы… весьма любезны.
– А еще неприлично настойчив. Но отпустить вас сейчас, Фредерик, – это равносильно убийству. А я врач – не убийца.
Сказал, и сердце замерло: почует ли инспектор ложь? Я вот чувствовал ее на языке табачной горечью, кислотой, что жжет гортань. И совесть, так не вовремя очнувшаяся, требовала признаться.
– Спасибо… Джон.
– Не за что.
Сидя в коляске, инспектор Абберлин раздумывал над неожиданным приглашением и собственной мягкотелостью, которая позволила это приглашение принять. Доктор, сидевший рядом, не мешал размышлениям, но Абберлин чувствовал на себе внимательный взгляд.
Кого в нем видят? Безумца? Несчастного пациента, нуждающегося в помощи, но не готового эту помощь принять? Стыдно, Абберлин. Или ты уже не способен испытывать стыд?
Вполглаза ты рассматриваешь своего спутника.
Среднего роста и крепкого телосложения, с некоторой склонностью к полноте, которую скрывает добротный костюм из рыжего драпа. На локтях и в подмышках ткань слегка морщит, а манжеты и перчатки не столь белы, как были некогда, что и понятно: кто наденет лучший костюм, отправляясь работать в месте, подобном Харли-стрит-клиник?
Лицо Джона простовато, оно словно вылеплено наспех неумелым гончаром, и вот глазные впадины слишком глубоки, а лоб чересчур покат. Крупный нос искривлен, а щеки чересчур уж пышны, и бакенбарды смотрятся на них нелепо.
Такое лицо внушает доверие. И все равно неспокойно.
Следовало отказаться. Еще не поздно придумать веский предлог, но, как назло, в голове пустота, а в пустоте хоровод водят имена. Молли. Долли. Салли. Энни…
– Джон, к вам ведь приходят девочки с Уайтчепела?
– Вы имеете в виду…
– Проститутки. Они где-то лечатся. Чаще, конечно, сами, но и клиника бывает нужна. А ваша – ближайшая.
Джон мягко улыбнулся.
– Значит, заходят.
На самом деле, инспектор, в моем кабинете каждый день появляются люди. Некоторых, в основном тех, что приходят регулярно, я знаю. Но часто случается, что я вижу человека всего один раз… и поэтому веду записи. Буду рад предоставить их в распоряжение полиции.
Записи? Он писал что-то в толстой книге, внес Абберлина в реестр пациентов? Мысль неприятна.
– Вам не стоит беспокоиться. Ваше дело… – доктор провел ладонью по бакам, – останется сугубо между нами.
– С чем они приходят?
Молли-Салли-Энни и Хоуп с изрезанным лицом.
– По-разному. Мужчины – с ножевыми ранами. С огнестрельными. С переломанными костями. С разбитыми головами… я соврал вам, Фредерик, сказав, что работаю там сугубо ради помощи этим людям. Прежде всего я там ради себя. Что вы видите?
Доктор снял перчатки и протянул руки.
По-женски узкая ладонь. И пальцы длинные, но крепкие, с коротко остриженными ногтями и побелевшей от частых протираний спиртом кожей. Она выглядит больной, разбухшей, что случается с утопленниками, когда вода размягчает покровы.
– Эти руки дал мне Господь. Но он же сказал, что, имея талант, нельзя зарывать его в землю. И руки, которые не работают, будут отняты. Мне бы не хотелось лишиться своего умения, но, напротив, я желаю довести его до совершенства. И это значит одно – руки должны работать.
– Здесь?
– Да. Где еще мне представится такое разнообразие ран?
– На войне.
Абберлину вдруг вспомнил другие руки. В красной пленке крови, которая не удерживалась на коже, но стекала по пальцам на лезвие скальпеля. Смрад гноя, тухлой крови и паленого жира. Пилу, что впивалась в кость со скрежетом. Вонь костной пыли заглушала все прочие запахи.
– Извините, – очень тихо сказал Джон, поспешно натягивая перчатки. – Кажется, я случайно растревожил ваши раны. Когда-то я собирался отправиться в Индию. Или в Африку. Туда, где мои умения принесли бы пользу, но так уж получилось, что семейные обязательства оказались крепче долга перед страной. Я пойму, если вы сочтете меня трусом.
– Н-нет, – Абберлин заставил себя выдохнуть и вдохнуть. В груди кололо, как если бы в легких осталась шрапнель. – Эт-то мне с-следовало бы извиниться. В-воспоминания д-действительно неприятны.
– У моего коллеги… другом его назвать, пожалуй, не решусь, есть интересная теория. Мы сами плодим наши страхи, запирая неприятные воспоминания в клетке разума. И уже там зверь растет. Становится свиреп. И ломает клетку. Я не знаю, сколько в этом правды…
– Но хотите, чтобы я рассказал?
Почему бы и нет? Он врач. В его операционной стоит та же вонь. Разве что убирают там чаще, чем в медицинской палатке. И собственные руки Джона не раз и не два окрашивались кровью. Случалось ему проводить ампутации? Несомненно. Но это не делает его чудовищем.
И те, другие доктора, спасали жизни. Абберлинову в том числе.
– На войне много ран, Джон. Есть колотые. Есть резаные. Рубленые. Стреляные. Осколки шрапнели… мой товарищ носил под мундиром дедовскую кольчугу. И та его спасала от стрел. Зато пуля кольчугу прорвала, вогнав кольца в плоть. Их долго выковыривали… но не спасли. Кровь стала гнить. Другому, я не знал его имени, но видел, как ему снесли полголовы. А он протянул с две недели, только жаловался, что внутри зудит.
Джон слушал. Он смотрел на собственные руки, и Абберлин был благодарен за избавление от любопытствующего взгляда. Говорилось легко. Слова, как гной, выплескивались из раны. Если повезет, рана начнет зарастать.