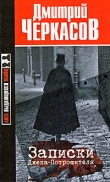Текст книги "Алмазы Джека Потрошителя"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2
О Вере и суевериях
Шестьдесят три года, но выглядит старше. Высок. Массивен, но не грузен. Красноватый оттенок лица. Ослабленный узел галстука. Одышка? И давление скачет.
– Мне вас рекомендовали. – Он начинает разговор первым и чуть наклоняется, норовя заглянуть в глаза.
Илья выдерживает взгляд. И сам разглядывает гостя, которым, в свою очередь, рекомендовали заняться. Массивная челюсть. Массивный нос. Массивное надбровье.
Шея короткая, со складочкой кожи над воротником.
– Я в эту муть не верю. Но Полинка волнуется.
– Женщины всегда волнуются, – отвечает Илья, пользуясь паузой в речи собеседника.
Руки широкие, лежат на подлокотниках кресла вроде бы свободно, спокойно, но в то же время спокойствие это нарочитое.
– Точно. Я ей говорю – муть все это. А она волнуется. Ну и чего теперь? Пусть проверяет… только и я проверю, по-своему. Чтоб уж раз и навсегда. Ясно?
– Нет.
– Не врешь, – клиент грозит пальцем. – Правильно. Мне врать нельзя. Запомни.
– Хорошо.
– Моя дочь, – фотографию он вытаскивает из нагрудного кармана двумя пальцами, отрепетированным небрежным жестом. И так же небрежно кладет на стол. – Умерла. Год как. Утонула в ванной. Как можно было утонуть в ванной? Я, грешным делом, решил, что не сама. Но проверили все. Все, я тебе говорю, проверили! Землю жрали и ничего не нашли.
Дочь Гречкова не похожа на него. Разве что лбом покатым и широкой переносицей, которая делала некрасивое лицо особенно некрасивым.
Фотография любительская. Неудачная. Девица стоит вполоборота, ссутулившись. Длинные волосы цвета мокрой соломы висят, закрывая лицо.
– Она хорошей была. Слабенькой только. Вся в мамашу – такая же курица. Я уж старался как мог, да только… моя бабка говорила: кому повешенным быть, тот не потонет. А Верунька потонула.
Она уже на фотографии выглядела мертвой, как слеза аконита. Илья кожей ощущал эманации разложения, исходящие от снимка, от человека, сидящего напротив, готового платить за то, чтобы Илья рассказал ему историю – правдивую или нет – вопрос другой.
Главное, чтобы достоверную.
– Ты не думай, что я про дочку позабыл. Я ей скульптуру на могилу поставил. И плачу́, чтоб глядели нормально… – Он мотнул шеей, будто желая избавиться от тесного воротника. – Год прошел. И тут объявляется эта мымра. Ясно-мать-ее-видящая. И говорит, что Верунчика утонули. Убили то есть…
Мымру по паспорту звали Аллой Борисовной Рюмочкиной, но собственное имя плохо увязывалось с образом, и потому клиентам Алла представлялась Алоизой. Имя, подцепленное в очередном сериале, до которых Алла-Алоиза была большой охотницей, село хорошо. Оно было одновременно запоминающимся, интересным и в меру загадочным.
За именем грянула смена имиджа. Алоиза перекрасила высветленные волосы в кардинальный черный, укоротила так, что стали видны крупные хрящеватые уши и бабушкины серьги со звездчатыми рубинами. При правильном освещении – свечи и только свечи – рубины обретали пугающий кровяной цвет. Имелось у Алоизы и ожерелье – подделка под старину – полторы сотни браслетов с серебряным напылением, и коллекция шелковых шарфов, которые удачно подчеркивали лебяжью шею.
Вообще к выбору нарядов Алоиза относилась со всей серьезностью.
– Знаете, – повторяла она, глядя словно бы мимо клиента, за спину его, сосредотачивая взгляд на пустоте, как будто бы пустота эта вмещала нечто, простому взгляду недоступное. – В мире много непознанного.
Клиенты оборачивались. Все. Некоторые сразу, другие – спустя секунд десять. Третьи держались минуту, но дольше – никто. Они начинали ощущать то иное, о котором говорила Алоиза. Говорила же она мягко и спокойно, не позволяя себе падать в истерику или притворный экстаз.
Переигрывать – нельзя.
– Мы зашорены. Нам говорят, что нужно верить науке, но разве сама наука в состоянии ответить на все вопросы? Она идет по пути, который однажды был признан правильным… а если вспомнить, то та же наука не раз и не два меняла свои взгляды. Она ставила мир на спины слонов. Заставляла Вселенную вращаться вокруг Земли. И населяла далекие земли псоглавыми людьми… но мы продолжаем верить ей.
Отрепетированная речь лилась в уши клиентов, и те внимали, не замечая, как прорастают в них сомнения, а с ними – готовность верить, но уже не науке – милейшей Алоизе, ее коротким черным волосам, ее алым рубинам, ее шелковым шарфам и голосу.
Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая…
Нынешняя рыбка была велика. Пожалуй, слишком велика, чтобы Алоиза справилась с ней в одиночку…
Илье нелегко с воспоминаниями. Они – яркие картинки в книге разума. Иногда ему кажется, что в голове его целая библиотека. Бесконечные полки, заставленные пыльными томами. На корешках их выбиты даты, изредка – имена. Чтобы вспомнить, достаточно взять нужную книгу в руки.
Раскрыть на правильной странице.
Перечитать. Пересмотреть. Пережить день наново.
Иногда это приятно, но чаще – нет.
Из воспоминаний тяжело выбираться. Книга тяжелеет и липнет к рукам, не желая отправляться на полку. Илье приходится применять силу. Это требует сосредоточенности. И он закрывает глаза, а открыв, обнаруживает, что находится в совсем другом томе.
Здесь ресторан. Столик. Холодная рыба. Илья не любит рыбу, но ест, потому что та, которая сидит напротив, внимательно наблюдает за ним. Илья ей не нравится. Инстинктивно. И это правильный инстинкт – для нее, во всяком случае. Поэтому Илья должен сделать так, чтобы она перестала верить своим инстинктам.
Сложно. С другими проще. Можно было бы иначе, но Илья старается избегать насилия, хотя порой оно и экономит время.
– А ее действительно убили? – Саломея разглядывает фотографию внимательно, и эта сосредоточенность дает Илье передышку, которой он не пользуется – слишком опасно.
У Саломеи Кейн хорошие инстинкты.
И не в этом ли причина сегодняшней встречи? Если бы Илья был иным человеком, он с радостью воспользовался бы подсказкой. Однако он не имел обыкновения врать себе: причина не в инстинктах. Причина в том, что Илье захотелось увидеть Саломею.
– Пока не знаю.
У Саломеи Кейн есть собственная книга на полке далматовской памяти. И обложка ее выделяется среди прочих цветом – свежий янтарь. Яркий. Неприлично яркий, как говорила мама, добавляя, что в иных обстоятельствах у этой девочки возникли бы проблемы с замужеством.
Оказалась права: Саломея Кейн замуж не вышла.
– Серьги, да? – Она вытащила из сумки старинную лупу с отшлифованным вручную стеклом и вытертой деревянной ручкой. – У нее очень необычные серьги…
Илья выложил последний из снимков, сделанный по его просьбе.
– Ты меня проверял? – В ее голосе прозвучала обида. – Ты знал и проверял?
– Серьги ей подарил муж. За месяц до смерти.
– И это кажется тебе подозрительным?
– Это первый серьезный подарок за два года брака. И сделан без повода. Сюрприз.
– Тебе ее отец сказал? – Саломея дохнула на стекло и принялась тереть его салфеткой. – Полагаю, он недолюбливает шурина.
Саломея Кейн изменилась, что было логично, но Илья никак не мог определить, насколько глубоки эти изменения. Осталось ли хоть что-то от той надоедливой девчонки, которая ходила за ним по пятам и рассказывала о каких-то совершенно бессмысленных, надуманных проблемах. Саломея брала его вещи, не спрашивая разрешения, как будто само собой подразумевалось, что разрешение это будет получено. А когда однажды Илья сделал замечание, она удивилась:
– Тебе что, жалко?
Даже когда Саломея уходила, она продолжала быть в доме. Ее рыжие волосы оставались на коврах, диванах, словно она метила ими чужую территорию.
А потом было то Рождество и сидение на подоконнике. Зимний сад и бумажные колокольчики для елки. Мишура и взлом бара…
Кролики.
И дурная шутка, которая обернулась ссорой. Слова, к несчастью подслушанные отцом. Он ведь поверил, что Илья отравит… ну да был повод.
Далматов захлопнул эту книгу, злясь, что так не вовремя коснулся ее.
– Где он их взял? – Саломея почесала ручкой лупы переносицу.
– Купил. По случаю. Известная история о старушке, переведенной через дорогу, когда она оказывается внучкой княгини и передает семейную реликвию в достойные руки. Ну или как-то так. Но серьги подлинные. Конец девятнадцатого. Серебро. Бирюза и алмазы.
У нее осталась привычка трогать волосы, заправляя короткие пряди за уши. А пряди выскальзывали и гладили щеки. И веснушки сохранились. Они не бурые, но золотистые. Яркие пятнышки солнца на коже, которой не грозит неестественная бледность.
– Старушка и вправду из дворян. Я разговаривал с ней.
В ней не осталось ничего княжеского, благородного. Напротив, она была обыкновенной старухой, располневшей так, что, казалось, старое платье с трудом сдерживает напор тела. Серая вязаная шаль, приколотая к лифу платья булавками, свисала с плеч. Цветастый платок прикрывал волосы, подчеркивая грубые черты лица. И брюзгливый, скрипучий голос пилил Илье нервы, вызывая одно желание – взять топор и заткнуть эту никчемную человеческую особь.
– Серьги – подарок английской кузины. Свадебный. Правда, за свадьбой последовали похороны… и снова похороны… и опять похороны. Дважды серьги уходили из семьи. И дважды возвращались. Крови за ними числилось порядком…
– Саламандра? – Саломея Кейн застыла над снимком. – Она ведь не случайна.
– Скорее всего. Символ. Предупреждение. Знак родства камней. Или ювелиру нравились ящерицы. Не знаю. Главное, что Андрей был в курсе истории. Странный подарок, да?
Она пожала плечами и поежилась:
– Он ее не любил.
Ну в этом Илья не сомневался.
– Вопрос в другом, – сказал он, собирая пасьянс из фотографий. – Совершил ли он убийство? И если совершил, то как? Серьги-то пропали.
– Кто взял, тот убил? – Саломея закончила мысль. – Но там ведь были… еще игроки? Царь, царевич, король, королевич, сапожник…
– Или портной. Разберемся?
И все-таки она задумалась над этим предложением, а взгляд стал колючим, недоверчивым. В какой-то момент Илье показалось, что сейчас Саломея откажет. Это, конечно, не смертельно, но неприятно. В конце концов, он избегал насилия, насколько это было возможно.
Но вот Саломея вздохнула:
– А что нам еще остается? Но учти – ты мне все равно не нравишься.
– Ты мне тоже, – почти искренне ответил Илья.
Он вернется домой спустя час и швырнет перчатки в соломенную корзину с мертвыми цветами. Он пересечет холл, и на пыльном полу останутся следы ботинок. Поднявшись на второй этаж, Илья долго будет возиться с замками на двери. Проснувшийся лакей, древний, как само место, выглянет в коридор и уберется, увидев хозяина. В доме вновь станет тихо.
Настолько тихо, что каждое слово, пусть и произнесенное вполголоса, будет слышно.
– Это Далматов. Хочу сказать, что красный экземпляр несколько подпорчен, но реставрации поддается. Так что наша сделка в силе. Как долго? Думаю, недели хватит. Две – максимум. В таких делах спешить не следует… да, я возьмусь лично…
Весьма скромных размеров сейф стоял на виду и не был заперт, поскольку охранялся нефритовым драконом тангутов, свойствам которого Далматов доверял больше, чем сертификату фирмы – производителя сейфа.
На верхнюю полку отправился футляр с перстнем, с нижней на стол перекочевала шкатулка из черной кожи. Внутренняя поверхность ее представляла собой соты со стенками из китайского шелка. В ячейках же лежали камни. Были здесь и алмазы – прозрачные и цветные, имелись и рубины самых разных оттенков и размеров, изумруды, сапфиры и полудрагоценная мелочь, которую Илья ссыпал, не разбирая на породы.
Вооружившись щипцами, Далматов выудил ярко-алую искру, которую поднес к свету.
– Ну здравствуй, моя прелесть, – сказал он камню. И тот сердито вспыхнул, меняя цвет на бледно-голубой. Впрочем, длилась перемена доли секунды.
Глава 3
Вся королевская рать
С детства Андрюша Истомин знал, что он – особенный. Знание пришло с маминой улыбкой, с бабушкиными мурлыканьями, в которых слышалась исключительно похвала. С табуреткой, выкрашенной в синий цвет, неустойчивой, но замечательной – ведь с нее Андрюша читал стихи. Читал он громко, с выражением, и люди, приходившие в гости, восхищались его талантом.
В школе Андрюшина уверенность в собственной незаурядности лишь укрепилась. Ведь именно его ставили в пример другим, хвалили за аккуратность и вежливость. А когда Андрюша позволял себе быть неаккуратным и невежливым, его упрекали мягко, не забывая при том улыбаться.
Да и кто осмелится всерьез ругать единственного сына директрисы?
Он рос, окруженный любовью, и сам себе представлялся этакой вещью исключительной красоты и редкости. Странным образом это представление передавалось иным людям.
Его любили. Преподаватели, сокурсники, случайные знакомые, даже древняя, как само здание института, вахтерша улыбалась Андрюше приветливо. И он улыбался в ответ, даря себя – во всяком случае, ему это виделось подарком – всем и щедро.
Конечно, находились завистники, но… в целом все складывалось неплохо.
До определенного момента.
– А тебе обязательно идти? – Наденька стояла в дверях, вытянувшись вдоль косяка в нарочито эротичной позе. Розовая ночнушка подчеркивала формы тела.
– Обязательно.
– А обязательно сейчас? – Наденька надула губы. И без того пухлые, они вдруг показались огромными, в пол-лица.
Пора избавляться от этой связи.
– Обязательно.
– Я буду скучать. Очень-очень скучать. – Ноготок скользнул по краю декольте. – Твоя котенька будет плакать… ее ничто не утешит. Ничто-ничто.
Пауза. Актриса из нее никудышная. Сам Андрюша притворялся куда как лучше. И вообще если подумать, то он и не притворялся – он всецело вживался в роль, какой бы она ни была.
– Денег больше нет.
– Совсем нет? – Бровки нахмурились, губки стали еще больше, а подбородок вовсе исчез. – Совсем-совсем? Дрю-у-ушенька… ты меня что, не любишь?
– Не люблю. – Он вдохнул и выдохнул, примеряя однажды снятую маску.
– Что? – переспросила Наденька.
– Милая, ты – красавица. Умница. Просто ангел. Но я тебя не люблю…
Задрожали ресницы, просыпались слезы.
– И дело совсем не в тебе, – Андрюша сделал шаг и протянул руки, взял вялую ладошку с длинными ноготками. – Дело во мне и только во мне. Я думал, что все прошло, но…
– Но что? – Когда она злилась, голос терял томность, зато в нем прорезались резкие ноты.
– Но я не в силах забыть Веру. Я пытался, но сейчас осознал – мои усилия обречены. Я всегда буду верен ей. Пусть не телом, но душой.
– Она ж мертвая.
В чем-то мертвая жена гораздо лучше живой.
– Да. Она мертва, а я жив. Когда-нибудь наши бессмертные души воссоединятся, и я верю, что она простит меня… я тебе рассказывал, насколько великодушна Вера? Нет? Она была ангелом!
– А я…
– И ты ангел. Я знаю, что скоро ты встретишь человека, который оценит тебя по достоинству…
Денег все же пришлось дать. Наденька, сообразив, что решение окончательно и обжалованию не подлежит, торговалась, выдвигая контраргументами разбитое сердце и развалины надежд. Бульдожья ее хватка, назойливость и нежелание просто уйти – а ведь было время, когда у Андрюши получалось завершать романы изящно, – утомили.
Радовало лишь то, что финансовые потери в скором времени будут возмещены.
Все бабы – дуры. Но некоторые – особенно.
На дно сумки Лера положила пакет с деньгами. Вытащила, обернула старой рубашкой и снова положила.
– Все правильно, – сказала Лера, вытирая слезы. – Я все делаю правильно.
Квартиру она обещала освободить к вечеру. И задача не представлялась такой уж сложной: собственных Лериных вещей здесь было немного. Только книги, но книги Лера уже перевезла.
Наверное, надо было продать их тоже… деньги пригодятся.
Деньги Лера любила если не с рождения, то с детского сада точно. Уже тогда она четко осознала взаимосвязь между разноцветными бумажками в мамином кошельке и вещами, которые на эти бумажки выменивались.
По мнению Леры, да и не только ее – отец и бабушка придерживались той же позиции, – вещи мама выбирала без надлежащего тщания, с деньгами расставалась легко, будто бы не понимая, что однажды они могут закончиться.
– Балованная, – повторяла Лерина бабушка, придирчиво разглядывая покупки. – Батон небось в булошной брала. А в магазине-то дешевше. И селедку надо бы цельную… а чулки нашто?
Она вытягивала мамины колготы и, ухватив двумя пальцами, поднимала высоко, чтобы все видели бесполезную покупку.
– Порвались, – оправдывалась мама.
– Заштопай, – бабушка шипела и прихлюпывала. Вечный ее насморк, который лечился вареными яйцами и картофелинами, но никогда не долечивался, делал речь неразборчивой. – Заштопай и нось.
– Я не могу ходить в штопаных колготках.
– Все могуть, а она не можеть. Ишь, панночка.
– Я зарабатываю достаточно, чтобы купить себе пару колгот. Отдайте!
Бабушка отдавала. Во-первых, купленные колготы возврату не подлежали, во-вторых, их легко было порвать. А бабушка не могла позволить себе портить новые вещи.
– Зарабатвает она… о дитяти подумай! Ее ростить надо. На ноги подымать, – бабушка говорила это монотонным скучным голосом, подтирая тряпочкой нос.
– Ей тоже хватит.
Они ругались до вечера, и вечером тоже. Лера засыпала под раздраженное бормотание, и оно преследовало ее в детских снах, рядясь в разноцветные колготы, все как один – штопаные, чужие.
Наверное, в Лериной жизни все могло бы сложиться иначе, останься мама с ними. Но ей однажды надоело экономить.
– Вы – совершенно невыносимые люди, – сказала мама. – Я с ума с вами схожу!
– Оно и видно.
Бабушка держала у переносицы свежесваренное яйцо, белое, с красной магазинной печатью. И Лера думала, отпечатается ли это клеймо на сухой бабкиной коже или нет.
– Я ее заберу. Позже.
Забрала мама лишь золотые серьги-гвоздики, подаренные ей ее мамой, да кожаную сумку. Лера, забравшись на подоконник – пришлось здорово подвинуть стаканы с прорастающим луком, – смотрела вниз, на маму, такую красивую в серой норковой шубке, на ее нового друга, тоже красивого, на черную «Волгу»…
– Не горюй, дитятко. – Сухая бабкина ладонь легла на Лерину голову. – Оно ить как в жизни? Одныя работают. Другыя хвостом крутять. А их потом жизнь возьме и прикрутить. Вот поглядишь, вернется…
Лера ждала, что бабкино предсказание сбудется. Она считала дни, забиралась на подоконник, который бабка упрямо заставляла луковыми стаканчиками. Лера смотрела во все глаза и ждала, что вот сейчас въедет во двор черная «Волга» и мама, красивая, в серой шубке, помашет рукой, а потом поднимется и скажет Лере:
– Собирайся. Поедем со мной.
И Лера поедет в тот другой, великолепный мир, где нет штопаных колгот.
Ожидание закончилось, когда отец привел в дом Клаву.
– Знакомься, Лерунь, это – тетя Клава, – он указал на женщину, высокую, тощую с выпирающим животом, на котором возлежали водянистые руки. – Она будет твоей мамой.
Клава работала в круглосуточной привокзальной столовой, откуда приносила пакеты еды – холодного пюре, комковатой пшенки, котлет и кусков курицы с беловатой жирной кожей. Еда отправлялась в морозильник, где могла храниться долго. Клавина рачительность всех радовала, и ссоры в доме прекратились. Клава не была плохим человеком, скорее уж равнодушным. Она с одинаковым спокойствием относилась и к супругу, и к Лере, и к собственному ребенку, который просто однажды появился в квартире.
Младенцу выделили старую кроватку и старый же комод, потеснив Лерины вещи.
– В тесноте, зато свое, – сказала бабка, разглядывая бледного слабенького мальчишку. Он и кричать-то не умел, только кряхтел, будто бы от рождения был стар.
Младенца нарекли Иваном и начали приучать к экономии. Бабка достала с антресолей старые Лерины вещи, здраво рассудив, что младенцу плевать – мальчуковые они или девочковые. Клава не возражала. Она как-то очень быстро вышла на работу, перепоручив ребенка бабке и Лере. И в доме опять появились перемороженные котлеты, комковатое пюре и полезная пшенка…
Лера привыкла.
Эта привычка, въевшаяся в кровь, мешала. Она останавливала руку, потянувшуюся в кошелек. Она заставляла придирчиво вглядываться в вещи, искать в них не красоту, но практичность. Единственные купленные туфельки из белой замши, на тонюсенькой шпильке, стоили нескольких бессонных ночей и закончились обострением гастрита.
Если бы нашелся покупатель, Лера продала бы туфли, не задумываясь.
Но покупатели не находились, и туфли легли в шкаф. Надевать их было жалко. Иногда Лера доставала коробку, выносила ее на лоджию, к окну, на котором выстроились пластиковые стаканчики с головками лука, и разглядывала покупку.
Скидка в пятьдесят процентов. Это выгодно? Выгодно. Но Лера могла выбрать что-то более практичное. Без каблука – в каблуках часто ломаются супинаторы и набойки слетают регулярно. Не из замши, но из кожи или кожзама, который еще дешевле…
– Мы просто ждали подходящего случая, – Лера вытащила из коробки туфельку и прижалась к ней щекой. – Совершенно особого случая.
Обернув каждую туфельку рисовой бумагой, Лера уложила их обратно в коробку, а коробку отправила в сумку. Теперь кроссовки. Джинсы. Свитер и пара рубашек в клеточку, купленных в секонде, но с виду почти новых.
Скоро все изменится.
Белые туфли. Белое платье. И флердоранж в волосах. Из Леры получится красивая невеста.
Милочка выпаривала мочу. Вонь стояла неимоверная, и Кирилл Васильевич не выдержал, сбежал в зал. Приоткрыв окно, он прижался к щели носом и задышал, втягивая резкие городские ароматы, спеша насладиться ими, но был пойман за сим предосудительным деянием.
– Кирюша! – Строгий Милочкин голос заставил отпрянуть от окна. – Что ты такое делаешь?
– Голова закружилась, – попробовал оправдаться он, понимая, что оправдания не спасут: Милочка была женщиной строгой, где-то даже суровой.
– Иди на кухню.
– Там воняет!
– Тебе просто надо привыкнуть.
Она повторяла это уже месяц, с тех самых пор, как перешла на новую систему по Малахову и заполонила кухню склянками с мочой. Желтоватая, та в банках гляделась вполне ничего, и всякий раз, поднося стакан ко рту, Кирилл Васильевич убеждал себя, что пьет сок.
В конце концов, уринотерапия лучше лечебного голодания…
– Пары урины благотворно влияют на состояние кожи. Твоя кожа омолодится, – сказала Милочка тоном, не терпящим возражений. – Разве ты не чувствуешь, как она омолаживается?
Единственное, что чувствовал Кирилл Васильевич, – это тошноту, о которой помалкивал. Не надо перечить Милочке, особенно теперь.
– А может, я лучше здесь посижу?
Милочка нахмурилась.
– Ты такой же маловерный, как и твой братец. – Она выставила указательный палец с пожелтевшим ногтем. – И такой же слабый. Вы оба думаете, что деньги решают все. На самом деле деньги – зло. На них скапливается отрицательная энергия. Скажешь, что не так?
Кирилл молчал.
– Деньги испортили тебя!
Его испортят, если Кирилл не найдет денег. Тридцать тысяч… когда только успел? А ведь поначалу карта шла, прямо-таки сама в руки просилась.
– Милочка!
– Что? Я говорила и буду говорить то, что думаю. И если ты меня стыдишься…
Кирилл Васильевич жены своей не стыдился, скорее уж того факта, что его, человека, в общем-то, разумного, угораздило влюбиться в эту одержимую странными идеями женщину.
Они познакомились на какой-то совершенно бессмысленной вечеринке, где «Агдам» закусывали бутербродами с варенкой, а на десерт предлагались карамельки «Мятные», где кипели споры, а словесные дуэли заканчивались объятиями. Где каждый второй считал себя диссидентом, а каждый первый – сочувствующим, но при том все диссидентство сводилось к кухонным разговорам на высокие темы.
– Скажите, вы верите в Бога? – спросили тогда еще не у Кирилла Васильевича, но у Кирюхи, мирового парня, молодого специалиста и перспективного кадра в одном лице.
Спрашивала девушка в круглых очках, с дужкой, замотанной синей лентой. С дужки свисала цепочка, и серебряный крестик лежал на смуглой щеке.
Кирюху очаровал этот крестик, а потом и щека, и пухлые вишневого цвета губы, и глаза ярко-синие, и черные цыганские кудри, которые то и дело падали на лицо. Девушка отбрасывала их небрежным резким жестом и хмурилась, раздражаясь этакой непослушностью волос.
– Так вы верите или нет?
– Конечно, нет, – ответил Кирюха и протянул стакан с «Агдамом» и надкушенный бутерброд. – А вы?
– Христианская концепция понимания божественного имеет множество недостатков. – Бутерброд и стакан незнакомка приняла. – Однако вместе с тем не следует отрицать, что средневековый теоцентризм оказал величайшее влияние на современную культуру.
– Советскую?
– И советскую в том числе. Человеку свойственно искать Бога, стремиться к совершенству…
Она говорила с таким пылом, с такой верой, какой Кирюха не встречал ни в одном из прошлых и нынешних своих знакомых. И жар ее слов переплавил скептическое его отношение.
Милочка – Милослава – привела его в храм, к темноликим иконам в кованых окладах. Она заставила дышать ладаном и слушать заунывные напевы богомольных старух…
Потом была свадьба. Герман высказался против.
И родителям Милочка-Милослава не глянулась. Не стоило ей тогда надевать черное платье и шляпку с вуалеткой. Не следовало вывешивать напоказ серебряный крест и говорить о Боге, вере и философии…
– Не следует нам туда ехать, – сказала Милочка, выдернув из воспоминаний.
Годы ее не пощадили. В черных волосах быстро проклюнулась седина, нарочито яркая, словно стремящаяся подчеркнуть Милочкину индивидуальность. Кожа потемнела и рано покрылась морщинами. Фигура оплыла, сделавшись бесполо-квадратной. Но и сейчас, глядя в ярко-голубые глаза, Кирилл Васильевич видел ту волшебную женщину.
– Ты меня слышишь, Кирилл?
– Он – мой брат.
Для Германа тридцать тысяч – копейки. Надо лишь попросить… объяснить…
– А я – твоя жена. И ты живешь со мной, а не с братом.
Она отложила палку, которой помешивала урину, и взяла его за руку.
– Посмотри мне в глаза. Ты не хочешь с ним встречаться. Ты помнишь, как он обошелся с нами?
– Герман переживал…
Жлоб он. И рассказывать про игру нельзя. Герман не выносит чужих слабостей, а карты – это слабость. Тогда что? Признаться Милочке. Она найдет выход. Всегда находила.
– А ты разве не переживал? Вера – твоя племянница. Мы ее любили. Мы скорбим о ней. А он – женился на этой проходимке. А тебе – ни словечка. Как будто бы ты ему и не родной, – она сжала руки. Милочкины пальцы, несмотря на кажущуюся пухлость, были крепки. – Но вот теперь он тебя зовет. И ты бежишь на зов, роняя тапки.
Тапки оставались на ногах Кирилла.
– Кирилл, скажи, что дело не в долгах.
Кирилл молчал. Милочка хмурилась.
– Ты же обещал мне, что…
– Так получилось, солнышко… я обещаю, что это – в последний раз.
На кухне что-то зашипело, и вонь усилилась многократно. Ойкнув, Милочка бросилась прочь.
С внезапным раздражением – пора бы ей остепениться, в ее-то годы – Кирилл распахнул окно и вдохнул смолистый сладкий воздух.
Завтра же… он завтра встретится с Германом и, если повезет, получит свои тридцать тысяч.
Лучше бы сорок. С запасом.
Полина ходила по квартире босиком. Эта привычка завелась у нее не так давно, аккурат после похорон. В тот день у Полины пропали вязаные чулки, и она, вечно мерзнущая, неспособная выдержать малейшего сквозняка, растерялась.
Конечно, сейчас Полина понимала, что причина растерянности – нечеловеческое напряжение, стресс и страх перед будущим, но тогда она просто разрыдалась. И плакала долго, горько, до распухших век и осклизлого от соплей носа.
– Чего ревешь? – хмуро спросил Герман Васильевич, которому не спалось и не работалось.
– Н-носки потеряла, – ответила Полина, торопливо вытирая слезы. Она знала, что хозяин слез на дух не переносил. Но тут он вытащил мятый платок и сунул в руку.
– На…
Полина была уверена: именно тот короткий разговор изменил ее судьбу. И когда всем прочим было отказано от дома, Полине предложили остаться. А потом она вышла замуж и стала полновластной хозяйкой квартиры. И сняв с полки фарфорового голубка, Полина промурлыкала:
Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках…
Говоря по правде, Герман мало походил на золотую рыбку и внешностью, и характером. Зато был щедр и страдал аритмией. А в совокупности с нездоровым образом жизни, оздоравливать который Герман категорически не желал, Полинино замужество грозилось быть недолгим.
От золотой рыбки останутся палаты царские… и счета заморские… и каменьев драгоценных сундуки. Один такой стоял в Полинином будуаре. Сундук был не так чтобы велик, да и камни в нем лежали не самые дорогие, но прежде-то у Полины не имелось собственных украшений.
Гранатовый браслет, совсем как у Веры Николаевны, только лучше. Жемчужная нить, пусть и с плохоньким, неровным жемчугом. Гарнитур с бирюзой и перстень с опалом…
Полина полюбила, сидя на полу, лаская пальцами босых ног ворс ковра, раскладывать свои сокровища. Она не примеряла камни, лишь разглядывала. В разноцветных глубинах ей виделось странное, и это странное Полину завораживало, напрочь лишая воли. Оно шептало, что у Германа имеются другие камни, настоящие алмазы и рубины, колье сапфировое, фермуар с изумрудами и аметистовые подвески… или те серьги, с саламандрами в бледно-голубых бриллиантах, о которых Полина не желала помнить. Герман, к счастью, тоже не вспоминал.
Были. Сплыли. Лишь бы не вернулись… ну их, проклятых. Не то чтобы Полина верила, скорее уж осторожность проявляла. Осторожность никогда не помешает.
А вот колье она бы примерила. Полина просила, а Герман отказывал. Раз за разом…
– Зар-р-раза, – передразнила Полина собственную мысль. – Он просто меня не любит. Он скоро поймет, что меня не любит…
Солнечный янтарь, согретый теплом ее тела, ответил, что да, Полине следует поспешить. Ведь если Герман решит, что Полина ему надоела, он просто выбросит ее.
Ненужные вещи всегда выбрасывают.
– Но он ошибается, – Полина надела перстень на мизинец ноги и, отставив, полюбовалась. В гладком озере кабошона тонул свет.
Хорошо бы Герману уйти… но можно ли рассчитывать на судьбу? Полина знала точный ответ.