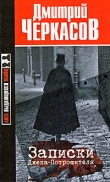Текст книги "Алмазы Джека Потрошителя"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 6
Один плюс один
Металлический привкус во рту был следствием мигрени, равно как и слабость, с которой Далматов боролся. У него получалось держаться, сказывалась привычка, но вот мысли все еще путались.
– Зачем ты его ударил? – шепотом поинтересовалась Саломея. Пальцы ее нервно дергались, перебирали складочки шелкового шарфа какой-то совершенно невообразимой пестрой окраски.
Мама предпочитала сдержанные тона и точно не надела бы это сине-желто-зелено-красное убожество. Но странным образом Саломее многоцветье было к лицу.
– Затем, чтобы он воспринял меня всерьез.
– И что теперь?
Теперь бы упасть куда-нибудь на час, лучше – полтора. Немного сна, и Далматов возродится к жизни, чтобы признать: его затея с треском провалилась.
– Я провожу вас в вашу комнату, – Полина улыбалась. Профессионально так. Дрессированно.
Еще немного, и Далматов поверит, что его рады видеть в этом замечательном доме.
– Надеюсь, вы не обиделись на Андрюшу? Он немного шут.
Тоже переигрывает. Под этой крышей собралось изрядно бездарных актеров. И похоже, что Далматов вот-вот пополнит их ряды.
– А Лера все так же уныла. Я не представляю, зачем ее Вера держала при себе? Они ведь не дружили. Вера ни с кем не дружила. Не умела. Знаете, она была такой… болезненной. Хрупкой. Как перемороженная мимоза. Вот, здесь вам будет удобно. Это Верина комната. Здесь все так, как было при ней.
И данное обстоятельство Полине не по вкусу. Ее недовольство вылезает, как солома из прогнившего мешка. Щетинятся острые стебли, царапают.
– Мы осмотримся, – сказала Саломея. – Если вы не возражаете. Осмотримся и поговорим.
Полина кивнула, показывая, что она все распрекрасно понимает. Будет ли она подслушивать? При других обстоятельствах – несомненно. Но не здесь и не сейчас.
Апартаменты покойной Веры Германовны оказались просторны, захламлены вещами, не сочетавшимися друг с другом ни по стилю, ни по эпохе, ни по каким-либо иным параметрам. В гостиной с основательными диванами эпохи королевы Виктории мирно уживались китайские ковры из искусственной шерсти и пластиковые дизайнерские стулья, напоминавшие куски оплывшего воска. Пара медных канделябров, покрытых слишком уж равномерным слоем патины – ни дать ни взять глазурь на торте, – отражалась в огромном зеркале, чья рама была исполнена весьма и весьма искусно.
За гостиной скрывалась спальня с массивной кроватью под балдахином.
– Ты спишь на диване, – безапелляционно заявила Саломея. И тут же передумала: – Или я.
Имелась в наличии и ванная комната, надо полагать – та самая, в которой утонула Вера.
– Здесь неприятно, – сказала Саломея, и Далматов с ней согласился.
Слишком много места. Слишком много белого и стального, блестящего и этим блеском провоцирующего новый приступ мигрени.
– Неправильно. Как будто… – Саломея переступила через высокий порог, – как будто чего-то не хватает.
Она опустилась на четвереньки, а потом и вовсе легла, распластавшись на стерильно-белоснежной плитке. Не в силах больше выносить эту белизну, Илья достал очки.
– Я угадала, – в голосе Саломеи звучала печаль. – Ты специально все.
– Что именно?
– Мигрень. Это ведь хроническое заболевание. Бабушка мигренями страдала. И всегда носила с собой лавандовую соль. А еще терпеть не могла Вагнеровские марши и запах тушеных перцев. Говорила, что именно от них мигрень и начинается. У нее – от перцев. У тебя – от солнца. Но ты все равно полез. Зачем? Разжалобить меня?
– Обычно срабатывает. С женщинами. Мужчины реагируют иначе.
– Я не люблю, когда мне врут.
– Я не врал.
Теперь, сквозь затененные стекла, Илья видел комнату иначе. Квадрат. Площадь – метров двадцать. Два окна. Восемь пилястр, разрывающих пространство. Зеркала. Умывальник – стеклянная чаша на хромированном стебле. Ванна, которая достаточно велика, чтобы поместились двое.
Вдвоем тонуть неудобно.
– Ты манипулировал.
Но есть и другие, куда более интересные занятия.
– Считай, что я уже наказан.
Отголоски боли окопались в районе затылка. Эта пехота будет держаться до утра, и хорошо, если, отступая, не станет взрывать позиции.
И все-таки ванна. Куб из белого камня. И белый же кувшин с серебряным носиком. Знакомый… где-то Илья видел такие. Вспомнить бы. Позже, когда голова отойдет.
– Но здесь все равно чего-то не хватает. Слишком… слишком все белое.
Саломея двинулась по периметру. Она перемещалась на четвереньках, вглядываясь в пол, но то и дело поднималась на колени, выворачивала шею.
– У нее все яркое. Мебель. Ковры. Обои. А здесь – белым-бело и… и страшно. Как в больнице.
– Она часто болела.
– Как и ты. Тебе нравились больницы? – Она все-таки поднялась на ноги. – Только честно.
– Не особо.
– А ей, получается, нравились. Или просто мы чего-то не видим…
Саломея провела пальцами по стене, и стена ответила на прикосновение скрипом.
– Она ведь писала картины, верно? Ты не говорил, но я кое-что нашла. Она писала картины и выставлялась. Дважды. И оба раза неудачно… она расстроилась. Я бы расстроилась на ее месте. И картины… я бы не смогла расстаться со своими работами. А она смогла? Нет. Я думаю, что она спрятала их в этой комнате. И куда они подевались?
Илья знал точный ответ:
– Вера их сожгла.
Картины вывозили из дома тайно, ночью, укутав в постельное белье, как будто бы стыдясь их или себя, того, что предстояло сделать. Вывозили на пустырь и там уже сваливали на облысевшую землю, ломали, выдирая из рам. Ошметки холстов падали разноцветными бабочками.
– Может, не надо? – слабо спрашивала Полина, жалкая, растерянная и податливая.
– Не надо, Верочка, – вторил Полине Андрюша.
А Лера молчала. Ей было жаль и дорогих рам, и холстов, и красок. Денег-то на это все потрачено изрядно. И теперь вот жечь? Зарисовала бы белым и там, глядишь, по второму разу можно было бы использовать. Или вот отмыть, растворителем. Лера бы отмыла, попроси ее Вера. Но просьбы не последовало, а Вера, вдруг обезумев, ломала, кромсала, рвала. И разорвав последнее полотно, вдруг обессилела.
– З-зажигайте. – Она оперлась на машину и воткнула каблуки в землю, пытаясь удержаться на ногах.
– Твоему отцу это не понравится, – покачала головой Полина.
– Хватит уже! Хватит смотреть, что нравится ему! Я тоже… тоже имею право…
Она заплакала, как обычно неумело, стесняясь этих слез. Ее веки тотчас набрякли, а глаза побелели, и само лицо стало одутловатым, некрасивым.
– Ну… теперь уже все равно… если тебе станет легче.
Андрюшка попытался было обнять жену, но та вывернулась, оттолкнула его со странной злостью и повторила:
– Поджигай!
Из багажника достали пластиковую бутыль с бензином. Поливали деловито, и Лера следила за тем, как бензин – еще одна зряшная трата – скатывается с промасленных клочков картин. Потом щелкнула зажигалка, и рыжий огонек переполз на фитиль из простыни.
А белье-то было новехоньким, хранящим запах упаковки.
Картины вспыхнули сразу, резко, с хлопком, который ударил по Вериным нервам. Она вдруг вздрогнула, закричала во весь голос и кинулась к костру.
– Стой, дура! – Андрей выронил зажигалку и схватил Веру.
Держал крепко, прижимал к себе, пыхтя от натуги и раздражения: у него на этот вечер были иные планы. А теперь приходится возиться с безумной избалованной девчонкой.
– Отпусти! – Она выла и выворачивалась, то садилась на землю, заставляя Андрея нагибаться, то отталкивалась от земли, выпрямлялась, и тогда он повисал на Вере.
Костер дымил черным, жирным, и ветер бросал горсти этого дыма на Андрея. Теперь пропитаются этой вонью и пальто новое, кашемировое, и шарф, и волосы, и даже машина.
А этой дуре плевать. Сама не знает, чего хочет. Бесится с жиру.
– От… отпусти, – сказала Вера, обмякнув, но Андрей не послушал. Он оттянул ее – теплый мешок с костями и требухой – к машине и втолкнул в салон.
– Верочка, может, тебе успокоительного налить? Как ты себя чувствуешь?
Никак, она сидела, позволяя Полине щупать лоб, мять щеки и руки, раздвигать губы, всовывая меж ними горлышко фляги.
А костер догорал. Зола – вот и все, что осталось от картин, и обугленными костьми виднелись в ней рамы.
– Герман Васильевич ругаться станет, – Лера обращалась ко всем сразу и ни к кому по отдельности. – Он ведь платил за все.
– Ненавижу. – Оттолкнув Полину, Вера встала. – Ненавижу его!
Она вывалилась наружу и кинулась к догоревшему костру. Она топтала его, растирая и пепел, и обглоданное огнем дерево, марая замшевые сапожки.
Андрей думал о том, что он больше не выдержит рядом с ней. А Полина спокойно, отрешенно даже, наблюдала за истерикой. И только Лера тянула руки, пытаясь поймать широкие Верины рукава.
– Прекрати. Прекрати, – лепетала она.
Странное дело, но Вера услышала этот голос и остановилась. Она тяжело дышала. Ее лицо было красно, налито гневом, а из носа шла кровь.
– Дай вытру, – Лера вытащила из кармана тряпочку и прижала к носу. – Домой пойдем? Или погуляем? Пошли погуляем. Гулять полезно. И не переживай, Вер. Новые нарисуешь…
– Нет.
Тряпочку она вырвала и, скомкав, практически затолкала в ноздрю.
– Не следует говорить о картинах. Ее это беспокоит. Нельзя беспокоить Веру…
– Полька, я еще здесь. Я слышу. Не говори обо мне так, как будто меня нет! Я есть!
– Конечно, есть, милая…
– И ты не притворяйся, Андрюшка. Ты меня не любишь… никто меня не любит! Уходите!
Она бросилась прочь. Вера бежала с пустыря огромными скачками, нелепо покачиваясь на каблуках, но не падая. Вера то и дело оглядывалась, проверяя, не бегут ли за ней.
Все стояли.
– Далеко не уйдет, – сказала Полина и протянула руку: – Дай закурить.
Андрей вложил в ладонь сигарету, а вот зажигалку пришлось искать. Нашла Лера, долго, внимательно разглядывала, и в какой-то миг Андрею почудилось – не отдаст.
– Надо сходить за… этой, – Полина курила медленно, наслаждаясь каждой затяжкой. И ароматный дым сигареты отчасти перебивал вонь костра. – Еще ногу подвернет… или поцарапается.
Или потеряется. Встретит кого-нибудь. Просто придумает себе приключение, и собственная фантазия спровоцирует истерику. Андрюшке порой хотелось залепить женушке пощечину. Хорошую отрезвляющую пощечину, которая разрушила бы нервный ее мирок.
Нельзя. Герман костьми ляжет, но сохранит для дочери потемкинскую деревню ее жизни. Противно. И с каждым днем все противнее. Потому и курит Полина, ветеран затянувшейся пьесы. Потому и бродит неприкаянная Лера вокруг костра, потому сам Андрюшка переминается с ноги на ногу, не спешит бежать вслед за женушкой.
Куда она денется?
– А я ему говорила, что не следует давить, – Полина уронила окурок и наступила, растерла с наслаждением, как будто представляла на месте окурка кого-то другого. Кого? – Но разве он слушал? Разве он вообще способен слушать?
– Он хотел как лучше, – попыталась оправдать хозяина Лера.
– Для кого лучше? Ей и так неплохо. А выставка… слава… это ему надо, а не Верке. Ладно, пошли.
Она двинулась по следу, опытная гончая, точно знающая, что жертве от нее не уйти.
– Почему она такая злая? – Лера спрашивала шепотом, но Полина все равно услышала:
– Потому что задолбал этот спектакль. Господи, разве он закончится когда-нибудь?
До финальной сцены оставалось три месяца.
Глава 7
Удар судьбы
Мадам Алоиза позвонила в дверь в десять часов десять минут. Ровно на десять минут позже назначенного времени. Вообще-то она пришла вовремя и даже раньше, но, завидев серую башню дома, мадам Алоиза остановилась. Это место выглядело зловещим, а дело – тухлым. И сама мадам Алоиза в жизни не взялась бы за него. Но ведь взялась же. Аванс получила.
Отрабатывать надо, и, подняв воротник норковой шубы, мадам Алоиза шагнула под козырек подъезда. В конце концов, она не настолько глупа, чтобы поддаваться панике.
Мадам Алоизу ждали. Дверь открыла бледная девушка неопределенного возраста. Глубокие тени под глазами делали ее старше, а стянутые в пук волосы и широченные клетчатые брюки, напротив, привносили в облик подростковые черты.
– Меня ждут. – Мадам Алоиза с неудовольствием отметила сиплоту в голосе. Неужели простуда?
Девушка кивнула и помогла выпутаться из мехов.
– Там, – указала она в коридор. – Ждут. В зале. Я провожу.
Норке нашлось место в гардеробной.
– Как вас звать, милое дитя?
– Лера, – буркнула девица и скукожилась.
Взгляд у нее был растерянный и злой. Странное место. Может, все-таки уйти следовало бы?
– Это имя тела… а вот душа ваша…
Пятерня коснулась холодного покрытого испариной лба.
– Душа ваша носит имя…
– Вас ждут, – девица ударила по руке и вывернулась. – Идемте. Герман Васильевич не любит ждать.
О да, этот мужчина производил впечатление человека, не склонного сдерживать душевные порывы. И сколь часто его недовольство выплескивалось на эту светлую голову?
Алоизе не хватало информации. Заказчик был скуп. Сказал, что если она – профессионал, то справится. И возместил неудобства деньгами. Аванса хватило, чтобы рассчитаться за шубу, а если сегодня все пройдет нормально – конечно же, нормально, иначе и быть не может! – мадам Алоиза позволит себе отдохнуть.
Турция? Египет? Греция? Или яркий Таиланд?
– Скажите, – Лера обернулась и уставилась круглыми кукольными глазенками, – а вы и вправду видите… ну видите…
– Будущее? – Нынешняя улыбка мадам Алоизы была мягка. – Нет, дитя. Будущее нельзя увидеть. Оно состоит из тысячи решений и ста тысяч случайностей. А те, кто утверждает, будто бы способен предсказать, – лжецы.
– А прошлое?
– Прошлое я вижу.
Кажется, этот ответ пришелся весьма не по вкусу Лере.
– Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… – бормотание Ильи действовало на нервы. И Саломея кусала губы, не позволяя себе оборвать эту заевшую считалочку.
Он ведь нарочно. Мстит? Дразнит? Или, доводя до кипения, передвигает Саломею-пешку из клетки в клетку, выравнивая ее с иными фигурами, которых полна комната.
Сумасшествие.
Сожженные картины, о которых никто не желает разговаривать. Мрачный Гречков, чья гримаса выражает и недоверие, и в то же время надежду. На что он надеется? На кого?
Его супруга спокойна, ледяная принцесса, занявшая чужой трон. Но подергивание века выдает, что сидеть на этом троне неудобно.
Лера, примерившая роль служанки. И это не примерка – Лера подняла однажды оброненную маску.
Андрюша. Шут.
Шуты – сложные фигуры. Они мешают правду с ложью, делая одно неотделимым от другого.
Кирилл Васильевич и его дурно пахнущая жена. Два неразлучника на одной ветке. Держатся друг друга? Или держат друг друга?
– …а ты кто такой…
Саломея все-таки оборачивается. На губах Далматова шальная улыбка, он сейчас похож на безумца или скорее – блаженного, которого озарением придавило.
– Илья, прекрати, пожалуйста, – прошипела Саломея.
– Любишь цирковые номера? – наклонившись к самому уху, спросил он. – Клоуны уже на сцене.
Женщина, появившаяся в комнате, была инфернальна. Высокого роста, цыганской смуглоты, она куталась в скользкие шелка и яркий атлас. В ушах ее пылали рубины, а на руках звенели десятки браслетов.
– Я чувствую… – женщина воздела дрожащую руку. – Я чувствую…
Ее веки сомкнулись, а когда открылись вновь, то оказалось, что глаз у женщины больше нет.
– Как тебе фокус? – Илья подвинулся поближе и оперся локтем на Саломеино плечо. – Старенький, но эффективный. Главное, научиться управлять глазными мышцами.
Ропот стих. А гадалка, упершись собранными в щепоть пальцами в напудренный лоб, застонала.
– Здесь было совершено преступление… преступление… вода течет. Течет вода.
Она вдруг дернулась, изогнувшись всем телом налево, сделавшись похожей на искореженное ветрами дерево. И руки-ветви потянулись к людям.
– Вода течет, вода несет… вода знает правду…
– Прекратите! – взвизгнул Андрюшка, пятясь. – Я тоже так умею! О! Вода течет! Ветер дует! Земля лежит! Я чую, чую…
– И-извините, – гадалка выпрямлялась медленно, как если бы тело ее еще не принадлежало ей. И длинные руки обвисли, а голова упала на грудь. – Здесь… здесь очень темная аура. Мне надо присесть… надо отдохнуть.
Она рухнула в кресло и застыла. Поднесли воды, от которой гадалка отказалась нервным жестом.
– Мне нужен столик. Вот тот подойдет… свечи… в моей сумке. Будьте столь любезны…
Саломея хотела предупредить, что спиритическим сеансам веры нет, но жесткая ладонь сдавила плечо.
– Не торопись. Посмотрим.
– На что?
Гадалки лгут. Они играют на надеждах и безнадежности, собирая мозаику из фактов и дополняя ее собственными домыслами. Они учатся угадывать по глазам, по губам, по нервным скрытым жестам о чаяниях клиентов и облекают догадки в слова.
– На них. Они нервничают.
Полина кусает губы. Ее пальцы прижаты к щекам, а щеки белы, и пальцы белы. По лбу же скользит капля пота, которая вот-вот достигнет переносицы.
Кирилл Васильевич прижался к супруге, и та, обняв, шепчет ему что-то не то успокаивающее, не то наставительное.
Лера забилась в угол и оттуда следит за всеми и сразу. Взгляд ее мечется, но не задерживается ни на ком. В нем столько злости, что Саломее становится страшно.
Андрюша держит улыбку, как удар. Но происходящее ему не по вкусу, и это заметно, не внешне, но чутьем, которое вдруг очнулось и кричит, что вот-вот случится ужасное.
Меж тем на середину комнаты вытянули столик из красного дерева, инкрустированный сандалом и слоновой костью. Мадам Алоиза – даже имя в этой женщине было фальшиво – расставляла на столике свечи всех цветов и размеров, а между ними воздвигла друзу хрусталя.
– А карты будут? – ернически поинтересовался Андрюша и, повернувшись к Саломее, подмигнул: мол, мы-то с тобой понимаем, что все это чушь и притворство.
– Карты не нужны.
Другие камни, не драгоценные – да и камни ли вообще? – занимали отведенные замыслом гадалки места.
– Необходимо уравновесить волновую структуру, – пояснила вдруг супруга Кирилла Васильевича.
– Именно! Приятно видеть понимающего человека.
И тут Саломея заметила, что руки гадалки дрожат. Она очень уж долго возится, слишком долго, рискуя нарушить очарование момента.
– Каждый камень излучает на своей волне. – Почувствовав поддержку, Милослава воспрянула духом. – И только энергетически просветленный человек способен ощущать эти волны! Они пронизывают пространство и время…
Зеленый. Желтый. Синий. Ярко-красный. Рубин? В лучшем случае шпат. Белесый осколок лунного камня и черный кус агата. Круг почти сомкнулся, а дрожь усилилась.
– Что с тобой? – Илья отпустил плечо, но взял руку, сжал. – Ты дрожишь?
– Здесь холодно, – солгала Саломея и поежилась, закрепляя ложь.
Далматов снял пиджак и набросил на плечи. Пиджак был теплым, но дрожь не прошла. У Саломеи тряслись руки и ноги, зубы щелкали друг о друга, и мурашки бежали по шее.
Зима идет. Зиме дорогу. Черная ночь лежит за окном. Чернота проглотила звезды и ослабевшую луну. Она выпустила седых змей и приоткрыла врата, за которыми спит запределье. Сейчас оно просыпалось.
– Это же просто цирк, – Илья обнял, прижал к себе, как будто имел полное право на подобную фамильярность. Играет в заботу? Плевать. Саломее страшно.
– Надо остановить ее…
– Просто цирк. Все хорошо, Лисенок. Все хорошо.
Он лжет. Всегда лжет. И эта женщина, в руках которой старинная бензиновая зажигалка. Сухо щелкает кремень. Огонек рождается недоношенным, слабым. Он трепещет и перепрыгивает на подпаленные фитили свечей с неохотой. Но, обжившись, разгорается.
Чадно. Душно. Холодно и душно. Руки Ильи – стальные обручи, из которых не вырваться.
– Сиди. Молчи, – приказывает он, и в голосе больше нет притворной заботы.
Мадам Алоиза командует парадом. Ей удалось переступить через собственный страх, и она гордится этим. Машет руками. Шелковые рукава тревожат воздух, и пламя кланяется хозяйке.
– Выключите свет. Подойдите. Все подойдите…
– Опасно, – слово слетает с губ Саломеи. – Далматов, ты… ты разве не слышишь?
Он не хочет слышать. Лампы гаснут, и комната наполняется дрожащим светом, в котором так удобно прятать выражения лиц. Из сумки мадам Алоизы появляется деревянная чаша, украшенная бессмысленными символами, и нож с волнистым длинным лезвием.
– Все подойдите!
– Идем, – Далматов поднимает Саломею силой. Он, оказывается, очень сильный, и это открытие неприятно. – Лисенок, не глупи. Ты же взрослая девочка. Возьми себя в руки.
Он прав. Уже не остановить. Запределье заглядывало в комнату вместе с тенями, с тонким жасминовым ароматом духов, со сквозняком, который трогает шелка гадалки, обходя пламя стороной.
Рука Саломеи в ловушке. Ей не позволят сбежать, но позволят участвовать в этом спектакле.
– Возьмитесь за руки! – Гадалка вдруг срывается на шепот. – Крепко держите.
Держат. Вторая ладонь мокра от пота. Чья она? Андрюша. Улыбается, прижимается боком, дразня Далматова. А тот смотрит на гадалку, на камни и чашу, на чертов нож, который выглядит слишком уж острым для реквизита.
Запределье улыбается.
Рядом с чашей становится треножник из меди, с чашей, полной углей.
– Да она дом сожжет к чертовой матери! – Андрюшино возмущение не находит поддержки. Люди смотрят на чашу, на угли, на узкие женские ладони, которые медленно наливаются багрянцем. Мадам Алоиза выгибается.
– Призываю тебя, о дух Веры Германовны Гречковой-Истоминой, силою Бога Всемогущего, и повелеваю тебе именами Бараламенсиса, Балдахиенсиса, Павмахия, Аполороседеса и могущественнейших князей Генио и Лиахида, служителей Трона Тартара и Верховных Князей Трона Апологии девятой сферы. Призываю тебя и повелеваю тебе, о дух Веры, именем Того, Кто произнес Слово и сделал это Священнейшими и Славнейшими Именами Адонаи…
– Господи, какая чушь… – Но Андрюша произносит это очень тихо. Он очарован, как и остальные.
Мадам Алоиза вынимает из-под стола белую полотняную тиару, расшитую Соломоновыми гексаграммами.
– Эль, Элохим, Саваоф, Эилон… Явись передо мною и без промедления покажись мне, здесь, за чертою этого круга…
Нож в руке касается оголенного запястья, вспарывает кожу и выпускает кровь. Она выглядит черной и густой, как битум. Струйки скользят по ладони, по пальцам и падают в чашу.
– Явись в сей же миг, в зримом и приятном облике, и соверши все, что пожелаю я, воззвав к тебе от Имени Вечносущего и Истинного Бога, Гелиорема. Призываю тебя также истинным именем твоего Бога, коему ты обязан повиноваться, и именем Князя, властвующего над тобою. Явись, исполни мои желания и до конца поступай в согласии с волей моею.
Запределье хохотало. Над нелепым обрядом, в котором смешались обрывки иных, настоящих и куда как более страшных. Над женщиной, решившей, будто ей дано открывать врата между мирами. Над людьми, ожидающими чуда.
– Надо остановить…
Илья сжал руку. Больно же! И хорошо. Боль отрезвляет. И запределье откатывается. Оно – море, что шлет волну за волной штурмовать скалистый берег.
– Призываю тебя именем Того, кому повинуются все живые твари, Неизреченным Именем Тетраграмматон Иегова, Именем Коего повергаются в ничто все стихии. Явись во имя Адонаи Саваофа, явись и не медли. Адонаи Садай, Царь Царей, повелевает тебе!
Крик взвился к потолку, и темнота отшатнулась. Крови в чаше набралось изрядно, и мадам Алоиза перехватила порез пластырем. Кровью она рисовала, прямо на поверхности стола и не кистью, а пальцем.
Да. Нет.
Железный круг с коваными буквами псевдостаринного стиля. На этом колесе нашлось место для ять и ер. А на руке мадам Алоизы повисла цепочка с пентаграммой.
– Ты здесь? – спросила гадалка громким сиплым голосом.
Свечи мигнули, а цепочка шевельнулась, отклонившись к кровавому «да».
– Ты – Вера? Вера Германовна Гречкова-Истомина?
Очередное «да» и нервный смешок от Андрюши.
Пентаграмма пляшет, выводит круги, закладывает петли, и в этой пляске видится чужая воля. Саломея смотрит, но не на пентаграмму – на руку Алоизы. Та выглядит неподвижной.
– Вера… скажи, пожалуйста, ты сама умерла?
– Нет.
– Тебя убили?
Тишина. Люди перестали дышать. Люди ждут ответа, готовые поверить ему. И пентаграмма медленно наклоняется, роняя тень на стол. Тень подползает к буквам и накрывает их.
– Да.
– Это же хрень какая-то! – Скользкая Андрюшкина ладонь отпускает Саломею. – Герман…
– Закройся! – это не крик, но рев взбешенного быка.
– Имя… скажи нам имя… назови своего убийцу.
Пентаграмма пляшет.
– Хватит!
Андрюшка бросается к столу, одним движением сбивает свечи и жаровню. Крупный уголь сыплется на ковер. Воняет горелым. Раздается визг и крик. Пляшут тени, давят остатки света.
– Прекратите!
Но короля, утратившего власть над подданными, не слышат. Свечи гаснут. Звенят камни. На миг воцаряется темнота, наполненная дыханием, сипом, хрипом и какой-то возней. Саломею выдергивают из круга. Она слышит, как матерится Далматов.
Пахнет кровью. Запределье корчится в истерике. Его голос – перезвон серебряных колокольчиков. Саломея затыкает уши. И зажмуривается, упреждая вспышку света.
– Довольно! – Голос Далматова подобен хлысту. И люди успокаиваются.
Саломея открывает глаза. Она видит грязь и опрокинутые свечи. Камни. Угли. Измазанный черным ковер. Чашу, содержимое которой расплескалось по столу… слишком много этого содержимого.
– О господи, – вздыхает Полина, прежде чем сползти на пол. – О господи…
Ее не слышат. Все смотрят на мадам Алоизу. Она лежит на столике, раскинув руки, как будто бы собой закрывая такой важный кованый круг с ятями, ерами и буквами. И бледные руки свисают с краев.
– О господи…
Далматов склоняется над телом и всовывает пальцы куда-то между плечом и шеей. Потом приподнимает тело и переворачивает. Длинная шея гадалки обвисает под тяжестью головы, раскрывая широкий зев раны.
– Полицию вызывайте, – Илья мрачен. А на руках его кровь. И этой окровавленной ладонью он закрывает распахнутые удивленные глаза мадам Алоизы. – Вызывайте полицию…