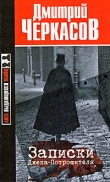Текст книги "Алмазы Джека Потрошителя"
Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 8
Частные вопросы
Приехали быстро. Работали тихо, слаженно.
Домашние наблюдали. Саломее казалось, что их всех вот-вот выставят, и это было бы логично, но фигура Гречкова, видимо, вызывала у полицейских некоторые опасения. Скорее всего, Гречков знал и мэра, и губернатора, и многих иных, со звучными именами и должностями, но в данный момент времени он был не просто растерян – раздавлен случившимся.
Крупное лицо его застыло, как застывает лава на теле вулкана, и лишь руки оставались в движении. Пальцы расходились и смыкались, трогали, гладили друг друга, изредка касаясь побуревших манжет, рукавов или пуговиц, тоже липких, как и все остальное.
– Это не я… это не я… – лепетал Андрюша, вцепившись в подлокотники кресла. Вот он был залит кровью, и брызги на лице застывали, словно веснушки. Андрей не спешил умываться, он потерялся в этой комнате, как и все прочие. И кресло, мягкое кресло с широкими подлокотниками, казалось ему единственной надежной вещью, расстаться с которой было никак невозможно.
Полина молчала. Лера бродила по кромочке у стены, не смея сделать шаг к центру.
Шептались супруги Гречковы.
Щелкали фотоаппараты, вспышки ослепляли, картины мира реального обретали плоть в разноцветных пикселях. Человек в синем плаще, больше похожем на лабораторный халат, наблюдал за всеми и сразу. Он первым нарушил молчание:
– Герман Васильевич, нам необходимо побеседовать…
Увели. Гречкову пришлось помогать, потому как выяснилось, что самостоятельно идти он не в силах. И Полина очнулась, запорхала над мужем, норовя окружить липкой заботой. Давление… капли… нельзя волноваться… врача вызовите.
Алоизе – Аллой ее звали – врач не поможет. Илья сказал, что шансов у нее не было – обе артерии вскрыты – но это ложь, чтобы успокоить всех. Шанс был. Если бы Саломея остановила представление.
Следующей вызывали Полину. Эта шла сама, с гордо поднятой головой, всем видом своим демонстрируя презрение. Но кого именно она презирала?
– Слушай сюда, Лисенок, – Илья встал за спиной и отвернулся, словно бы говорил и не с Саломеей. – Дело дрянь, пусть мы к нему и боком. Но чтобы противоречий не было… ты же помнишь?
– Что?
– Что ты моя невеста. Если спросят. А они спросят…
Позвали Леру.
– А я? Вы думаете, что это я виноват? – Андрюша вскочил и вытянул руки. – Кровь! Вот кровь! Смотрите! Но я не виновен!
– Сядьте, пожалуйста, – попросили его, и Андрюша сел, сжался, обнял себя и заплакал.
– Я не хочу врать полиции, – прошептала Саломея.
– Тебе и не придется. Мы ведь действительно обручены, – он потянул шеей влево, потом вправо. Шея хрустнула. – Или ты не чтишь родительскую волю. А, Лисенок?
Андрюшка ушел следующим. В последний миг он вдруг успокоился и шел почти прямо, ровно, лишь руки отчетливо дрожали.
– Как это все ужасно! – громко сказала Милослава и, прижав мизинцы к бровям, добавила: – В этом доме черная аура! В этом доме живет смерть!
– Милочка, не сейчас.
Кирилл Васильевич, пребывая в волнении, грыз ногти.
– Не время? Сейчас? Да посмотри! На кровь посмотри, которая здесь пролилась! Разве это не знак? Разве не говорит нам Мироздание – остановитесь?!
– Какие крепкие нервы, – шепнул Илья на ухо. – Так речь держать… обороты находить… и вспомни, она стояла за мадам Алоизой.
– Она чиста. Ну чище остальных.
– И еще придется сделать, чтобы вы задумались над тем, что творите?
– Когда режут горло, кровь идет вперед и в стороны. А вот стоящий сзади останется чистым. Есть еще нюанс. Она одна верила, что эта… ясновидящая и вправду что-то видит.
– Или делала вид, что верит, – возразила Саломея.
Милослава потрясала кулачками, беленькими, мягонькими. Вот она, эта нелепая женщина, убийца?
Средний рост. Средний вес. Темные волосы с сединой. Бледная дрябловатая кожа. Редкие ресницы, несмотря на касторовое масло и огуречные примочки. Наряд из плотного льна. На запястьях – циркониевые браслеты.
– Ей тяжело было бы добраться до ножа, – Саломея закрыла глаза, восстанавливая в памяти хоровод. Вот она сама. Слева – Далматов, справа – Андрюшка. За ним кто? Герман Васильевич. Его брат. Милослава. Полина. И Лера. Далматов прав. Милослава стояла за Алоизой. А столик с чашей и ножом – перед. Алиби ли это? Вряд ли.
– Лисенок, не лезь в это дело. – Холодные пальцы Ильи скользнули по шее. – Пусть полиция разбирается. У нас другой интерес.
Увели Кирилла Васильевича. А Милослава, не в силах вынести внезапное одиночество, бросилась к Саломее:
– Вы же слышите! Вы-то слышите… Звезды предупреждали меня… я составляла гороскоп. Знаете, это не так просто, как кажется. – Она глянула на Далматова с опаской и брезгливостью и, наклонившись к самому уху Саломеи, прошептала: – Этот человек вам не подходит. Послушайте меня. Он мертв.
Далматов сделал вид, что не слышит.
– Звезды предупреждали. Меркурий был так ярок. Сатурн в Стрельце, напротив, ослаб…
Пальчики белые, с аккуратными ноготками. Нет под ними ни крови, ни кожи, ни иных улик материального плана. А Милослава вновь подалась вперед, прилипая губами к уху.
– Я знаю, кто это сделал, – выдохнула она. – Я знаю… но никто мне не поверит.
– Я поверю, – также шепотом ответила Саломея, а Далматов отступил, предоставляя иллюзию уединенности.
– Герман, – Милослава не колебалась ни секунды. – Это Герман.
– Но зачем?
– Он избавился от дочери. И не желал, чтобы кто-то узнал об этом… Вот видите, – вскочив, Милослава схватилась за горло. – Вы не верите! Никто не верит!
Весьма своевременно появился полицейский. И Саломея осталась наедине с Далматовым. Оба молчали. И он не выдержал первым:
– Значит, это правда? Ты слышишь… запределье, – Илья снял очки и принялся тереть их о рукав рубашки. На рукаве, от манжет, тянулись кровяные пятна, уже подсохшие, неприятного бурого цвета. – Я думал, что это образное выражение. Но тебя знобило по-настоящему. На что это похоже?
– По-разному. Иногда – холодно, но бывает, что и жарко. И звуки странные. Или тени.
Пляска на стене, спектакль для одного зрителя. Запределье – это ласковое касание крыла бабочки. И жесткий удар на границе сна и яви, который парализует тело, оставляя лишь способность дышать. Безотчетный страх, когда бегство видится единственным спасением, но сил бежать нет. Или веселье из ниоткуда, счастье всеобъемлющее, опасное, ведь оно уходит, оставляя душу опустошенной.
– Мне жаль, что я тебя не послушал. Извини.
Сказано сухо, вежливо, но и на том спасибо. Случившегося не изменить. Но полицейский не дал озвучить мысль, он ткнул пальцем в Саломею, а затем на дверь, куда ушли все, но никто не вышел.
– Эй, – Далматов удержал руку. – Что бы ни случилось – не дергайся. Жди, и все будет хорошо.
Что должно было случиться?
Допрос был быстрым, поверхностным. Вопросы – стандартными. И Саломее виделось, будто бы все решено, а ее показания нужны сугубо для отчетности.
Саломея говорила, а человек в синем плаще писал, старательно, прижав голову к плечу и приоткрыв рот. Дописав, он отложил ручку и лист, вытер руки о вафельное полотенце и вытащил из коробки пакет.
– Узнаете? – спросил он и передал пакет Саломее.
Бритва. У отца была похожая, складная, с расписными накладками на рукояти и тончайшим лезвием из хирургической стали. Лезвие это было острее самурайского меча, во всяком случае, мамин шелковый шарф, пойманный на лету, распался на две части. И мама обозвала отца позером, а он только засмеялся и пообещал купить ей еще шарфов…
– Так вы узнаете?
Крови на отцовской бритве не было. А здесь – была. Она прилипла к краям пакета и расползлась, забилась в заломы.
– Нет, – Саломея вернула бритву.
Выходит, что нож с волнистым лезвием ни при чем. Он – декорация.
Но к чему вопрос? Он не пустой, и ухмылка человека, неприятная, злая, подтверждает догадку.
– Странное дело. Не узнать бритву собственного жениха… как же так?
Жениха? У Саломеи… стоп. Далматов. Это далматовская бритва? Быть того не может! Или может. Но не Илья же убил! Ему-то зачем? А что Саломея вообще про Далматова знает? Появился. Врал. И снова врал. Манипулировал. И теперь вот убил, используя Саломею как прикрытие?
Ерунда. Из нее на редкость дрянное прикрытие, ведь стоит Саломее рот раскрыть… А она раскроет? И закроет. Как рыба, выброшенная на берег.
– А вы узнаете станок вашей супруги? – поинтересовалась Саломея, сдерживая гнев.
– Ну, она не пользуется такой… любопытной вещью. Приметная, правда? И удобная. А не скажете, где и когда вы познакомились?
– В ресторане «Астория». Около пятнадцати лет тому. И еще. Он не убивал. Он держал меня за руку. Все время.
– Уверены?
– Абсолютно, – Саломея сжала кулаки. – Когда погас свет, он вытянул меня из круга. От стола, а не к столу.
Бритва. Пакет. Думай, Саломея, думай. Они ведь готовы повесить труп на чужака, лишь бы не задевать нежных чувств Германа Васильевича. Чужак – безопаснее. Остальные – из семьи.
– Он… или она… убийца то есть. Заранее готовился. Если взял бритву, то заранее. Значит, он украл. Это же просто – зайти в комнату. Комнаты не запираются. Лера заглядывала к нам. Полотенца приносила. Полина. Звала на чай. И на ужин. А за ужином все выходили. Зайти в комнату и вытащить бритву – это же минута. Ну две.
– Спасибо, женщина, – человек в синем плаще убрал улику. – Вы можете быть свободны.
– Да тут скорее следует задуматься над тем, кто эту вот бритву опознал! Откуда они…
– Спасибо, говорю.
– Слушайте, вы…
– Свободны! – рявкнул полицейский и, потерев щетинистую щеку, добавил: – Полиция разберется.
Они и вправду разобрались, пусть и разбирательство это длилось часа полтора, каждая минута из которых казалась Саломее вечностью. Дважды или трижды она хваталась за телефон, рылась в записной книжке, выискивая те самые нужные номера нужных людей, и останавливала себя.
Рано.
Разберется полиция, пусть этот мрачный человечек в синем плаще и не желал разбираться. Однако он ведь понимал, что Илья – не убийца.
И его отпустят.
Отпустили. Вымотали вопросами, обложили, что волка на охоте, а потом вдруг убрали барьер, сказав:
– Можете быть свободны. Мы с вами свяжемся.
Голова гудела. Не мигрень – колокола литые с львиными головами, гербами и тяжелыми языками, которые и рождают полифоничное гудение.
И руки в крови.
Вот что Далматов не любил, так это кровь. Ее запах, сам ее вид – черной венозной ли, алой ли артериальной – вызывал тошноту. Борьба же с нею отнимала силы.
Сейчас кровь засохла на коже, забилась под ногти и впиталась в трещины папиллярных линий. Придется выковыривать, стесывать пемзой, сдирая и слой слишком тонкой кожи.
– Свободны, – повторил полицейский. Во взгляде его читалась привычная уже смесь отвращения и брезгливости.
Людям не нравятся змеи. Инстинктивно. За этой нелюбовью прячется страх, доставшийся в наследство от предков-приматов, прописанный в генах и оттого кажущийся естественным. Плевать на приматов, кроме одного-единственного уродца, который испоганил такой замечательный в своей простоте план. Все осложнилось.
Измаралось.
Чертовой кровью и еще делом, сбросить которое теперь не выйдет. И Саломея волнуется.
Она стояла у книжных полок, разглядывая разноцветные корешки, выбирая и не умея выбрать. На звук Саломея обернулась всем телом.
– Тебя совсем отпустили? – спросила она, вдруг потупившись.
А раньше всегда в глаза смотрела, и это обстоятельство Далматова злило, потому что он-то не умел смотреть в глаза, и выходило, что всегда первым взгляд отводил, ломался. Проигрывал.
– Совсем.
– Они сказали, что…
– Все нормально.
– Тебя в убийстве обвиняют.
– Уже нет. – Он потрогал шею и пожаловался: – Затекла. Улики косвенные. И они это понимают. Рисковать не станут… не станут рисковать. Так что… все хорошо. Хорошо все. Черт!
Колокола замолкли на долю секунды и ударили набатом, оглушая, выплескивая скопившийся адреналин.
– Уйди.
– Куда? – Саломея растерялась.
Ну почему никогда не бывает так, чтобы без вопросов, чтобы просто послушать. Далматов держал себя.
Нить истончалась. Бесновались колокола.
– Плевать…
Под руку попался пластиковый стул. Легкий. Невесомый почти. Он перелетел через комнату и рухнул с грохотом.
– Убирайся, черт бы тебя…
– Илья, – она не убежала. Все убегали, а эта осталась. Схватила за руки, сжала – когда и как она оказалась так близко? – и попросила: – Ты дыши глубоко. Все пройдет. Уже проходит.
Не проходит. Само – никогда. Слишком много дерьма вокруг. Злости. Если не выплеснуть – Илья лопнет. Отец трещал по швам. Орал. Постоянно орал. Бил тарелки. Белые фарфоровые. Легкие. Летали от стены до стены. В стену ударялись, звенели, взрывались осколочными минами. Задело как-то… давно. Крови хватило. Всегда кровь. Илья кровь ненавидит. Она скользкая. Горячая.
– Ты дыши, ладно? Сейчас отпустит.
Руки у Саломеи тоже горячие. И держат крепко. Ей так кажется. На самом деле Саломея слаба. И стряхнуть руки – раз плюнуть. А сломать еще легче. Две кости – лучевая и локтевая. Одна – толще, вторая – тоньше. Если правильно приложить силу, хрустнут обе.
– Лучше уйди. – Он просил.
Далматов никогда никого не просит. И руку ломал. Однажды. Кому? Рыжая, но другая. Крашеная. Далматов ей платил. Он всегда платит, потому что так – проще.
Он предупреждает. Рыжая не послушала. Думала, она-то справится. Умнее прочих. А в результате – перелом руки. И по физии схлопотала. Сказала, что Илья – сумасшедший.
– Я не сумасшедший.
– Конечно, нет.
– Дерьмово все. Так дерьмово, что… Гречков захочет замять дело. Испугался, старый хрен. Раньше надо было бояться… сердце у него.
У всех сердце. Мышечный орган. Два желудочка. Два предсердия. Набор клапанов. Проводящие пучки. Миокард обладает свойствами поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, что обеспечивает… что-то обеспечивает. Колокола мешают думать. Сердце не имеет отношения к эмоциям. Эмоции возникают в голове. Биохимическая палитра чувств на мембранах нейронов.
– Эй, посмотри на меня. Слышишь?
Как ее услышишь, когда колокола гудят. Но тише… и еще тише. Отлив.
Илья бывал на море, Балтийском, мрачном. Запах йода и рыбы. Камни. Берег уходит под воду, ниже и ниже. И уже вода карабкается по берегу, норовя дотянуться до ног Далматова.
Он держится.
Смотрит.
Мать стоит рядом. Ее море не пугает. Ее ничто не пугает.
Кричат чайки. Из-за линии горизонта показывается парус, слишком белый и нарядный для сумрачного дня. И мать, оскорбленная подобным диссонансом, уходит. Илье позволено остаться. Ненадолго, но этого времени довольно, чтобы он сочинил историю про море, парус и чаек.
Книга хороших воспоминаний закрывается.
А Далматов получает пощечину. Его никогда не били по лицу, во всяком случае, так, хлестко, не больно, но до странности обидно.
– Вернулся? – спросила Саломея и добавила: – Извини. Мне пришлось. Я решила, что ты вообще… уйдешь.
– Куда?
Далматов потрогал щеку – ноет.
– В запределье.
Саломея не шутила. И глядела без осуждения, страха, но с такой искренней жалостью, что Далматову сделалось не по себе.
– Это наследственное. Темперамент. – Он все трогал и трогал чертову щеку, которая остывала, и потому колокола могли вернуться, хотя они никогда не возвращались сразу же. Да и вообще беспокоили не слишком часто.
– Ну да, темперамент. У папы такой же… был. Мама знала, как остановить. А с каждым годом оно чаще и чаще… ему нельзя было работать. А он работал. И твой работал. Ты вот тоже не остановишься. Пока шею не свернешь, не остановишься. Только если вдруг… если будешь сворачивать – то лучше собственную.
Это как посмотреть. Собственная шея Далматову была дорога.
Эпизод 1. Слезы смерти
Лондон. Ист-Энд, район Уайтчепел, август 1888 г.
В понедельник 6 августа 1888 г., около 3.20 пополуночи, на небольшой площади Джорд-Ярд было найдено окровавленное женское тело. Приглашенный на место преступления судебный медик Тимоти Киллин подсчитает, что погибшая получила в общей сложности 39 ударов ножом.
– Он использовал оружие двух типов, – Тимоти Киллин скатал шарики из воска, смешанного с розовой эссенцией, и заложил их в нос, но и это не избавит его от ужасной вони Уайтчепела. – Нечто с широким лезвием, но заостренным клинком… например, штык. И нож с очень узким и коротким клинком.
Толстая девица с испитым лицом причитала неподалеку. Она мешала думать и говорить, а заодно раздражала самим фактом своего существования.
Тимоти Киллин не любил заглядывать в места, подобные Уайтчепелу. Они заставляли думать о неприятном.
Инспектор Фредерик Джордж Абберлин махнул рукой: мол, продолжайте. Судя по виду, инспектору также не хотелось задерживаться здесь. Тем паче что тело увезли, а свидетели были допрошены полицией.
Как всегда, никто и ничего не видел.
– Он перерезал ей горло. Одним движением. Это весьма ловко… и грязно. А еще лишено смысла. Я имею в виду все последующие удары. Она бы все равно умерла. И думаю, что умерла.
– Местные банды, – сказал инспектор. – Работала одна. Кому-то не заплатила. Вот и нарвалась.
Доктор Кирсен кивнул: у него не было желания спорить, тем паче с человеком, который знает полицейское дело куда лучше доктора.
– Она… мы… мы вместе были в таверне. – Толстая шлюха продолжала всхлипывать и тереть лицо руками. Она размазывала белила, пудру и угольную тушь, превращая лицо в уродливую маску.
– Когда?
– С-сегодня. Н-ночью. – Прекратив всхлипывать, шлюха стала заикаться. – М-мы солдат встретили. Н-ну и… п-пошли.
– Куда? – поинтересовался Абберлин все с тем же отрешенным видом.
Он стоял, опираясь на трость, чуть покачиваясь, но не падая.
– К… к мамаше Рови. У нее комнаты. М-марта рано закончила. Я слышала, как она… как он… ну все то есть. А мой-то крепкий попался. Она, н-наверное, пошла на старое м-место. Тут недалеко. И вот…
Ее звали Мартой. Это тело, которое теперь ничем не отличалось от иных тел, будь то человеческих или животных.
Собственные мысли испугали доктора, и он поспешил отойти. Тимоти Киллин мог бы уйти вовсе, но что-то продолжало удерживать его на месте. Он стоял, прикрыв нос и рот платком, вымоченным в дезинфицирующем растворе, и слушал сухой голос Абберлина, что вклинивался между речью свидетелей.
Их оказалось всего двое: констебль, патрулировавший улицу и видевший Марту на этом самом месте в 2.30, да подруга, Мэри Энн Коннелли.
Она даст описание тех самых солдат, надеясь, что убийца будет пойман. Исполняя долг, инспектор Абберлин проверит всех солдат из гарнизона Тауэра. Но среди них не найдется никого, кто бы в ночь на 6 августа заглянул на улицы Уайтчепела.
На этом расследование остановится.
Сегодняшние газеты полны истерики. Наша пресса порой напоминает мне престарелую леди, жадную до слухов и сплетен. Она готова упасть в обморок, заслышав неприличное слово, и с наслаждением смаковать подробности какой-либо кровавой истории.
Я видел фотографии. И рисунки, в которых было больше безудержной фантазии штатного художника, нежели правды. Однако вынужден признать, что смотреть со стороны на дело рук своих неприятно.
И не устояв перед искушением, я выбрался на прогулку, якобы сопровождая моего пациента, чье поведение давным-давно перестало удивлять кого бы то ни было. Это так легко – несколько слов, несколько забытых газет, и вот он жаждет собственными глазами увидеть то самое место.
А ему не принято отказывать в желаниях.
Мы собираемся. В сером костюме он похож на любого другого лондонца – торговец средней руки или клерк. Шляпу он надвигает на самые брови, горбится, а руки засовывает под мышки, и эта нелепая поза привлекает внимание.
Внимания он боится.
По-моему, болезнь прогрессирует, и я пытаюсь сказать об этом. Но разве меня слушают? Нет, им всем удобнее делать вид, что ничего страшного не происходит. И кто я такой, чтобы спорить?
Мы идем. Я держусь рядом, но чуть в стороне – он не любит назойливых опекунов.
– Долго еще? Долго? – Он сам обращается ко мне с вопросом, и я отвечаю:
– Нет.
В нем больше от деда, чем от матери или отца. Этот вяловатый подбородок, эти мягкие черты лица, как если бы само лицо лепили из сдобного теста. И главное, что отсутствует тот внутренний стержень, который делает его бабку особенной женщиной.
Я-то знаю, что дело в стержне, а не в короне. Без него корону не удержать, а у нее получается.
Он позволяет взять себя под руку.
– Спокойно, мой друг, – я нарочно обращаюсь к нему не по имени, звук которого ему неприятен. – Мы уже почти на месте. Удивительно, не правда ли? Обратите внимание на храм. Он был построен еще в…
Монотонная речь убаюкивает его. Мой пациент позволяет вести себя, не быстро – мы ведь прогуливаемся. Что странного в прогулке двух джентльменов?
Ничего, мистер констебль.
Тогда почему вы смотрите на нас столь пристально?
Я слышал, будто некоторые люди обладают особым чувством, позволяющим им улавливать тончайшие эманации, что исходят от других людей. Неужели мне «повезло» встретиться именно с таким полицейским?
– Он меня узнает… – Мой пациент дрожит, и мне приходится сдавливать его руку. Боль отрезвит, а синяков на нем предостаточно, чтобы спрятать среди них еще парочку.
– Мистер! – Я сам окликнул констебля. – Мистер, вы не подойдете? Извините, мы тут ищем… одно место. Особое место.
Заглядываю в серые глаза, и сердце замирает: вдруг именно сейчас этот юноша поймет, кто перед ним. Успею ли я убежать? И стоит ли бегать? Не проще ли ударить первым, ведь нож до сих пор лежит в кармане моего сюртука.
– Вот. За старания. – Я протягиваю банкноту, которую констебль принимает. Он делает знак идти за ним, и мы идем. Я узнаю это место.
Тень храма падает на дома, придавливая и без того низкие крыши. Воняет кожами, тухлым мясом, нечистотами. Мужчины хмуры. Женщины некрасивы. Дети истощены. И кажется, будто бы я попал в ад. Мой подопечный взбудоражен и увлечен происходящим. Он вертит головой, пытаясь разглядеть все, и думать забыл о констебле.
А вот и двор.
При свете дня он еще более убог и тесен. Грязные дома. Блеклое небо. Трещины в тучах, сквозь которые пробивается свет. Солнца не видать, но здесь оно лишнее.
– Прошу вас, джентльмены.
Констебль отступает, но не спешит уходить. Он молод, лет двадцать – двадцать два. Светлые волосы. Серые глаза. Пухлые губы. Ему страшно, пусть он и не в состоянии определить источник этого страха. И он уговаривает себя забыть о смутных подозрениях.
Для них нет повода.
– Ее убили здесь? Вот здесь? – Мой подопечный присаживается у темного пятна, которое впиталось в камни.
– Не знаю. Возможно.
Не здесь. Она стояла чуть дальше. Спиной. Она считала звезды и была прекрасна в убранстве из теней и туманов. Я остановился.
Я не думал, что смогу убить.
Я подошел сзади. Не крался, нет. Но она была так увлечена звездным небом… и нож сам лег в руку. Один взмах, и горло вскрыто. Женщина пытается кричать, закрывает ладонями горло, и в какой-то миг я пугаюсь: вдруг у нее получится остановить кровотечение?
Видела ли она мое лицо?
И я бью ее снова.
Сейчас я понимаю, что приступ паники не имел под собой оснований. Человек с распоротым горлом не проживет и минуты. Не мне ли, врачу, оперировавшему Ее Величество Викторию, Божьей милостью королеву Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, защитника Веры, императрицу Индии [1]1
Полный титул королевы Виктории, помимо которого она обладала еще некоторыми: принцессы Ганноверской и герцогини Брауншвейгской и Люнебургской, принцессы Саксен-Кобургской и Готской и герцогини Саксонии.
[Закрыть] , знать об этом.
Фредерик Джордж Абберлин проснулся рано, на сей раз его разбудил шорох, донесшийся из угла комнаты. Абберлин не шелохнулся. Он продолжал притворяться спящим, но пальцы впились в эфес палаша.
Привычка спать с палашом появилась в Индии, куда Абберлин попал в возрасте весьма юном. За годы службы он успел повидать всякого и обзавестись рядом престранных, с точки зрения обыкновенного человека, привычек.
– Мистер Абберлин, – шепотом окликнули его. – Это я. Уолтер.
Абберлин открыл глаза и снова удивился тому, что видит: низкий потолок, не расписанный аляповатыми узорами, а тщательно побеленный. Впрочем, сквозь побелку все равно проступают пятна сажи, которая въедалась в перекрытия десятками лет и не собиралась сдаваться.
– Который час? – Абберлин с трудом разжал пальцы, впившиеся в эфес.
Губы растрескались от жажды. Похоже, снова снился Лакхнау.
– Семь пополудни.
Уолтер подал деревянную чашку с водой. Он помог держать – левая рука, в которой сидел осколок стрелы, плохо слушалась, а сегодня и вовсе закостенела. И Абберлин подумал, что когда-нибудь рука откажет.
Он позволил Уолтеру поднять себя и – он с трудом переставлял ноги: сны о Лакхнау выматывали – довести до ванны. Теплая вода вернула к жизни.
Уолтер принес ужин. Хлеб. Молоко. Сыр.
Инспектор Абберлин мог бы позволить себе больше, но не позволял.
В Бихаре, Мадрисе, Раджастане не было и этого. А говорят, что все повторяется… что сейчас там хуже, чем при Ост-Индской кампании, хотя разве возможно, чтобы хуже?
Стиснув зубы, Абберлин отогнал воспоминания.
– Эх, к доктору бы вам. Вот у моей сестры, если позволите сказать, муженек был буйный. Такой буйный, что прям спасу нет. Оно и понятно – ирландец. Я ей говорю – на кой тебе ирландец? Пьяницы, вы уж извините за прямоту, но что бы там ни говорили, а я своего мнения не переменю. Вы ешьте, ешьте… не торопитесь.
Не заберет никто.
Но последнее осталось несказанным. В глазах Уолтера инспектор видел жалость. Сочувствие он бы еще вынес, но жалость – это чересчур. И уволить бы наглеца, вот только… кто другой пойдет служить к Абберлину?
– Так вот я о чем. Она-то к доктору пошла. Сказала, будто бы сама в буйство впадает… а сестрица моя, если уж захочет врать, то так наврет – в жизни не поймешь, где правда. И доктор ей капелек дал. Хорошие капельки…
– Опиумные.
– А хоть бы и так, – с легкостью согласился Уолтер. – Главное, что работают.
Может, и стоило бы прислушаться к совету. Опиумный дурман принесет спокойные сны, и тело отдохнет, а разум и подавно. Инспектор Абберлин обретет свободу. Вот только как-то неправильно все это: нельзя забывать тех, кто там остался.
…мертвые и живые… живые почти как мертвые… не различить.
Кровь гниет. Плоть тухнет.
Тошнота.
И пить охота. А надо драться. Те, которые по другую сторону стен, тоже устали. Мятежники… именем королевы… королева за морем. А в море вода. Соленая. Но пить все равно охота. И есть. К голоду нельзя привыкнуть, но наступает миг, когда перестаешь его замечать. Это значит, что время пришло.
Уже почти.
Только драться все равно надо. Вставай, Абберлин. Бери свое ружье. Иди на стены. И стой там, дразни красным мундиром проклятых обезьян. Маши им руками. Кричи. Пляши.
И смейся в лицо смерти. Пусть увидят, как умирает настоящий британец.
Красный мундир давным-давно упрятан на самое дно сундука. Рядом с ним – коробка с медалью. И офицерский патент. И замшевый мешочек со стеклом. Это Уолтер думает, что в мешочке стекло.
Он никогда не видел необработанных алмазов.
А узнай правду, что тогда? Перережет глотку?
За воду убивали. За хлеб убивали. Просто из милосердия тоже убивали. Алмазы на самом деле – ничто. Еще кусок памяти. Но Уолтер не знает. Уолтер думает, будто хозяин его на пороге Бедлама стоит. Жалеет.
Ложь. Все – ложь. Человек человеку… смерть. Только никому нельзя говорить об этом – не поймут. И Абберлин молча доедает скудный ужин, облачается в платье, чистое, хотя изрядно поношенное. В кармане – кастет. В тайных ножнах – клинки. И трость-шпага придает уверенности.
Инспектор вышел из дому в четверть девятого.
Он старался выглядеть так же, как выглядят прочие люди среднего достатка и среднего возраста. И пусть бы костюм у Фредерика Абберлина был вполне себе заурядным, но внешность, легкая хромота и особый мертвенный взгляд не позволяли ему смешаться с толпой.
Сегодняшний вечер грозил быть удачным. Августовская жара спала, освободив город от привычной вони. И легкие ветра растащили смог.
Абберлин хромал – некстати разнылось колено, – стараясь держаться стен. Грохотали повозки. Ржали лошади и ругались кучера. Мелькали лица, неразличимые, неинтересные. Констебли, которых было больше обычного, вежливо кланялись и поспешно исчезали, словно опасаясь, что Абберлин запомнит их или, хуже того, обратится с просьбой.
На улицы Уайтчепела уже выбрались шлюхи. Перепуганные, они держались стайками, ревниво поглядывая друг на друга, понимая, что заработать не выйдет, но все ж не решаясь разойтись.
– Эй, инспектор, – окликнула Абберлина одна, не то смелая, не то новенькая, не сталкивавшаяся с ним прежде. – Чего гулять изволите?
Она отошла от товарок и оказалась слишком близко, чтобы Абберлин чувствовал себя спокойно.
Женщины тоже убивают.
Он сжал рукоять трости, готовый вытащить спрятанный в дереве клинок. От шлюхи пахло корицей и сдобой. И сама она была сдобной, смугловатой, с россыпью темных веснушек по плечам и рукам. Шлюха скрывала их под слоями пудры, но веснушки пробивались.
– Кэтти, отойди! – крикнула ей толстуха Молли, выходившая на улицы скорее привычки ради, нежели из-за заработка. – Простите, мистер Абберлин. Она тут недавно.
– Ничего. Кэтти, значит?
– Ага. Кэтти Кейн.
Личико с острыми лисьими чертами. Рыжие волосы, уложенные в замысловатую прическу, верно подсмотренную в «Леди». Чистое по сравнению с прочими платье.
– А может, хотите? – Она приподняла юбки, выставляя аккуратную ножку в черном чулке. – Недорого?
– Нет.
Абберлин отвернулся и быстро, слишком уж быстро, продолжил прерванный путь. И шлюха рассмеялась в спину.
Кэтти. Кэтти Кейн. Если попросить Уолтера… он ведь предлагал помощь… или самому. Как-нибудь в другой раз. Но лучше записку послать. И не в дом, конечно. В его доме слишком… странно.
О чем он думает?
О рыжей шлюхе Кэтти Кейн. А надо бы о мертвой Марте.
Мертвецы подождут. Они терпеливы. Они годами будут стоять за твоей спиной, нашептывая во снах, до чего соскучились по дорогому другу.
Каждый прожитый день приближает встречу. Платить придется, Абберлин. Но чем? Ты же знаешь – мертвецам алмазы не нужны.
Так уж вышло, что в Уайтчепеле мы задержались куда дольше, чем я планировал. Мой пациент весьма разволновался, его воображение, обладавшее куда большей живостью, нежели у обыкновенного человека, рисовало ему картину за картиной. Я видел отражение фантазии в этих выпуклых глазах, в бегающих зрачках, в дрожании ресниц. Не дожидаясь приступа, который привлек бы ненужное нам обоим внимание, я взял дорогого друга под руку и предложил:
– А не прогуляться ли нам до таверны?
Я знал, что он ответит согласием, и не ошибся.
Следует сказать, что вкусы моего подопечного весьма странны, что премного огорчает его матушку. Тишине клубов – а ведь двери любого открыты пред ним – он предпочитает грязные, мерзкие кабаки Ист-Энда, придворным красавицам – местечковых шлюх. Изысканным развлечениям – попойки со случайными знакомыми сомнительного толка.
Но кто я такой, чтобы спорить с будущим королем, чье право на трон пока не осмеливаются оспаривать?