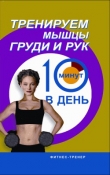Текст книги "Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса"
Автор книги: Эдуард Фукс
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Для девицы, женщины и вдовы – все они одинаково усердно танцевали – не было большей чести, как если ее приглашали к каждому танцу и кавалер поднимал ее выше других.
Когда безумие пляски охватывало девушку, она переставала скупиться на те щедрости, которых так жаждали мужчины и юноши. Более стыдливая расстегивала тайком для своего кавалера одну пуговицу в корсаже, более смелая делала это открыто и не ограничивалась одной.
Генрих фон Миттенвейлер говорит в одном стихотворении: «Девушки бойко прыгали так высоко, что видны были их колени. У Гильды лопнуло платье так, что показалась вся грудь. Гюделейн стало так жарко, что она сама раскрыла спереди свое платье и все мужчины могли насладиться ее красотой».
Главным пунктом тогдашних танцев было так называемое Verkodern [121]121
приманка. – Ред.
[Закрыть]. Автор вышедшего в 1580 г. «Дьявола пляски» описал нам этот прием. Он состоял в том, что кавалер вертел в воздухе свою даму и бросал ее на землю, причем падал сам, другие пары спотыкались, так что в конце концов образовывалась целая куча тел.
«Кто любит непристойности, тому весьма нравится такое кружение, падение и развевание платьев. Он смеется и веселится, ибо ему устраивается настоящее bel videre [122]122
прекрасный вид. – Ред.
[Закрыть]на иностранный манер» и г. д.
Наибольшее удовольствие получала при этом публика, не участвовавшая в танцах. Многие мужчины отправлялись на пляску специально с тем, чтобы насладиться лицезрением. Поэтому пословица говорила: «Зритель хуже танцора». Не только женщины обнажались при этом непристойным образом, но и мужчины, особенно если они приходили на пляску без штанов или в короткой куртке. В одном полицейском уставе, опубликованном в 1555 г., содержится особая глава о непристойных танцах, в которой говорится, что было бы лучше, если бы все танцы были запрещены, так как «мужчины участвуют почти голыми и вообще позволяют себе невозможно-непристойные выходки».
Так как танцорки ничего не имели против того, что их опрокидывали на пол или на землю, то эта забава в некоторых местах вырождалась в настоящую оргию, без которой вообще не обходилась ни одна пляска. Власти старались помочь делу еще тем, что ставили танцующих под надзор. Алойзиус Орелли пишет в 1555 г.: «Так, например, запрещены все танцы, когда-то главное увеселение всех классов и возрастов. Они разрешались только на свадьбах, но должны были кончаться с заходом солнца. Чем реже становилось это удовольствие, тем с большей страстью наслаждались им. Молодые сильные юноши старались во время танца повалить других, причем неоднократно случалось, что девушка падала вместе с танцором и падала так, что ее положение вызывало смех, оскорблявший ее стыдливость. Правда, опрокидывание друг друга было запрещено, но в увлечении пляской забывали об этом запрещении. Если опрокидывали одного, это действовало заражающе и опрокинутый старался отомстить быстротой и ловкостью. Чтобы воспрепятствовать таким неприличиям, власти посылали особых цензоров на бал. То были слуги городского совета, носившие цвета города. Им было приказано при первой преднамеренной попытке опрокинуть одного из участников пляски запретить музыкантам играть и таким образом положить конец всему веселию».
Пляска служила поводом для обмена всевозможными интимными нежностями. Главную роль играл поцелуй. Целовали женщину не только в губы и щеки, а охотнее всего в грудь. Эта ласка считалась актом преклонения, который каждая девушка и женщина могла разрешить, не рискуя потерять доброго имени. Еще усерднее губ действовали, однако, руки. «Мужчины хватают девок на виду у всех за корсаж, что доставляет большинству из них тайное удовольствие». Женщины только слабо противились такому натиску, так как мужчины именно этим путем обнаруживали свой восторг перед партнершей по танцу. Только женщины, которые не могли гордиться пышной грудью, возмущались и ломались. Расстегивать своей партнерше корсаж – таково было и главное времяпрепровождение мужчины в антрактах, когда он по обычаю стоял на коленях перед дамой или усаживался у нее на коленях. Если веселье достигало своей крайней точки и кровь бешено бурлила в жилах, то обе стороны становились все смелее в своих взаимных интимностях и женщины не только охотно шли навстречу самым дерзким шуткам и выходкам мужчин, но, как видно из многих масленичных пьес, сами же воспламеняли их к такому поведению.
Возбуждающее действие слова играло особо важную роль в так называемых хороводах. Здесь место индивидуальной беседы и музыки занимало хоровое пение, в некоторых местностях также чередование мужского и женского хора. Во время хоровода все брались за руки, причем мужчина стоял всегда между двумя женщинами, и плясали под такт плясовой песни. Эти песни носили всегда эротический характер и, по-видимому, нравились тем больше, чем скабрезнее было их содержание. Низшие классы и крестьяне, вероятно, распевали только такие скабрезные песни – ведь еще и в настоящее время деревенские плясовые песни преимущественно непристойны по своему содержанию.
Эразм Роттердамский говорит об этих хороводах и плясовых песнях: «Там можно услышать скверные, бесстыдные песни и пение, пригодное для публичных женщин и слуг». В таком же духе пишет Гейлер из Кайзерсберга: «Я чуть не забыл упомянуть еще об одном танце, о хороводе, во время которого совершаются не меньшие непристойности, а именно распеваются позорные и гнусные песни, чтобы воспламенить женский пол к безнравственности и бесстыдству».
Раз с обеих сторон делались такие уступки друг другу, то неудивительно, что целомудрие находилось в очень рискованном положении, и потому пословица гласила: «Когда целомудрие отправляется на пляску, оно пляшет в стеклянных башмаках» или «Девушка, отправляющаяся танцевать, редко возвращается неощипанной». То, чего требовали в упоении танцем, что наполовину обещалось взглядами и рукопожатием, осуществлялось потом на обратном пути, когда чувства еще были опьянены. Автор «Дьявола пляски» подробно описывает это в главе «Как люди возвращаются с легкомысленной пляски».
Если из-за подобных приемов и нравов благочестивые люди требовали упразднения всякой пляски, ибо в «каждом танце замешан дьявол», то так называемое почтенное бюргерство осуждало только вечерние танцы, как единственные будто бы очаги безнравственности. Отказаться же от «приличных бюргерских танцев» оно ни за что не хотело. И не только потому, что пляска была одним из наиболее излюбленных увеселений, но и по той не менее важной причине, что балы тогда, как и теперь, служили лучшим случаем для почтенных матерей семейств заняться сводничеством и выгодно сбыть с рук своих дочек. В своих проповедях о положении невест Кириак Шпагенберг говорит: «Наши предки устраивали такие публичные танцы также и для того, чтобы показать своих детей соседям и устроить свадьбу. Вот почему в Мейсене ежегодно в определенные дни устраиваются по распоряжению властей то в одной, то в другой деревне так называемые Lobetanze [123]123
хвалебные танцы. – Ред.
[Закрыть]».
Танцы позволяли лучше всего довести сводничество до желанной цели. А это неопровержимое обстоятельство опровергает мнимую «порядочность» бюргерской пляски. Ибо везде там, где занимаются сводничеством, всегда прибегают к тайным уловкам, чтобы не упустить выгодное дельце. Самый надежный прием, который только может пустить в ход женщина, все равно, в салоне или на танцевальной площадке, состоит в том, чтобы давать мужчине авансы в счет будущего, так как эти авансы – лучшая «приманка для холостяков» и лучше всего возбуждают их аппетит. Кроме того, каждая девушка, все равно, крестьянка или мещанка, знала превосходно пословицу: «Женщина любит так, как танцует» и др. И умные девицы и вели себя сообразно таким пословицам.
Если некоторые историки Ренессанса представляют дело так, будто такие грубые нравы во время танцев существовали только в деревнях, а в городах только среди черни, то это, безусловно, неверно. У простонародья они отличались только большей наивностью. Однако на балах богатых и знатных царили, по существу, те же обычаи, как и под липой на траве или в плохо освещенной харчевне или прядильне. Достаточно вспомнить хотя бы те уступки, которые делала, как нам известно из актов процесса, жизнерадостная Варвара Лёффельгольц своим любовникам. Отсюда можно заключить, что в этих кругах и во время танцев вели себя не очень чопорно, если симпатичный партнер обнаруживал слишком большую любознательность или заходил слишком далеко в своем ухаживании.
Впрочем, такой вывод из общих воззрений эпохи вполне подтверждается современными картинами, новеллами, многочисленными хрониками. Все они доказывают, что женщина богатых и знатных кругов делала мужчинам своего класса те же самые уступки и чудовищно-смелые выходки, которые позволял себе похотливый деревенский парень по отношению к охваченной сладострастием девке, нравились ей не менее, чем последней. В упомянутой выше новелле итальянца Корнацано «Он не он», изображающей нравы знатного бюргерства, подробно описано, как дамы города Пьяченца только потому ухаживают за одним танцором, что он во время танца невероятно смелым образом удовлетворял эротическое любопытство женщин.
Во время входивших тогда в моду при дворах официальных танцев, напоминающих наш полонез и заключавшихся в том, что пары двигались по зале под звуки музыки, участники вели себя, несомненно, менее шумно и более чопорно. Однако эти танцы служили лишь официальным вступлением к какому-нибудь торжеству. Так знаменитый «факельный танец» по своему происхождению не что иное, как церемония, сопровождавшая шествие молодых к брачному ложу. Но и в этих случаях главная суть также была в том, что выше мы определили как основную сущность танца, являющегося лишь стилизованной эротикой. Даже в этих чопорных церемониальных танцах чувственность подсказывала фигуры, определяла темп, диктовала движения и поклоны танцующих. Они также не более как символическое выражение любви между мужчиной и женщиной. Они только стилизованные формы взаимного ухаживания.
Так как пляска представляла наиболее благоприятную почву для проявления и удовлетворения чувственности, то она всегда и занимала первое место среди увеселений, которыми отмечались дни веселья.
Если люди хотели веселиться, они приглашали музыканта и он должен был наигрывать пляску. Главный – ежегодно повторявшийся престольный – праздник праздновался не только обильной выпивкой и едой, но и беспрерывной общей пляской. Уже за обедом музыканты играли плясовую, и едва обед кончался, как парень обхватывал девку, сосед – полную соседку и пары неслись по траве в бешеном вихре. Казалось, никто не может устать, мужчины топали ногами так, что земля гудела, цветные женские юбки развевались в пестрой сутолоке, точно огромное огненное колесо. Так как головы уже были подогреты вином, то скоро воцарялась всеобщая разнузданность. Никто не обращал внимания на то, замечает ли его сосед, мужчины не стеснялись, а женщины смеялись тем веселее, чем крепче прижимали их парни.
Чем выше поднималось настроение, чем бешенее становилась общая сутолока, тем чаще доставлял танец отдельным участникам сладострастные ощущения. То и дело уходили парочки, чтобы снова появиться украдкой, как они исчезли. За окутанной вечерним сумраком изгородью тайком удовлетворялась жажда любви, и чопорная мещанка была так же снисходительна к своему ухаживателю, как благородная дама к разнежившемуся аристократу или широкоплечая батрачка к похотливому батраку.
Когда солнце, наконец, клонилось к закату, слышалось уже не воркованье и сдавленный смех, а из горла вырывался сладострастный стон и крик. В этой стадии уже нет речи о противодействии. Из ритмической пляска превращается в дикое торжество разнузданности. Все, все – такова единая воля, проникающая всех. И это «все» совершается в диком и пьяном экстазе. Уста льнут к устам и подобно железным крючьям, впиваются пальцы в пышное тело. Парень уже не тащит девку с собой за изгородь, а бросает ее тут же на землю, чтобы насытить свою дикую алчность.
Так изобразил Рубенс праздник в деревне.
Эта картина воспроизводит действительность не такой, какая она есть на самом деле, но она самая грандиозная и потому самая правдивая символизация чувственной радости, которой отдавалась эпоха Ренессанса в праздничные дни. Вместе с тем и именно поэтому она сделалась смелым откровением последних тайн страсти, во время пляски текущей огнем по жилам людей.
Наряду с престольным праздником важнейшим народным праздником в эпоху Ренессанса была масленица.
Заметьте – «народным праздником». Это нечто такое, о чем мы ныне не имеем никакого представления. В настоящее время бывают только случаи, когда много народа собирается в одно и то же время в одном и том же месте, пьянствует, орет, скандалит, но такое собрание еще не создает народного праздника. Сущность последнего заключается в том, что народная масса чувствует себя в известные торжественные случаи единой великой семьей.
Из этого определения уже явствует, почему в наше время нет и не может быть народных праздников. Чтобы народная масса почувствовала себя единой семьей, необходимо, чтобы общество по крайней мере с внешней стороны представляло нечто однородное, чтобы оно еще не было разъединено классовой борьбой. Это значит: имеющиеся классовые противоречия еще не должны принять форму классового сознания. Там, где этот процесс совершился, семейное единство нации раз навсегда перестает существовать, а вместе с тем исчезает и возможность для некоторых праздников стать общенародными. В настоящее время общество уже ни в одном культурном государстве не представляет такого однородного организма и потому общие праздники возможны уже только в рамках отдельных классов.
Эпоха Ренессанса еще знала народные праздники. Несомненно, классовые противоречия обнаружились уже тогда в достаточно определенной форме, но противоположные классовые интересы еще не привели в такой же мере к классовому сознанию. К тому же тогда существовало одно связующее звено – религия, церковь. Этим, равно как и господствующим положением церкви в государстве и общине, объясняется также, почему престольный праздник был тогда главным народным праздником и остался им везде, где церковь продолжала играть эту роль связующего звена, потому что классовые противоречия были не настолько сильно развиты, чтобы разорвать эту связь.
Наряду с престольным праздником значение крупного народного праздника имела масленица.
Поскольку в нем участвовали взрослые, эротика не только звучала и здесь довольно явственно, но все в нем было положительно насыщено эротикой: она была главной темой, которую культивировали. Это тем более естественно, что масленица служила, по всем вероятиям, продолжением древних сатурналий, т. е., другими словами, была не более как официальным случаем для безудержного торжества чувственности. Нет ничего удивительного поэтому в том, что масленица во многих местностях символизировалась гигантским фаллосом, который несли на шесте впереди процессии. Обычай маскироваться и рядиться давал особый, можно сказать, безграничный простор для этого культа, так как окутывал каждого дымкой безвестности.
С маской на лице, в шутовском костюме мужчины и женщины могли безбоязненно позволять себе всякие смелости и всякую свободу, на которые они не отважились бы с открытым лицом. Мужчина мог нашептывать свои признания и желания даме в такой форме, которая даже под маской вгоняла ее в краску стыда. А женщина позволяла себе слова, которые в будни никогда не сорвались бы с ее уст. Дерзкий мог свободно дойти до последних пределов смелости, так как по законам шутовской свободы снисходительно прощали и самые смелые выходки, а женщина, жаждавшая чего-нибудь необычного, могла поощрять робкого использовать удобный момент. Все это можно было делать и говорить, так как никто не знал другого. Он а ведь не знала, что о н так цинично провоцировал ее стыдливость, а о н не знал, что его циническая выходка так понравилась ей, что она была та, которая позволила ему достигнуть цели всех его желаний.
Ряжение давало возможность еще для целого ряда эксцессов, так как при некоторой ловкости человек мог не бояться разоблачения и преследования. Можно было исполнить в честь женщины или проститутки серенаду и отомстить ей неузнанным при помощи разных «позорных песен» за полученный от нее отказ, можно было в большой компании посетить «женский дом» и там устроить дебош, можно было на улице запугивать девушек и женщин и насладиться их страхом и т. д.
Все эти обстоятельства, а также в очень значительной степени обычай пользоваться маскарадом для оппозиционно-политических целей рано привели к тому, что городские советы или совсем запрещали публичное ряжение во время масленицы или же представляли это право только некоторым группам и гильдиям. Уже в одном постановлении, изданном в 1400 г. в Венеции, говорится: «Никто не имеет права ходить во время карнавала с покрытым лицом». Нечто подобное отмечается и в дневнике одного аугсбургского бюргера: «23 февр. 1561 г. я пошел с ними (перечисляются имена знакомых) под маской на карнавал ночью. Публичное ряжение было запрещено и потому мы отправились с двумя музыкантами в разные заведения, где нас приняли благосклонно, мы плясали и скакали, как телята, так как там были belle figlie (красивые девушки), которые нам весьма понравились».
Как видно, intra muros [124]124
внутри стен. – Ред.
[Закрыть]можно было по-прежнему безумствовать и оказывать принцу-карнавалу всяческое почтенье. Необходимо подчеркнуть, что таковы были карнавальные нравы не только низших слоев народа, до подобных развлечений в дни маскарада были одинаково падки патриции, дворяне и придворные. В этих кругах люди были только требовательнее, не так легко удовлетворялись, отличались большей изощренностью.
Об одном празднике, устроенном в 1389 г. при французском дворе в связи с турниром, свидетель сообщает: «Ночью все надели маски и позволяли себе такие выходки, которые скорее достойны скоморохов, чем таких знатных особ. Этот вредный обычай превращать ночь в день и наоборот вместе со свободой безмерно есть и пить привели к тому, что люди вели себя так, как не следовало вести себя в присутствии короля, и в таком священном месте, как то, где он во время похода держал свой двор. Каждый старался удовлетворить свою страсть, и все будет сказано, если мы упомянем, что права многих мужей были нарушены легкомысленным поведением их жен, а многие незамужние дамы совершенно забыли всякий стыд».
Вероятно, чтобы не нарушить общего единодушия, королева также не противилась принципу chacune pour chacun [125]125
каждая для каждого. – Ред.
[Закрыть], как нам известно из другого документа. О карнавале 1639 г. сообщается, что герцогиня Мединская устроила маскарад, на котором фигурировала с двадцатью тремя красивейшими дамами в костюме амазонок, и притом такого мифологического покроя, что этот праздник наготы вызвал целый ряд скандалов. Упомянутые выше игры борьбы между обнаженными куртизанками и крепкими лакеями, бывшие в ходу при дворе папы Александра VI, были также карнавальной шуткой.
С масленицей был связан ряд обычаев, безусловно, эротического характера. Упомянем лишь об обычае «соления девственности» или об обычае «паханья плугом и бороной». В одном описании последнего обычая говорится: «Молодые мужчины собирают всех девушек, участвовавших в продолжение года в танцах, впрягают их вместо лошадей в плуг, на котором сидит музыкант, и гонят всех в реку или пруд». Эти слова только описывают обычай, не объясняя его тайного смысла. На самом деле он служил средством высмеять в юмористической форме тех девушек, о которых было достоверно известно, что они весьма мечтали выйти замуж, но остались без женихов. В одной масленичной пьесе об этом говорится очень ясно: «Все девушки, оставшиеся без мужей, впрягаются в плуг или в борону и обязаны их тащить за собой…»
Эротический смысл этого обычая нетрудно вскрыть, если вникнуть в символику, которой он обставлен. «Плуг» и «борона» служили как в Средние века, так и в эпоху Возрождения (как некогда и в древнем мире) символами мужской силы, тогда как недра земли, которые ими вспахиваются, считаются символами женского плодородия. Этим обычаем хотели сказать, что означенные девушки тщетно искали пахаря, который вспахал бы их пашню любви, и потому их и гнали под град насмешек в воду, ибо воду нельзя распахать. В Англии этот обычай был приурочен к понедельнику, после Богоявления (Plough Monday).
Другой нами упомянутый обычай имел точно такой же смысл.
Искусство также наглядно доказывает эротический характер карнавала. Достаточно указать на великолепный рисунок Питера Брейгеля «Масленичные игры». Нетрудно понять, что мужчина, поднимающий здесь самострел со стрелой, украшенной перьями, и женщина, предлагающая ему как цель кольцо, через которое должна пролететь стрела, – это две фигуры, символизирующие эротический момент.
Поистине классическим доказательством того, что карнавал был не чем иным, как христианскими сатурналиями, в которых главную роль играл эротический элемент, доведенный до фаллической скабрезности, являются, однако, масленичные пьесы.
Большинство из них вращается исключительно вокруг эротики, и все ее стороны подробнейшим образом воспроизводятся в них. Так как мы привели уже достаточно примеров в других местах нашей книги, то мы можем ими ограничиться. Огромная ценность этого литературного жанра состоит в том, что пьесы, хотя и под покровом насмешки, сообщают нам значительную часть важнейших сведений о всех сторонах частных и общественных нравов эпохи Ренессанса. Правда, делается это обыкновенно с такой архисмелой грубостью, что если бы привести здесь некоторые, более характерные пьесы, то волосы стали бы дыбом не только у филистера.
В связи с масленичными пьесами необходимо сказать несколько слов и о тогдашнем театре. Масленичные пьесы, хотя и не были исходной точкой театра, все же были одним из его главных источников. Они воплощают всегда веселый жанр – комедию и фарс. Элемент серьезный и трагический в свою очередь обретал свое выражение в мистериях. В этих последних зрелищах, не только находившихся под покровительством церкви, но и обыкновенно устраивавшихся ею, эротика играла также значительную роль. Достаточно упомянуть, что, например, мотив непорочного зачатия трактовался в них с невероятной грубостью. Это справедливо главным образом относительно французских мистерий. В одной такой мистерии Дева Мария помогает в последнюю минуту забеременевшей от духовника игуменье выйти из фатального положения, а когда одна дерзкая женщина хочет удостовериться, правда ли Она дева непорочная, то Она лишает ее руки. Известно, какие смелые эротические мотивы и ситуации встречаются в драмах Гросвиты из монастыря Гандерсхейма: сцены массового совращения и изнасилования женщин, случаи инцеста и т. д.
При таких условиях неудивительно, что в светских драмах и комедиях эротике отводилось также весьма большое место. Такие произведения, как «Calandro» кардинала Биббиены или «Mandragora» Макиавелли, были не исключениями, а органическими частями общей картины эпохи. А если эти пьесы вызвали особенную сенсацию, то не только своим откровенным изображением дерзко-комического мотива о муже, который сам сводит свою противящуюся жену с любовником и напрягает все силы красноречия, чтобы убедить ее отдаться ему, а в гораздо большей степени своими художественными достоинствами и культурно-историческим значением.
Чем более торжествовал абсолютизм, чем более светский характер принимал театр, становясь все более главным средством публичных увеселений, тем больше проникался он порнографией. И не борьба против порнографии, а ее прославление становилось главным мотивом и целью театра. Это одинаково справедливо по отношению к Италии, Франции и Англии. Везде театр был как ареной самого разнузданного сладострастия, так и официальным случаем дать восторжествовать бесстыдству и провозгласить это торжество, как наиболее достойную цель.
В очень широких кругах распространено мнение, будто Ренессанс был веком беспрерывной праздничной радости, будто один праздничный день сменялся другим.
Нет спора, в некоторых городах жизнь носила в самом деле такой праздничный характер, народные празднества сменялись длинной вереницей рыцарских турниров, шествий, княжеских посещений, выездов и т. д. Но это имело место только в некоторых городах. Это справедливо разве только по отношению к Италии, а здесь – относительно Венеции, Флоренции, Рима и некоторых других городов, о них можно было в самом деле сказать, что они никогда не скидывали с себя праздничного облачения.
Однако было бы глубоко неверно обобщить это явление. Вечное праздничное настроение ограничивалось теми немногими городами, где огромные богатства соединялись с продиктованной классовым господством необходимостью пышного представительства и где, кроме того, ввиду их географического положения проезды князей были явлением неизбежным.
В таких городах, как Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Базель, Страсбург – ограничимся только немецкими, – также игравшими немалую роль в эпоху Ренессанса, праздничные дни были, напротив, положительно исключениями.
Еще в большей степени это нужно сказать о городах, лежавших в стороне от больших дорог всемирной торговли, и о деревнях. Во всех этих местах уже одно появление странствующих показывателей слонов, медведей или львов или фокусников составляло событие огромной важности.
Вот почему вошло в моду превращать семейные торжества, в особенности крестины и свадьбы в домах богатых бюргеров, в общие праздники, в которых участвовали все знакомые, друзья и все родичи до седьмого колена. Вот почему далее такие семейные торжества длились часто несколько дней, даже недель. Если тогда главная суть всех праздников состояла в еде и выпивке – в деревне свадьба была часто не более как продолжавшимся целый день обжорством и пьянством, – то значительное место было отведено также и утехам Венеры, так как в празднике, как мы знаем, всегда участвовали и проститутки.
Если, с другой стороны, главное удовольствие состояло именно в чрезмерной еде и выпивке, то тот же принцип прилагался и к культу Венеры. В интеллектуальных развлечениях и в беседе царила бесконтрольно скабрезность. Чем скабрезнее была острота или выходка, тем в больший восторг приводила она и знать и чернь. На свадьбах эротические остроты были, естественно, особенно в ходу. Самая цель праздника представляла постоянный повод для них, а царившая на почетном троне молодая пара служила естественной мишенью. Поэтому не только вся беседа во время свадебного пира, не только остроты, раздававшиеся со всех сторон, но и официальные духовные развлечения, праздничные игры, представления и зрелища, устраивавшиеся в честь молодых, – все было насыщено самой грубой эротикой.
Так называемые «свадебные супы», как назывались свадебные афоризмы и песни, которые сочинялись и произносились в честь молодой четы, все без исключения отличались скабрезностью.
В них в очень ясных выражениях говорилось о том, что более всего интересовало жениха в невесте, описывались подробнейшим образом физические достоинства как его, так и ее. О драматических сценах, которые обыкновенно ставились в дни свадеб, К. Вейнгольд говорит в своей книге о немецкой женщине: «Все те, которые я видел, дышат тем же настроением, как и свадебные песни, и говорят самые дерзкие вещи невесте прямо в лицо. Однако подобная скабрезность была тогда обычным явлением».
На каждой свадьбе непременно бывал присяжный остряк, увеселявший гостей своими скабрезными шутками. Один хронист говорит: «Редко бывает пир, на котором не было бы дерзкого скомороха или остряка». Слово «дерзкий» употреблено здесь не в смысле порицания, а просто для характеристики. Господствовавший на свадьбах обычай бросать орехи в толпу – пир часто происходил на виду у всех – имел, по-видимому, единственной своей целью отвлечь ее внимание от гостей, чтобы дать им возможность не стесняться в своих циничных словах и действиях.
Один хронист говорит по этому поводу: «Почему во время свадебного пира в толпу бросались по старому обычаю орехи? Для того чтобы люди не стояли около столов, когда кто-либо из расходившихся гостей произнесет невзначай бесстыдное слово».
Во многих странах со свадьбой связывался целый ряд обычаев чисто эротического характера. Таков был, например, обычай похищения подвязки. Во время пира один из дружков подлезал под стол и пытался снять одну из подвязок невесты так, чтобы жених этого не заметил. Невеста не противилась его попытке, а, наоборот, была в заговоре с похитчиком. Если попытка удавалась, то жених должен был откупиться вином. Хотя невеста обыкновенно и облегчала похитчику его работу, помещая подвязку как можно ниже, а порой неплотно и застегивая, однако этот обычай давал более смелым возможность позволить себе по отношению к невесте какую-нибудь галантную вольность, которую та охотно прощала. Позор для жениха заключался в том, что он еще «в последнюю минуту позволил перебить у себя права на девственность» невесты. Другим аналогичным обычаем было так называемое похищение невесты. Во время танца кто-либо из гостей пытался тайком уйти с невестой и если ему это удавалось, то он отправлялся с некоторыми посвященными в заговор друзьями в трактир, где они угощались за счет жениха. Последний должен был выкупить невесту, платя за угощение, а иногда и разрешая всем заговорщикам поцеловать невесту.
Подобные же эротические шутки, игры и обычаи были приурочены к мальчишнику и девишнику, которые также в большинстве случаев были просто удобным поводом для грубого флирта. Такими обычаями можно было бы наполнить целый том.
Вышеописанный весьма популярный прием скидывания во время танца куртки, расстегивания корсажа и опрокидывания на землю женщин в особенности пускался в ход на свадьбах. Один современник говорит: «Часто на торжественных свадьбах сбрасываются многие части костюма и уже после этого приступают к танцам, а также преднамеренно бросают на пол женщин самым бесстыдным образом».
Кульминационной точкой празднества служило вышеописанное свадебное купание. Как видно, этот последний обычай был не чем-то не гармонировавшим с общей картиной свадьбы, а ее логическим завершением.
Если свадьба всегда была удобнейшим поводом для цинических слов и действий, то вообще эпоха не упускала ни одного такого случая. Так, в XV в. в моду вошло катание на санках. Кто хотел оказать женщине или девушке особую честь, тот приглашал ее на такое катание. Подобная «честь» значила, однако, в большинстве случаев не что иное, как подвергать честь женщины или девушки всевозможным опасностям, так как катание на санках очень скоро сделалось средством для грубого флирта. Наиболее удобный случай для этого представляло так называемое «санное право». Предприимчивый кавалер всегда старался злоупотреблять этим правом. У первого же сугроба санки непременно опрокидывались. Этот момент вскоре сделался центральным пунктом увеселения, Грубые эксцессы, особенно во время вечернего катания, множились до такой степени, что во многих городах оно было запрещено. В статутах города Герлица, относящихся к 1476 г., говорится: «Item, после двадцать четвертого часа (т. е. с наступлением ночи) мужчинам, девушкам и женщинам запрещается кататься на санях».