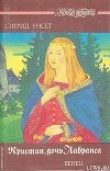Текст книги "Вот тако-о-ой!"
Автор книги: Эдна Фербер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Терпеть не могу людей, которые по утрам непременно встречают тебя заявлением, что они уже два часа как встали.
– Раз он сегодня так «любезно» настроен, мы не покажем ему лошадей, не так ли, Пат?
Но Пат, главный конюх, был за то, чтобы показать. Он вывел новую верховую кобылу с видом матери, хвастающей своим последним отпрыском.
– Взгляните на ее спину и круп, – сказал Пат. – Вот по этой линии распознается хорошая лошадь. Смотрите же. Ведь это картинка!
Паула, уже на лошади, глядела сверху на Дирка.
– Ты ведь ездишь верхом, не правда ли?
– Скакал когда-то на клячах, без седла, у нас на ферме.
– Ты научишься. Мы обучим его? Да, Пат?
Пат смерил глазами стройную, гибкую фигуру Дирка.
– Это будет нетрудно.
– Вот тогда у меня будет спутник для прогулок. Теодор совсем не ездит верхом. Он вообще не любит спорт. Сидит себе в своем большом автомобиле.
Они вошли в каретный сарай, просторное, светлое и чистое помещение с развешанной повсюду блестящей упряжью, возжами, сбруей, бичами. Некоторые были разложены в ящиках под стеклом. Были здесь и ленты для упряжи – красные, желтые, синие, – и призы, полученные лошадьми на выставках.
Дирк никогда не видел ничего подобного. У него появилось какое-то чувство обреченности при виде всей этой роскоши, Здесь совсем не было автомобилей. А он уже и забывать начал, что люди ездят не только в машинах. На бульварах Чикаго экипаж с лошадью вызвал бы насмешки. При виде блестящей кареты, запряженной двумя великолепными каштановыми, Мичиган-авеню была бы так же озадачена, как если бы проехала римская колесница, которую везли бы зебры. А здесь, в сарае, был и щегольской кремовый шарабан, и двухколесные кабриолеты, высокие, изящные. Две колясочки для пони. Стоя здесь, можно было подумать, что и не был никогда изобретен автомобиль. И над всем царила, сверкая своим кузовом, большая старомодная карета. Дирк, увидев ее, вдруг от души рассмеялся: таким архаизмом показалось ему это отжившее великолепие. С внезапной мальчишеской порывистостью он перескочил три ступеньки кареты и уселся на прекрасно сохранившихся подушках. Он был так хорош в эту минуту, что можно было заглядеться.
– Не хочешь ли прокатиться в ней? – спросила Паула. – Сегодня днем? Сумеешь управлять? Четверка лошадей, не забудь!
Она засмеялась, не отрывая от него глаз, подняв к нему, все еще сидевшему внутри кареты, свое смуглое личико.
Дирк взглянул вниз, в ее лицо.
– Нет.
Он выбрался из кареты.
– Я полагаю, что в то время, как они здесь катались в этой карете, мой отец трясся в телеге с грузом овощей по дороге на базар в Чикаго.
Что-то его разозлило. Паула это заметила. Не подождет ли он, пока она переоденется для прогулки пешком? Или он предпочитает поездку в автомобиле? Они вместе пошли к дому. Он бы хотел, чтобы она меньше интересовалась его желаниями и настроениями. Эта несколько тревожащая предупредительность его раздражала, вызывала смуту в душе.
Она положила руку ему на плечо.
– Дирк, ты сердишься на меня за то, что я говорила вчера вечером?
– Нет.
– О чем ты думал, когда пришел к себе после нашего разговора? Скажи мне?
– Я говорил себе: «Ей надоел ее муж, и она пытается снова наладить отношения со мной. Мне надо быть осторожным».
Паула с восхищением засмеялась.
– Вот это мило и откровенно… Ну, а что еще?
– Еще я думал, что мой сюртук сидит не особенно хорошо, и я бы желал иметь возможность заказать следующий мой костюм у Пиля.
– Так оно и будет, – отвечала Паула.
Глава шестнадцатая
Дело приняло такой оборот, что в следующие полтора года Дирк был избавлен от заботы о том, чтоб его фрак сидел хорошо. Его костюм в этот период, как и костюм миллионов молодых мужчин, состоял из оливкового цвета френча и брюк военного покроя. Он носил его с непринужденным изяществом, со спокойной уверенностью человека, знающего, что плечи у него широкие, стан тонкий, ноги стройные.
Большую часть этого времени он провел в форте Шеридан; сначала сам учился в военной школе, затем обучал других будущих офицеров. Он прекрасно подходил для этой роли. Дирк попал сюда и оставался здесь, повинуясь чужой воле, несмотря на то, что подчас в нем закипало раздражение. Форт Шеридан находился в нескольких милях к северу от Чикаго. Ни один званый обед на Северном побережье не обходился без присутствия по меньшей мере одного майора, одного полковника, двух капитанов и нескольких лейтенантов. Их блестящие сапоги так восхитительно мелькали по залу во время танцев!
В последние шесть месяцев войны (он не знал, что эти шесть месяцев войны должны были быть последними) Дирк тщетно старался попасть во Францию. Ему внезапно стала невыразимо тягостна спокойная и благополучная работа на родине: светские обеды, нарядная повседневность, зеленый автомобиль, который мчал его, куда ему вздумается, пикировки с Паулой, даже его мать. За два месяца до окончания войны он добился командировки во Францию, поскольку его главная квартира находилась в Париже.
В эту пору появилась первая трещина в отношениях Дирка с его матерью.
– Если бы я была мужчиной, – говорила Селина, – я бы отдала себе отчет в своем отношении к этой войне и затем сделала бы одно из двух: либо пошла бы на войну, так же, как Ян Стин идет с вилами собирать навоз, как на грязное дело, где необходимо забыть о чистоте своих рук, либо – совершенно отказалась бы от участия в том, что я не считаю подходящим для себя, во что я не верю. Я бы или сражалась, или честно выступила бы как противник войны. Середины между этими двумя позициями не может быть для того, кто не дряхлый старик, не калека, не тяжелобольной.
Паула в ужас пришла, услышав эти речи. Так же отнеслась к этому и Юлия, которая не переставала громко сетовать с тех пор, как Евгений поступил в авиационную часть. Он, безмерно этим довольный, был теперь во Франции.
– Неужели вы серьезно хотели бы, чтобы Дирк пошел воевать и был ранен или убит? – спрашивала Паула.
– Нет. Если бы Дирк погиб, моя жизнь была бы кончена. Я бы не умерла, я думаю, но жизнь моя бы остановилась, потеряла смысл.
Все вокруг принимали посильное участие в работе, которая шла в стране и в это время. Селина думала о том, где ее место в этой кутерьме. Она думала было поехать во Францию маркитанткой, но потом решила, что это эгоизм. «Мое дело – продолжать выращивать овощи и откармливать свиней, насколько сил хватит». Она поддерживала, как только могла, хозяйства ушедших на войну соседей. Сама работала, как мужчина, замещая мобилизованных работников с ее фермы.
Паула была очень мила в форме Красного Креста, она уговорила Дирка поступить в Liberty Bondselling и восхищалась им в форме.
Притязания Паулы на внимание Дирка, такие скромные вначале, ныне выросли чрезвычайно, она имела огромную власть над ним, которой словно обволакивала молодого человека. Она теперь не разыгрывала роль, а действительно глубоко и сильно любила его.
А 1918 году Дирк поступил в отделение Кредитного Общества Великих Озер, в котором Теодор Шторм был крупным пайщиком. Он говорил, что война разрушила все его иллюзии. Слова о разочарованности можно было часто слышать в то время: ею пытались объяснить или оправдать всякое отступление от привычной нормы.
– А как ты себе представлял войну? – спрашивала Селина. – Какого ты искал для нее оправдания? Его нет и быть не может.
Предполагалось (по крайней мере, на это надеялась Селина), что Дирк оставил свою специальность только временно. Обычно такая проницательная и быстро делающая выводы, она, когда дело касалось Дирка, теряла эти качества. И на этот раз Селина слишком поздно поняла, что сын окончательно бросил архитектуру ради коммерции; то единственное, что он способен был строить, были воздушные замки в беседах у камина. Первые два месяца работы в качестве банковского дельца дали ему больше денег, чем он зарабатывал в год у Голлиса и Спрага. Когда он с триумфом сообщил это Селине, она возразила: – Да, но это не особенно интересно, не правда ли? То ли дело архитектура! Создать на бумаге проект и увидеть, как он превращается в реальность, как люди создают у тебя на глазах то, что ты создал в мыслях! Линии, цифры на синей бумаге превращаются в стиль, и в камень, и кирпич. Ты создал как бы кусочек города, где шумят лифты, где люди входят и выходят, где кипит жизнь. И это твое! Вот это деятельность!
Лицо ее было настолько оживленным и увлеченным, что ему на минуту стало тяжело смотреть на него.
Он искал для себя оправданий. Торговля, которая дает возможность строить такие здания, не такая уж скучная вещь и не бессмысленная!
Но она отмахнулась от этого заявления почти пренебрежительно:
– Какие глупости, Дирк! Ведь это то же самое как если бы ты стал расхваливать продажу билетов в кассе, которая дает возможность проникнуть в театр и насладиться искусством.
За последние год-полтора Дирк приобрел множество новых приятелей. Более того, у него появился новый тон, новая манера держать себя: спокойная уверенность и внушительность. Архитектура была окончательно заброшена, да и к тому же за время войны ничего и не строили, и, по-видимому, такая ситуация могла длиться целые годы. Материалы были недоступны, цена на рабочие руки непомерно возросла. Дирк не говорил матери, что окончательно отказался от своей профессии, но, проработав шесть месяцев на новом поприще, он понял, что никогда к ней не вернется.
Успех сопровождал его с того дня, как он из архитектора сделался коммерсантом. Через год Дирк мало чем отличался от сотен других преуспевающих молодых дельцов Чикаго, заказывавших костюмы у Пиля, ослеплявших всех своими воротничками и обувью, завтракавших в Нуy-клубе на крыше Первого национального банка, где собирались миллионеры Чикаго. Дирк помнил легкий трепет, с каким он впервые вступил сюда, в этот клуб, все члены которого были тузами финансового круга города. Теперь он даже питал к ним некоторое презрение. Дирк, разумеется, знал с детства старого Ога Гемпеля и Майкла Арнольда, а позднее Филиппа Эмери, Теодора Шторма и других. Но все же этих тузов он представлял себе какими-то иными, пока не познакомился с ними ближе. Это произошло благодаря той же Пауле. Как-то она заметила мужу:
– Теодор, отчего вы не возьмете Дирка с собой когда-нибудь в Нун-клуб? Там бывает множество видных людей, с которыми ему было бы полезно встретиться.
И он был введен в это святилище. В большом, с целую комнату, лифте они поднялись наверх. Обстановка клуба его разочаровала. Здесь было точь-в-точь как в каком-нибудь пульмановском вагоне. Стулья, обитые черной кожей или красным плюшем. Зеленый ковер. Всюду отделка под красное дерево. Кухня здесь была превосходная. Из каждых десяти посетителей девять были миллионерами. Но все они предпочитали простые демократические блюда вроде солонины с капустой или рубленого мяса с овощами. Это не были изображаемые в сатирических журналах американские крупные дельцы – желтолицые существа, нервные, страдающие несварением желудка, завтракавшие молоком и сухариками. Среди членов клуба было много пожилых людей – между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, крупных, с ярким цветом лица, склонных к полноте. Многих из них врачи предупреждали, что им грозит апоплексический удар, склероз, что почки и сердце у них не в порядке. Поэтому они были теперь осторожны и благоразумны, проводя время после ленча в курении и разговорах. Лица у них были бесстрастные, глаза глядели сурово и проницательно. Речь их была уснащена простонародными выражениями, неправильна. Говорили они много. В юности большинству из них редко удавалось играть – теперь они играли с увлечением, но немного печально, как люди, которым слишком поздно дана была возможность проводить некоторое время в блаженной праздности. В субботу днем их можно было видеть в зеленых чулках для гольфа или костюмах для гребного спорта на озере. Они разрушали свою печень и легкие крепкими сигарами, считая, что курить папиросы несолидно, а трубки – слишком демократично. Лишь немногие из них обладали достаточной самоуверенностью и были так богаты, что, не боясь себя скомпрометировать, курили дешевые легкие «panatellas»: старый Ог Гемпель был одним из них. Дирк заметил, что при входе этого ветерана в Нун-клубе воцарялось на минуту почтительное молчание. Он приближался к семидесяти пяти годам, был еще крепок, держался прямо, сохраняя прежний аппетит к жизни. Великолепный экземпляр старого пирата среди шайки более мелких разбойников. Его методы всегда отличались прямолинейностью и грубостью: раз! два! – и враги исчезали с лица земли.
Более молодые взирали на него с любопытством и почтением.
Эти молодые, чей возраст колебался между двадцатью восемью и сорока пятью, были сторонниками новой системы ведения дел. У них были университетские дипломы. Они выросли в роскоши и привыкли к ней. То было уже второе или третье поколение старых пиратов, в большинстве своем вышедших из низов.
Молодые коммерсанты употребляли уже слово психология, умели сохранять выдержку. Дирку бросилось в глаза, что они никогда не разговаривали о делах за едой, если только не собирались специально для деловой беседы. Не в пример старикам, тратили много времени на развлечения и отдых. Они были сыновьями и внуками бородатых, грубых, даже грозных парней, переселившихся сюда в 1835–1840 годах из Лимерика, Килкинена, Шотландии или с Рейна, чтобы взять эту новую страну в свои сильные волосатые руки. И неустанный труд этих рук дал возможность родиться яхт-клубам, гольф-клубам, симфоническим оркестрам, всему, чем заполняли теперь свой досуг их потомки.
Дирк вслушивался в обрывки разговоров в Нун-клубе. Скоро и он научился их деловому жаргону. Он спокойно слушал, поддакивал, улыбался, соглашался или не соглашался. Пристально, ничего не упуская, вглядывался во все вокруг. Прекрасно сшитый и ладно сидящий костюм, морщинки, лучами расходящиеся от глаз и свидетельствующие о некотором опыте и искушенности. Заведующий конторой объявлений, завтракающий с банкиром; торговец, беседующий с замечательным коллекционером книг; экспортер – за маленьким столиком с Горацио Крафтом – скульптором.
Прошло два года, и Дирк совсем освоился в новой среде. Пиль из Лондона уверял, что шить для него с его прямой широкой спиной и стройными сильными ногами – одно удовольствие. Дирк унаследовал от предков, живших на свежем морском воздухе Нидерландских низменностей, изумительно свежий и чистый цвет лица. Иногда Селина, любуясь сыном, нежно гладила своей обезображенной работой рукой его плечи и красивую голову. Он уже дважды побывал за границей. Дирк научился говорить: «Я прокатился в Европу на несколько дней». Все эти перемены с ним произошли за год-два, что не редкость в Америке с ее театральными эффектами и неожиданностями.
Селина немного растерянно наблюдала за этим новым Дирком, жизнь которого была наполненной и без нее. Бывало, она не видела сына по две, а то и по три недели. Он посылал ей подарки, которые она восхищенно и осторожно гладила, рассматривала и затем убирала: мягкие и красивые вещи из шелка, которые Селина надеть не могла, потому что за долгие годы жизни в Верхней Прерии утратила свои изысканные привычки и, в частности, любовь к роскоши, к красивым вещам. Теперь эта женщина с таким утонченным вкусом носила простое, до убожества простое, сильно поношенное платье, не употребляла никакой косметики, и лицо ее от солнца, ветра, дождя, от холодов и зноя прерий загрубело до неузнаваемости, а волосы стали жесткими и сухими. Но на этом огрубевшем и рано увядшем лице так неожиданно ясно, так молодо сияли прекрасные глаза, что вы невольно останавливались в изумлении. Глаза эти говорили о том, что жизнь для нее не потеряла еще своей прелести и новизны, а впечатления были свежи, как у молодой девушки.
– Не знаю, каким образом ты этого добиваешься, – посетовала однажды Юлия Арнольд во время одного из весьма редких приездов Селины к ней в новый дом в северной части города. – У тебя глаза блестят, как у ребенка, а мои – похожи на мертвых устриц.
Обе женщины сидели в уборной Юлии. Туалетный стол, за которым Юлия наводила красоту, напоминал стол в уборной актрисы. Селина в строгом черном платье и старомодной шляпке с большим любопытством разглядывала этот стол. Он ей напоминал почему-то операционную в больнице перед большой операцией или какую-нибудь лабораторию. Когда она сказала об этом Юлии, та воскликнула:
– Этот-то стол! Ты бы посмотрела уборную Паулы. В сравнении с церемонией ее туалета, мой – просто плескание у помойного ведра в кухне.
Она двумя пальцами втирала крем в кожу у глаз продолжая разговаривать.
– Это интересно, – восхитилась Селина. – Как-нибудь и я соберусь попробовать это. Есть такое множество вещей, которых я никогда не проделывала, и все собираюсь начать. Подумай Юлия, я ни разу в жизни не делала маникюр, а это так красиво когда ногти покрыты блестящим красным лаком.
Когда-нибудь я непременно это сделаю. Эти маникюрши с завитушками и веселыми глазками так милы. Ты, верно, назовешь меня дурой, если я скажу, что, глядя на них, я чувствую себя молодой. Юлия занялась массажем. И внезапно:
– Послушай, Селина Дирк и Паула слишком много бывают вместе. О них уже сплетничают.
– Сплетничают? – Улыбка исчезла с лица Селины.
– Видит Бог, я не слишком строга к ним. Трудно в наш век и в моем возрасте осуждать подобные вещи. Думала ли я когда-нибудь, что доживу до того времени, когда… Но Паула ужасно неблагоразумна. Все знают что она с ума сходит по Дирку. Все это не повредит ему, но что же будет с Паулой? Она совсем забывает о своем положении. Ходит только туда, куда и он приглашен. Конечно, Дирк ужасно популярен: таких молодых людей мало в Чикаго – и красив и воспитан, и так быстро делает карьеру, и все такое… Но они постоянно и повсюду вместе. Я спрашивала у Паулы, не думает ли она развестись с Штормом, но она говорит, что это невозможно потому что ей недостаточно ее собственных денег, а Дирк зарабатывает не особенно много. Он получает какие-то тысячи, а она привыкла распоряжаться миллионами. Вот как обстоит дело.
– Но они друзья детства, – возразила Селина довольно неуверенно.
– Теперь они больше не дети. Не глупи, Селина. Эта наивность в твои годы просто смешна.
Нет, она больше не была наивной. В ближайший приезд Дирка (он посещал ее все реже) Селина позвала его в свою спальню – прохладную, темноватую, бедную спаленку со старой кроватью из ореха. В белой ночной сорочке с высоким воротом, с заплетенными на ночь длинными косами она выглядела совсем девочкой в тусклом освещении спальни на этой огромной кровати.
– Дирк, присядь сюда, на кровать, как ты всегда бывало делал.
– Я смертельно устал, мама двадцать семь партий в гольф хоть кого утомят.
– Я знаю. Это приятная усталость. Бывало я так уставала и все тело у меня болело, когда я работала целый день в поле, сажала или снимала овощи.
Дирк молчал. Селина дотронулась до его руки.
– Тебе неприятно это слышать. Как жаль, что я забыла об этом. Я ведь не хотела тебя огорчать, дорогой.
– Я знаю, что ты этого не хотела, мама.
– Дирк, знаешь, как тебя назвала сегодня та дама, что пишет в воскресных номерах «Трибуны» о светских новостях?
– Нет, не знаю, никогда не читаю «Трибуну». А что?
– Она пишет, что ты – один из представителей jeunesse doree.
Дирк усмехнулся:
– Черт возьми. Я еще достаточно помню французский язык, чтоб понять, что это означает «золотая молодежь». Это я-то! Ловко. Я даже не позолоченный.
– Дирк. – Селина говорила низким и дрожащим голосом. – Дирк, я не хочу, чтоб ты был одним из этих «золотых» или «позолоченных». Дирк, не для того я трудилась всю жизнь в зной и холод. Я тебя не упрекаю. Я ни капельки не сожалею, что работала, ты извини, что упомянула об этом. Но, Дирк, мальчик мой, я не хочу, чтоб о моем сыне писали, что он принадлежит к jeunesse doree. Нет, моему сыну это не пристало.
– Послушай, мама… Это глупо, наконец. Что это за разговоры! Ты разыгрываешь какую-то мать из мелодрамы, сын которой пошел по дурному пути… Я работаю как вол; тебе это известно. Ты застряла тут на этой ферме, поэтому у тебя неправильный взгляд на вещи. Отчего бы не продать ферму перебраться в город и найти себе какое-нибудь местечко там?
– Жить с тобой, ты хочешь сказать?
Это было чистейшее коварство с ее стороны.
– О нет. Тебе бы не понравилось это. – Затем спохватившись: – Я ведь никогда и дома не бываю. Весь день в конторе, а вечером куда-нибудь уезжаю.
– А когда ты занимаешься, читаешь?
– Ну… видишь ли.
Селина теперь уже сидела в кровати, глядя вниз на свое тонкое обручальное кольцо, которое медленно поворачивала вокруг пальца. Она ни разу не подняла глаз.
– Дирк, скажи, чем это вы торгуете в вашей конторе? Мне хотелось бы знать.
– Ах, мама, тебе это отлично известно.
– Нет. Я ведь так редко что-нибудь покупаю. Все деньги всегда идут снова на содержание фермы: ремонты, совершенствование, семена, орудия и скот. Так уж всегда бывает в небольшом хозяйстве.
Дирк зевал и потягивался. Селина тихо промолвила.
– Дирк де Ионг – коммерсант, продавец ценных бумаг.
– Ты так это произносишь, мать, словно речь идет о каком-нибудь низком уголовном преступлении.
– Иной раз я спрашиваю себя, Дирк не лучше ли было тебе оставаться фермером?
– Господи, что еще!
– В этом есть своя прелесть. Но тебе этого уже не понять.
Она снова легла, глядя на сына.
– Дирк, отчего ты не женишься?
– Не женюсь? Да просто потому, вероятно, что нет никого, на ком бы мне хотелось жениться.
– На ком бы тебе можно было жениться, ты хочешь сказать? Быть может, та, на которой тебе хотелось бы жениться, не свободна?
Он помедлил.
– Я хочу сказать, что сказал. Никого, на ком бы мне хотелось жениться.
Дирк поднялся и слегка коснулся губами ее щеки. Селина же крепко обхватила его руками и прижала к себе его голову.
– Слоненок! – Он снова был ее малышом.
– Как много лет ты не звала меня так, – сказал сын, смеясь.
Она припомнила и повторила старую игру его раннего детства.
– Мой сын уже большой? Какой он большой?
Покажи – Селина улыбалась, но глаза ее были печальны.
– Вот такой – Дирк отметил совсем маленькое расстояние между указательным и большим пальцами. – Вот такой большой.
Мать глядела на него с волнением, от которого напряглось все ее худенькое тело.
– Дирк, ты вернешься к архитектуре? Война позади. Если не теперь, то уж никогда. Потом будет поздно. Скажи мне прямо, вернешься ты к своей профессии?
– Нет, мать!
Ампутация совершилась. Мать тихо ахнула, как если бы ей брызнули ледяной струей в лицо. Она словно состарилась в один миг, на его глазах. Плечи ее согнулись, как от непосильного бремени, усталость сквозила во всей позе. Дирк отошел к двери, словно спасаясь бегством от упреков. Но то, что она наконец произнесла, было упреком самой себе:
– Значит, я ничего не сумела в жизни. Это банкротство.
– О, какую бессмыслицу говоришь ты, мать! Я ведь счастлив! Ты же не можешь хотеть, чтоб я жил не своей собственной, а чьей-нибудь жизнью. Когда я был ребенком, ты говорила, что нельзя на жизнь смотреть как на приключение и ожидать чудес, а брать жизнь пока такой, какая она есть. Ты-то начала с этого – и что же вышло? Ты говорила…
Она перебила его немного резко.
– Знаю, знаю. Но теперь-то именно ты и берешь жизнь такой, какая она есть. А я мечтала, что сын мой… что его жизнь будет прекрасна, будет полезна.
Он ужасно раскаивался, что позволил состояться этому разговору. Он был раздражен тем, что мать так мало ценила его успехи, его карьеру, которой завидовали столь многие. Когда он сказал: «Вот такой», показав расстояние между двумя пальцами, он попросту шутил и вовсе не думал этого искренно о себе.
Как старомодна и неблагоразумна была его мать! Но не надо ссориться с ней.
– Подожди, мама, – сказал он с улыбкой. – Придет еще время, когда твой сын будет иметь настоящий успех. Ты еще увидишь, как посыплются на него миллионы.
Она лежала лицом к стене, закрывшись одеялом.
– Потушить свет, мама, и открыть здесь окна?
– Это сделает Минна. Она всегда это делает. Позови ее.
– Доброй ночи!
Дирк сознавал, что в среде, где он вращается, он стал довольно видной фигурой. Этому помогли и связи. Дирк понимал это. Но он закрывал глаза на маневры Паулы, на тайные пружины, которые она нажимала для содействия его карьере. Ему не хотелось сознаваться даже себе самому, что ее гибкие пальчики дергали за веревку, а он изображал собой до некоторой степени пляшущую на этой веревке марионетку. Паула же была достаточно умна, чтоб понимать, что для того, чтоб удержать его при себе, она не должна давать ему чувствовать себя обязанным ей. Она знала, что должники ненавидят своих кредиторов. Она ночи напролет строила планы, имеющие цель ускорить его карьеру, и умела внушать ему затем, что это его собственные планы и идеи. Близость между ними все росла. Паула не могла уже обойтись без него; ей нужно было каждый день видеть его, говорить с ним. В большом доме мужа, на берегу озера, ее половина – столовая, спальня, уборная, ванная – была так изолирована, словно она жила в отдельной квартире; телефон у нее был отдельный, трубка висела в спальне у изголовья. Первое, к чему она тянулась по утрам, проснувшись, была эта трубка, и она же была последним, что брала в руки Паула, готовясь заснуть поздней ночью. Голос ее, когда она говорила с Дирком, менялся до неузнаваемости: в нем звучали низкие грудные ноты, он вибрировал и звенел. Слова были самые будничные и незначительные, но для нее они были полны особого смысла.
– Что ты сегодня делал, как дела сегодня – в порядке?.. Отчего ты не пришел?.. Проверил подозрение относительно Кеннеди… Мне это кажется замечательной идеей. Не так ли? Ты изумительный человек, Дирк, знаешь ли ты это?.. Мне тебя недостает… А тебе меня?.. Приедешь?.. Когда?.. Отчего не к завтраку?.. О, если у тебя дела… А в пять часов?.. Нет, не там… О, право, не знаю… Там так много народу… Да, хорошо… До свиданья… доброй ночи… доброй ночи…
Они встречались все чаще – и уже тайно, украдкой, в местах, где можно было рассчитывать на уединение. Завтракали вдвоем в таких ресторанах, куда никогда не заглядывали их друзья и знакомые. Они проводили часы между завтраком и обедом в душных, плохо освещенных кинематографах, сидя в задних рядах, не глядя на экран, беседуя все время шепотом, что немало раздражало их соседей, любителей кинематографа. Если они выезжали вместе, они выбирали темные улицы у южной части озера, где были в такой же безопасности от нескромных и любопытных глаз света, как если бы они были в Африке ибо для цивилизованных обитателей северной части южная сторона Чикаго – та же Африка. Паула чрезвычайно похорошела – это находили все. Ее окружала атмосфера радости и страстного возбуждения – как всякую женщину, которая любит и думает, что любима.
Часто она раздражала Дирка надоедала ему. В такие часы и дни он становился еще сдержаннее еще невозмутимее.
Когда он, подчиняясь этому раздражению, начинал невольно избегать ее, Паула становилась еще настойчивее, наступала еще стремительнее.
Временами Дирку казалось, что она ему ненавистна, ненавистны ее горячие жадные руки, ее пылающие, молящие и пытливые глаза, ее тонкий яркий рот, надушенные туалеты, ее тон и манера собственницы. Да, вот в чем дело. Его отталкивала властность Паулы. Она даже тогда, когда не прикасалась к нему, словно опутывала, сжимала его каждым взглядом и жестом. Было в ее любви к нему что-то душное, алчное. Она была, словно горячий ветер, который дует иногда в прерии, – дует, дует, но никогда не освежает, – и люди чувствуют себя словно опаленными этим ветром, раздраженными и угнетенными.
Иногда Дирк задумывался над тем, что именно известно Теодору Шторму о его жене и какие мысли и чувства скрываются за бесстрастной белой маской его лица?
Дирк встречался с множеством других женщин и девушек. Паула была слишком умна, чтоб ревновать открыто. Она приглашала их в свою ложу в опере, на свои званые обеды и даже разыгрывала полнейшее равнодушие к тому, что многие из этих девушек увлекались им. Но сама страдала даже тогда, когда Дирк случайно заговаривал с одной из них.
– Дирк, отчего вы не провожаете никогда эту маленькую барышню Фэрнгэмов?
– А она миленькая?
– Да неужто же нет? Вы так долго разговаривали с ней на балу у Кирка, о чем это?
– О книгах.
– О, о книгах. Она ужасно мила и интеллигентна, не правда ли? Хорошенькая девушка.
Паула вдруг почувствовала себя счастливой. Он говорил о книгах и только.
Барышня Фэрнгэм была очень мила. Она была из тех девушек, в которых, казалось бы, нельзя не влюбиться, а между тем в них не влюбляются. Славная, честная, с ясным умом, искренняя, способная, довольно хорошенькая, но тем не менее не привлекающая ничьего внимания своей внешностью. Отлично каталась на коньках, отлично танцевала, умела поддержать беседу. Читала книги, которые читают все. Словом, девушка приятная и обходительная. У нее куча денег, но она никогда не упоминает о них. Умеет работать. Ее рука крепко пожимает вашу, но это не ручка, а рука хорошего товарища. И никогда магнетический ток не пробежит по вашей руке от этого пожатия – и не добежит до вашего сердца.
А когда Паула показывает вам какую-нибудь книгу, стоя рядом, ее рука как-то сама собой сталкивается с вашей, и вы не можете думать о книге, а стоите и, не глядя, ощущаете ее присутствие рядом, ее мягкое, гибкое тело вблизи вас.
Дирк знал много девушек – это были большей частью изысканного типа девушки Северного побережья. Гибкие, стройные, изящные, с тонким носиком, звонким и нежным голосом, с серьгами в ушках, папироской в пальцах и манерой произносить все немного в нос. Все они выглядели до курьеза похожими друг на друга и все говорили одно и то же – так казалось Дирку. Все хорошо говорили по-французски, танцевали разные сложные, полные скрытого смысла танцы, читали новые книги. И на них всех был словно один и тот же штамп. Они начинали свои замечания друг другу с восклицания: «Моя дорогая», и оно выражало поочередно то удивление, то симпатию, то восхищение, то ужас. Способ выражения у них мало чем отличался от жаргона конторщиц или продавщиц. Откровенность стала их фетишем. В эпоху, когда все вокруг заговорили, – и говорили много, с наслаждением, с крикливой дерзостью, – надо было – и девицы понимали это – писать свои замечания красными чернилами для того, чтоб они были замечены среди этого наводнения слов. И слова-то были все больше вновь изобретенные; старые выражения уступали место новым. Больше не говорили: «Как это неприлично», «Ужас», а восклицали: «Как это восхитительно бесстыдно». Все эти слова свободно, бесстрашно, небрежно изрекались прекрасными губами вслед за остальными, менее прекрасными.