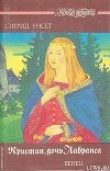Текст книги "Вот тако-о-ой!"
Автор книги: Эдна Фербер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Эдна Фербер
Вот тако-о-ой!
«Мой малыш уже большой? – спросит, бывало, Селина. – Ну-ка покажи, какой большой у меня сын. Большой, как слон!»
И маленький Дирк де Ионг, стоя перед матерью, послушно растопыривал свои ручонки как можно шире и лепетал:
– Вот тако-о-ой большой.
Дирк вырос и стал одним из самых блестящих молодых людей чикагского света.
И однажды вечером, навестив свою старую мать, он вернулся в свою квартиру в раздумье, сам себе задавая этот так часто слышанный в детстве вопрос какой большой?
Глава первая
Чуть ли не до десяти лет Дирка звали не иначе как Слоненок. Мать любила спрашивать мальчика, какой он большой, и он всегда отвечал: «Вот тако-о-ой. Как слон». Слова эти, постоянно повторяясь, превратились в ласкательное прозвище – и он все еще оставался Слоненком де Ионгом. И в десять лет, когда уже учился в школе, мальчик начал упорную борьбу и в школе и дома за восстановление своего настоящего имени вместо ненавистной клички. Ему пришлось воевать довольно долго, пока с помощью кулаков, зубов и горячих протестов он не добился успеха.
Изредка, правда, еще проскакивало Слоненок, и чаще всех в этом оказывалась виноватой его мать, которая первая дала ему это прозвище и с трудом отвыкавшая от него теперь. Конечно, против матери нельзя было пускать в ход те средства и приемы борьбы, которые оказались наиболее эффективными в борьбе с мальчишками, но он всякий раз закипал таким гневом и так упорно не откликался на Слоненка, что наконец и Селина покорилась. А между тем эта нелепая кличка в ее устах звучала такой лаской, что могла смягчить кого угодно, кроме десятилетнего строптивца.
У Селины де Ионг всегда было дел по горло и совершенно не оставалось времени на выражение нежных чувств к ребенку. Из кухни в прачечную, из прачечной – к плите или столу, оттуда во двор к птицам или скоту. А летом – тяжкая работа в поле. Время от времени она выпрямляла усталую спину и минутку отдыхала, отирая рукавом пот катившийся крупными каплями с носа и щек. Тогда большие темные глаза перебегали от нескончаемых рядов моркови, шпината, турнепса на ее сынишку, который играл, восседая тут же на груде пустых мешков из-под картофеля, в костюме, сшитом из такого же мешка, или с увлечением копавшегося в жирной черной земле.
Когда эта молодая женщина, в простеньком старом ситцевом платье, с поблекшим от усталости лицом и руками, перепачканными землей, останавливала взгляд на загорелом личике двухлетнего мальчугана в царапинах и синяках (как у всех ребятишек на форме, чьи матери заняты работой) – все вокруг казалось, преображалось от нежности, лучившейся из ее глаз.
– Покажи, какой у меня мальчик? спрашивала она почти уже механически. – Какой большой мой маленький мужчина?
Мальчик послушно вытаскивал пальчики из земли, улыбался немного устало (ему порядком надоела эта игра), широко расставлял ручонки, и розовый ротик ребенка и трепещущие нежностью губы матери одновременно протяжно произносили «В-о-о-от тако-о-ой большой!»
Дирк так привык к этой игре что иногда если Селина бросала на него мельком взгляд, не отрываясь от работы, он сам, не дожидаясь вопроса, лепетал свое «тако-ой» и заливался восторженным смехом, запрокинув назад головенку. А мать бросалась к нему и прижималась в порыве умиления разгоряченным влажным лицом к мягким завиткам на затылке и жадно целовала их.
«Вот такой большой!» Но ведь он не был таким, этот крошка! И никогда не стал таким «большим» каким ждали его видеть любовь и воображение матери. И вы думаете, что Селина была удовлетворена, когда много лет спустя ее мальчик стал тем Дирком де Ионг, чье имя было отпечатано на такой плотной и дорогой бумаге, что она казалась сделанной из металла? Чье платье заказывалось у Питера Пиля, лучшего лондонского портного? В чьей кладовой можно было найти дивный вермут Италии и ароматное шерри Испании? Кому прислуживали слуги-японцы – словом, кто вел благополучное и респектабельное существование преуспевающего гражданина республики? Нет, Селина не была удовлетворена. Более того, она подчас возмущалась, а подчас чувствовала себя в чем-то виноватой. Выходило так, словно в преуспевании Дирка было нечто, обманувшее ее ожидания, унизившее ее в лице сына Ее Селину де Ионг, торговку зеленью.
Селина де Ионг, в бытность свою Селина Дик жила с отцом в Чикаго. Но вы бы ошиблись, предположив, что только в одном Чикаго. Когда ей было восемь лет, они жили в Денвере, а когда двенадцать – в Нью-Йорке. Побывали и в Милуоки, и в ряде других мест даже в Сан-Франциско Правда, пребывание в Сан-Франциско, как смутно помнила Селина, завершилось весьма спешным отъездом. Настолько спешным, что это поразило даже ее, привыкшую принимать эти внезапные переезды, как нечто должное, без вопросов и выражений удивления.
«Дела», – говорил в таких случаях отец.
И дочь до самого дня его смерти не подозревала, какого рода были эти дела.
Симон Пик, кочевавший по стране со своей маленькой дочкой, был профессиональным игроком. Впрочем, надо добавить, игроком не только по профессии, но и по натуре по темпераменту. Когда ему везло, они жили по-царски, останавливались в лучших отелях, ели тонкие и дорогие блюда, ездили в коляске (непременно запряженной парой. Если у Симона Пика не хватало денег на двух лошадей, он предпочитал ходить пешком).
Когда же наступали периоды неудач и капризная фортуна отворачивалась от Симона, они жили в дешевых пансионах, питались кое-как, донашивали платье, оставшееся от лучших времен. Селина посещала школу, вернее школы: плохие, хорошие, муниципальные, частные, в зависимости от того, куда забрасывала их судьба Пышные матроны, заметив серьезную темноглазую девочку, одиноко забившуюся в уголок в вестибюле какого-нибудь отеля или в гостиной пансиона, наклонялись к ней с заботливыми расспросами:
– Где твоя мама, детка?
– Она умерла, – отвечала Селина спокойно и вежливо.
– Ах, ты моя бедняжечка! – Затем в порыве умиления и жалости: – Не хочешь ли ты поиграть с моей девочкой? Она будет очень рада.
– Нет, очень вам благодарна, но я жду отца. Он станет беспокоиться, если не найдет меня здесь.
Добрые леди щедро изъявляли ей свою симпатию. Селине жилось отлично. Жизнь была интересной, полной разнообразия. Отец не стеснял дочь ни в чем. Она сама выбирала себе платья. Ее желания всегда одерживали верх над благоразумными доводами отца. Можно сказать, что она руководила им. Она читала все, что попадалось ей в приемных пансионах, в отелях, в общественных библиотеках, которых так много появилось в наше время. Она проводила одна большую часть дня и была предоставлена самой себе. Время от времени отец, озабоченный мыслью, что дочка одна и скучает, приносил ей целый ворох книг – и начиналось «безумство». Селина уходила в них вся, наслаждаясь ими словно в каком-то экстазе, как лакомка перед кучей сластей. Таким образом к пятнадцати годам она познакомилась с сочинениями Байрона, Джейн, Остен, Диккенса, Шарлотты Бронте, Фелиции Гиманс, не говоря уже о гг. Е. Д., Е. Н., Саустворте, Берте Клей и многих других, – словом, со всей этой бульварной литературой, в которой фабричные работницы так же неизбежно встречают на своем жизненном пути знатных герцогов, как неизбежно встречаются на сковороде умелой поварихи лук и бифштекс. Литературу эту на всем пути от Калифорнии до Нью-Йорка из сострадания к одинокой девочке приносили ей сердобольные хозяйки пансионов, горничные и случайные соседки.
Однако были в жизни Селины три года, о которых она не любила вспоминать. Они были для нее словно мрачная сырая комната, леденящее дыхание которой пронизывает насквозь, когда вы входите в нее из теплого и ярко освещенного уголка.
Эти мрачные годы – от девяти до двенадцати лет – она провела с двумя незамужними тетками, мисс Саррой и мисс Эбби Пик, в хмуром, чопорном доме Пиков в Вермонте. Отец ее, так непохожий на обитателей этого дома, бежал из него еще юношей, словно блудный сын. Когда умерла мать Селины, он в порыве чего-то похожего на раскаяние, желая помириться с сестрами, отослал девочку к себе на родину. Кроме того, смерть жены ввергла его временно в состояние растерянности и беспомощности, в котором охотно прибегаешь к людям, некогда близким.
Обе женщины являли собой классический тип старой девы Новой Англии. Неизменные митенки на руках, очки, Библия, прохладные и унылые парадные комнаты, в которые никто не входит, во всем педантичный порядок и целый ряд незыблемых правил насчет того, что можно и чего нельзя делать маленьким девочкам. Селине казалось, что тетки ее пахнут сушеными яблоками. Однажды она нашла такое высушенное яблоко со сморщенной кожицей в ящике своей школьной парты. Она его понюхала, долго разглядывала его морщинистую увядшую розоватую кожу – и затем, откусив кусок из любопытства, поспешно и с отвращением выплюнула, совсем не заботясь об изяществе манер: яблоко оказалось внутри совсем черным и заплесневелым.
В одном из писем к отцу, ускользнувшем от цензуры тетушек, Селина излила свое отчаяние. Он тотчас же приехал за ней, никого не предупредив, и, когда Селина неожиданно увидела его, с ней в первый и последний раз в жизни сделалась истерика.
Следующий период жизни – от двенадцати до девятнадцати лет – она была счастлива. Они приехали в Чикаго, когда Селине было шестнадцать, и остались там навсегда. Селину отдали в пансион для молодых девиц мисс Фистер. Когда отец привел ее туда, он был так почтительно любезен, мил, так пленительно улыбался и выглядел при этом таким печальным, что пробудил целую бурю чувств в обширной груди начальницы пансиона и привел ее к убеждению, что дочь такого человека достойна вступить в избранный круг воспитанниц пансиона. Он работает в большом мануфактурном деле, объяснил он почтенной даме. Чулки, ну и, знаете, прочее в таком роде. Вдовец. Мисс Фистер отвечала, что понимает.
Ничто в наружности Симона Пика не напоминало о его профессии. Не было ни шляпы с широкими полями, ни развевающихся усов, ни сверкающих глаз, ни чересчур блестящих ботинок, ни яркого галстука. Правда, он носил в булавке, которой была заколота его манишка, редкой красоты и ценности бриллиант. И шляпа его сидела всегда чуточку набекрень. Но эти мелочи в глаза не бросались.
А все остальное было безукоризненно comme il faut[1]1
Прилично (франц.).
[Закрыть]. Перед вами был господин несколько болезненный и кроткий на вид, не то застенчивый, не то недоверчивый, но с приятными манерами и выговором жителя Новой Англии. Выговор этот был как бы еще одним доказательством порядочности, так как по нему всякий более или менее сведущий человек мог сообразить, что его обладатель – из вермонтских Пиков.
В Чикаго, с его шумной и нарядной жизнью, Симон чувствовал себя как рыба в воде. Его можно было ежедневно встретить в игорном доме Джеффа Генкинса, поражавшем красной плюшевой мебелью и зеркалами, или у Майка Мак-Дональда на Кларк-стрит. Он играл с переменным везением, но умудрялся всегда добыть столько, чтобы по меньшей мере было чем уплатить мисс Фистер за ученье Селины. Когда же Симон бывал в выигрыше, они обедали в знаменитом Палмер-Хаусе, где им подавали цыплят, перепелок, замысловатые супы и яблочные пирожные, которыми славился этот ресторан. Лакеи увивались вокруг Симона, хотя он редко обращался к ним и, заказывая что-нибудь, никогда не поднимал глаз. Селина в эту пору их жизни в Чикаго была очень счастлива. Встречалась она только с молоденькими девушками – воспитанницами их пансиона. О мужчинах, если не считать отца, знала столько же, сколько монахиня в келье. Пожалуй, даже еще меньше: монахини уж хотя бы из Библии не могут не знать кое-что о страстях, живущих в душе мужчин и управляющих их поступками.
Селина же при ее беспорядочном чтении еще не дошла до Библии, и широко раскрытые глаза девушки не проникали пока за завесу.
Соседкой Селины по комнате в пансионе была Юлия Гемпель, дочь Огаста Гемпеля, владельца мясных лавок на Кларк-стрит.
Ветчина, колбасы, копченая грудинка Гемпеля славились в районе Кларк-стрит.
Впервые в своей жизни Селина была не одна в комнате. От долгого одиночества в ней сильно развилось воображение, и она с детства умела находить в жизни то двойное наслаждение, какое доступно лишь творческому уму: быть одновременно и действующим лицом и зрителем. «Вот я какова и делаю то-то», – говорила она себе, наблюдая себя в действии. Быть может, эта черта ее натуры развилась еще и под влиянием театра, куда отец возил ее часто уже в том возрасте, когда другие дети знают о театре лишь понаслышке. Многие оборачивались, чтобы взглянуть на бледное личико с серьезными темными глазами, сверкавшими восторгом, когда Селина гордо восседала в креслах партера рядом с отцом. Симон Пик питал к театру страсть, свойственную всем игрокам: в его натуре было много артистизма, без которого для игрока немыслим успех. Поэтому Селина и ее отец одинаково рыдали, когда на сцене умирали герои, страдали вместе с двумя сиротками, когда в Чикаго гастролировали Китти Бленчерд и Мак-Ки-Ренкин. Они видели Фанни Девенпорт в «Пике». Они смотрели знаменитую пьесу Сэмюэля Позена. Симон брал ее и на цирковые представления, и толстая особа в блестках и трико, спускавшаяся по длинной лестнице, показалась ей прекраснейшим из созданий, каких она когда-либо видела на свете.
– Знаешь, за что я люблю книги и пьесы? – заметила как-то Селина, возвращаясь вечером с отцом из театра. – Оттого что никогда не знаешь, что еще может произойти. Что-нибудь непременно случается неожиданно.
– Совершенно так же, как и в жизни, – сказал Симон. – Мы ничего не знаем заранее, и если только не мудрить и принимать ее такой, какая она есть, то жизнь всегда полна неожиданностей.
Любопытно, что Симон говорил это не случайно, а сознательно, обдумав, какое впечатление должны оставить его слова в душе девочки. В своем роде он был довольно современным отцом.
– Я хочу, чтобы ты узнала все стороны жизни, – говаривал он дочери. – Я бы хотел, чтобы ты когда-нибудь поняла, что все, что случается с тобой, худое или хорошее, обогащает. Чем больше людей ты узнаешь, чем больше успеешь пережить, чем больше будет событий и перемен, тем ты будешь богаче. Если бы даже то были люди и события неприятные и не принесшие тебе радости. В жизни все надо испытать, но где тебе понять это теперь, Сель!
Однако Селина как будто понимала.
– Вы полагаете, папа, что все лучше, чем стать такой, как тетушка Сарра или тетушка Эбби?
– Да, Сель, именно так.
Прочитав книги Джейн Остен, Селина решила стать Джейн Остен своей эпохи. Она преисполнилась уважения к себе и своей цели, и ее таинственный вид, рассеянность, новая манера улыбаться про себя, ее поведение человека, занятого возвышенными мыслями, недоступными простым смертным, – порядком раздражали некоторое время обитательниц пансиона Фистер. Ее соседка по комнате Юлия Гемпель наконец не выдержала и дала понять Селине, что ей придется выбирать между двумя возможностями: либо открыть свою тайну, либо потерять дружбу ее, Юлии. Ведь Селина клялась ничего не скрывать от подруги.
– Ну хорошо. Я скажу тебе. Я хочу стать писательницей.
Юлия была ужасно разочарована, но все-таки из вежливости воскликнула: «Селина», показывая, как она потрясена. Затем она сказала:
– Но я не понимаю, отчего ты хранила это в таком секрете?
– Ты ничего не понимаешь, Юлия. Писатели должны изучать жизнь, постоянно ее наблюдать. А если люди будут знать, что ты наблюдаешь за ними, они не будут с тобой естественны и искренны. Вот сегодня ты мне рассказала о молодом человеке в лавке твоего отца, который взглянул на тебя и сказал…
– Селина Пик, если ты посмеешь написать об этом в твоей книжке, я никогда не буду с тобой больше говорить.
– Ладно. Не буду. Но, вот видишь, я права.
Селина и Юлия были ровесницы и обе окончили школу мисс Фистер в девятнадцать лет. Стоял сентябрь. Селина все послеобеденное время провела в гостях у Юлии и теперь завязывала свою шляпу, готовясь уходить. Она заткнула пальцами уши, чтобы не слышать настойчивый голос подруги, уговаривавшей ее остаться ужинать. Собственно, перспектива обычного понедельничного ужина в пансионе миссис Теббитт (дела Симона последнее время шли неважно) была мало соблазнительна. А Юлия перечисляла пышное меню ужина у нее дома блюдо за блюдом, и Селина даже несколько раз вздохнула, борясь с искушением.
– Будут цыплята и дичь – их привез папе фермер с Запада. И смородинное желе. И печеные томаты. И перепелки, и крем. И еще на десерт – яблочное пирожное.
Селина наконец завязала шляпу и подобрала под нее тяжелый узел черных волос. На прощание она вздохнула:
По понедельникам у нас на ужин холодная телятина и капуста. Сегодня понедельник.
– Ну вот видишь, глупенькая, отчего бы тебе не остаться?
– Отец приходит домой в шесть. Если меня не будет, он огорчится.
Юлия, полная, неповоротливая блондинка, обычно медлительная и кроткая, перешла вдруг в наступление, пытаясь побороть упорство Селины.
– Он всегда оставляет тебя после ужина и уходит. И ты сидишь одна каждый вечер до двенадцати и позднее.
– Не вижу, при чем тут это, – возразила Селина сухо.
Воинственность Юлии сразу исчезла, и она отступила.
– Разумеется ни при чем, Селли, милая. Я только подумала, что и тебе один разочек можно оставить его одного.
– Если меня не будет дома, он будет огорчен. И эта ужасная миссис Теббитт будет строить ему глазки. Он терпеть этого не может.
– Ну, тогда не понимаю, зачем вы не переедете оттуда? Никогда не понимала. Вы живете у нее вот уже четыре месяца, а там так отвратительно и грязно, и клеенка на лестнице.
– У отца временное затруднение в деньгах.
Костюм Селины служил этому лучшим доказательством. Правда, он был и модным и нарядным. А ее изящная шляпа с небольшими полями вся в перьях, цветах и лентах была выписана из Нью-Йорка. Но и то и другое соответствовало весенним модам, а теперь был уже сентябрь.
Сегодня обе подруги просматривали журналы мод за последний месяц. Туалет Селины отличался от туалетов, нарисованных там, почти так же, как стряпня миссис Теббитт от того ужина, который только что описывала Юлия. Глубоко тронутая этим мысленным сопоставлением, Юлия крепко поцеловала подругу на прощание.
Селина быстро прошла небольшое расстояние от дома Гемпель до их пансиона на Дирбори-авеню. На втором этаже в своей комнате она сняла шляпу и окликнула отца, но его еще не было дома Селина была этому рада: она ведь боялась опоздать. Она занялась пока своей шляпой, осмотрела ее с некоторым презрением, решила снять с нее поблекшие уже розы, стала их спарывать одну за другой, но обнаружила, что ткань, из которой сделана шляпа, полиняла не меньше, чем розы, и шляпа стала похожа на опустевшую стену, на которой остались следы только что снятых портретов. Надо было снова водворить розы на место. Селина достала иголку.
Опершись на ручку кресла подле окна и быстро делая стежок за стежком, она вдруг услышала звук, звук, какого она никогда не слышала раньше, – медленный, тяжелый топот мужчин, нагруженных тяжелой ношей. Они несли ее, видимо, с бесконечными предосторожностями, эту ношу, которой уж не нужна была такая бережность. Селина никогда не слышала этого звука, однако теперь вмиг угадала истину тем женским инстинктом, который стар как мир.
Тяжелые шаги вперемежку со стуком чего-то о дерево… Вот подымаются по узкой лестнице, вот идут по коридору. Она встала, иголка дрожала в руке. Шляпка упала на пол. Глаза ее были широко раскрыты и не отрывались от двери. Она вслушивалась. Селина уже знала, что случилось.
Она поняла это раньше, чем услышала за дверью хриплый мужской голос:
– Опустите здесь немного углом, вот так. Легче, легче. – И пронзительный визг миссис Теббитт:
– Нельзя нести его сюда. Как вы смели принести его ко мне в дом!
Селина на минуту задохнулась, но пришла в себя. Все еще тяжело дыша, с внезапно сжавшимся сердцем, она стремительно распахнула дверь. Плоская, длинная ноша, прикрытая пальто, закрывавшим и лицо. Ноги в блестящих ботинках. Он всегда заботливо относился к этим вещам.
Симон Пик был убит выстрелом из револьвера в игорном доме Джеффа Генкинса в пятом часу дня. Ирония судьбы заключалась в том, что пуля предназначалась вовсе не ему. Она была выпущена одной из тех «демонических» дам, всегда вооруженных бичом или револьвером для запоздалой защиты своей чести, и должна была наказать за измену известного в Чикаго издателя газеты, которого все другие газеты называли бонвиваном.
Дело было быстро замято. Газета спасшегося издателя – наиболее передовая газета Чикаго – вскользь упомянула об инциденте и умышленно исковеркала имя. Леди, считая свою задачу выполненной, обещала себе в следующий раз целиться лучше – и успокоилась.
Симон Пик оставил в наследство своей дочери два прекрасных, удивительно чистой воды бриллианта (у него была характерная для игроков любовь к этим камням) и сумму в четыреста девяносто семь долларов. Как он умудрился сохранить для Селины эти деньги, осталось тайной. Конверт, в котором они лежали, по-видимому, содержал некогда большую сумму. Он был запечатан и потом вскрыт. На наружной стороне его тонким, почти женским, почерком Симона было написано: «Для моей маленькой дочери Селины Пик на случай, если со мной произойдет несчастье». Под этим стояла дата: написано было семь лет тому назад. Никому не было известно, какая сумма была положена в конверт первоначально. Тот факт, что некоторая часть этой суммы все же сохранилась, был трогательным доказательством, что этот игрок, для которого деньги – наличные деньги – были прежде всего средством унять свою лихорадку за зеленым столом, делал героические усилия, чтобы держать себя в узде ради своей девочки.
Селине предстоял выбор между возвращением к теткам в Вермонт и самостоятельной жизнью в Чикаго. Либо отойти от неведомых страхов и жизненных забот и превратиться постепенно в высохшее и сморщенное яблоко с плесенью внутри, подобно тетушке Сарре и тетушке Эбби. Либо – добывать себе средства к существованию своим трудом. Она не колебалась.
– Но какой работой? – спрашивала Юлия Гемпель. – Что же ты можешь делать?
– Я… ну, я могу быть учительницей.
– Чему ты станешь учить?
– Да всему, чему мы учились у мисс Фистер.
– Кого же ты будешь учить всему этому?
– Детей. В семьях. Или в частных школах.
– Лучше бы тебе начать с обычной школы или стать учительницей в деревне. Эти учительницы в частных школах – такое старье. Двадцать пять, а то и тридцать лет.
В голосе Юлии звучит презрение. В девятнадцать лет трудно представить себе жизнь после тридцати. Тридцать – это предел, за которым начинается уже все, не представляющее интереса.
В этой беседе двух подруг впервые авторитетность проявляла Юлия, а Селина занимала позицию оборонительную. Уж одно это показывало, в каком состоянии душевного оцепенения была Селина в ту пору. Юлия же неожиданно обнаружила энергию и самостоятельность, удивлявшие ее самое. Селина и не подозревала, каким геройством со стороны Юлии было уже одно то, что она была рядом с ней в это тяжкое время. Миссис Гемпель категорически запретила Юлии видеться с «дочерью этого развратного игрока». Почтенная дама даже отправила послание мисс Фистер, в котором изложила свое мнение о качестве школы, куда допускают таких особ, как мисс Пик, подвергая таким образом риску воспитанниц из избранного круга, помещенных в эту школу.
После атаки Юлии Селина снова приободрилась.
– Пожалуй, я сразу стану устраиваться в сельской школе. Помнишь, я арифметику всегда знала хорошо (Юлия могла бы это подтвердить, потому что все задачи, что задавались у Фистер, решала за нее Селина). Ведь в сельских школах только и нужны арифметика да грамматика, да география.
– Ты, Селина, учительницей в деревне!
Она словно в первый раз увидела Селину, это тонкое личико, небольшую изящную голову, с волосами, такими пышными и мягкими, что их можно было завивать в локоны, закладывать узлом, взбивать высоко, смотря по тому, чего требовала мода. Ее скулы несколько выдавались, или, быть может, это казалось благодаря глубоко посаженным глазам, блестящим и темным, так мягко глядевшим из-под ресниц. Линия рта и подбородка была чистая, строгая, полная силы, такая, какая бывает у жен – покорителей Дикого Запада. Но Юлия не имела опыта физиономиста и не оценила этой особенности лица Селины. Селина считалась вполне обыкновенной и некрасивой девочкой, какой она на самом деле не была. Но глаз ее нельзя было не заметить и не запомнить. Люди, с которыми она разговаривала, имели обыкновение глубоко в них заглядывать. Селину часто поражало, что они как будто и не слышали того, что она им говорила. Быть может, из-за этой бархатной мягкости глаз не обращали на себя внимания твердые линии нижней части лица.
Прошло десять лет, принесших с собой много тяжелых испытаний, и Юлия неожиданно столкнулась с Селиной на Степной улице, где Селина продавала с тележки овощи. Перед Юлией стояла загорелая, измученная женщина. Пышные волосы небрежно свернуты на голове в узел и заколоты длинной серой шпилькой, ситцевое платье забрызгано грязью, на ногах сильно поношенные мужские башмаки, старая войлочная шляпа с помятыми полями (шляпа ее мужа), в руках пучки моркови, гороха, редиски, свеклы. Женщина со скверными зубами, впалой грудью, с оттопыренными карманами на широкой юбке. Но эту женщину Юлия узнала по глазам, которые остались такими же прекрасными. И Юлия в своем шелковом туалете и шляпе с пером бросилась к ней, крича: «О Селина! Дорогая! Дорогая моя!» И в этом крике были и сострадание и ужас: он был похож на рыдание. Селина со всем ворохом овощей очутилась у нее в объятиях. Все посыпалось на тротуар перед большим каменным домом, у которого они встретились. То был дом на Прери-авеню, дом Юлии Арнольд, урожденной Гемпель.
И любопытно, что утешать и успокаивать пришлось Селине. Она гладила обтянутое шелком плечо всхлипывавшей Юлии, приговаривая:
– Ну, ну. Все хорошо, Жюли. Все в порядке. Не надо плакать. О чем тут плакать? Тише, успокойся. Все хорошо…
Вернемся однако к нашему рассказу.