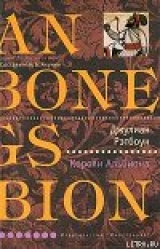
Текст книги "Короли Альбиона"
Автор книги: Джулиан Рэтбоун
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Глава двадцать четвертая
Различные дела задержали меня на три дня, а когда я вновь вернулся в дом Али, то застал здесь Уму: они сидели за столом и вдвоем наслаждались кофе. Я попробовал этот напиток, но, на мой взгляд, без сахара он чересчур горек, а с сахаром становится приторным. Я присел рядом, и Ума извлекла свой челнок и вновь принялась вплетать алую нить в ткань повести, созданной Али, – повести, перенесшей нас на другой край света.
Али и вправду выглядел довольно скверно – лицо серое, на шее проступили все жилы, ветвясь, точно побеги остролиста. Я проследила, чтобы он удобно устроился в постели аббата Питера. Тут ему будет уютно возле горячей стенки камина. А мне пришла пора отправляться в путь.
Миновала всего неделя с тех пор, как я в последний раз побывала в объятиях Эдди Марча, но я уже соскучилась по нему: мне недоставало прикосновения его ладоней к моим ягодицам, его пальцев, проникающих в межножье, горячего дыхания, овевающего мою шею, и победоносного вторжения его жезла. Я понятия не имела, где мог в тот момент обретаться Эдди. Покидая аббатство и остров Осни, заросший плакучими ивами, я не строила особых планов – шла себе и шла по тропинке через поля и леса, стараясь продвигаться в сторону юга. Наконец я присела на межевой камень, отмечавший поворот на Суиндон, и решила немного поразмыслить.
Эдди бежал от своих врагов, то есть от короля с королевой, которые пребывали в центре Ингерлонда, в городе Ковентри. Стало быть, где-где, а уж там Эдди нет и быть не может, если только его не схватили. С другой стороны, поскольку был приказ арестовать Марча и его повсюду разыскивали, то все новости о его местопребывании должны стягиваться к Ковентри, как железная стружка притягивается к магниту. Быть может, где-то его видели, кто-то опознал его, как тот безногий бродяга в Лондоне. Забавный парадокс – узнать, где сейчас Марч, проще всего будет в том самом месте, где он ни за что бы не хотел оказаться. Обдумав все это, я поднялась с камня, вернулась на остров Осни, переправилась вновь к Оксфорду и направилась на север. Ночь я провела в канаве.
Утром меня нагнал молодой человек, чрезвычайно важный и довольный собой. Он поднимался в гору и вел за собой мула. С этой вершины еще можно было рассмотреть башни и шпили Оксфорда в сонном утреннем свете. У юноши была при себе сумка, украшенная гербом – два золотых льва на красном фоне, а по углам серебристые цветы, вышитые на голубой ткани. Когда мы оба оказались на гребне холма, между нами завязалась краткая беседа. Я заговорила первой:
– Прошу вас, сэр, скажите мне, эта ли дорога ведет в Ковентри?
– О да, конечно, – откликнулся он. – Ковентри примерно в пятидесяти милях к северу по этой самой дороге. Я тоже туда направляюсь, – продолжал он, – я состою курьером на службе их величеств. Я только что доставил письма знатным горожанам Оксфорда, – он жестом указал себе за плечо.
Мы прошли еще несколько шагов.
– Достопочтенный брат, – обратился ко мне юноша, а затем, присмотревшись ко мне повнимательней, нахмурился и отвел взгляд. – Если пожелаешь, можешь сесть на круп моего мула, когда дорога пойдет вниз. Покуда мы идем вверх, я и сам не сажусь на него, ибо бедное животное устало – я так быстро мчался, чтобы доставить письма.
– Не стоит, – отвечала я. – Я буду для вас обузой – ведь мне надо несколько раз в день останавливаться для молитвы.
Монахи, священники и прочие духовные лица обязаны по крайней мере шесть раз в день повторять молитвы и песнопения, обращенные к христианскому богу.
Молодой человек пожал плечами. Он был тощий, веснушчатый, изо рта у него пахло свининой и луком, а также клевером – он жевал траву, то ли чтобы отбить запах, то ли чтобы подлечить больной зуб. Мы как раз стояли на вершине холма. Он вскочил на мула и рысцой поехал вниз. Я сильно отстала от него и находилась еще достаточно высоко, когда мне пришлось стать свидетельницей разыгравшейся у подножия холма трагедии.
Из-за полуразрушенной каменной овчарни выскочили несколько человек в черных плащах, в шляпах с широкими полями. Предводитель нес на плече какое-то огнестрельное оружие, его помощник поднес к заднему концу ствола дымящийся фитиль, и бум! – из дула вылетел огонь, и мой знакомец лишился головы. Он еще мгновение сидел в седле, из шеи хлестала вверх струя крови, а затем обезглавленное туловище склонилось набок, и молодой курьер вывалился из седла. Я спряталась в канаве и подождала, пока разбойники не удалились, прихватив с собой сумку, украшенную уже не только шелковой и золотой нитью, но и потеками крови. Потом я спустилась ниже и укрылась посреди густых зарослей. Там я провела день.
По мере того как близился полдень и тени становились короче, на дороге появлялось все больше путников, почти все в сопровождении вооруженной стражи. Как-никак, эта дорога соединяет резиденцию короля и его придворных с городом, где трудятся так называемые «яйцеголовые» – умнейшие люди его страны. И все же этот путь опасен, и большинство людей – за исключением моего невезучего попутчика – предпочитают совершать его в обществе телохранителей и большими компаниями. Прикинув, сколько еще грабителей, разбойников и убийц могли караулить беспечного путешественника на большой дороге, я решила свернуть западнее и пробираться в Ковентри по долинам и лесным тропинкам, пусть даже это займет вдвое больше времени.
Был ясный день, порывистый ветер быстро сгонял с неба сероватые облака. Иной раз они сгущались и на меня брызгал дождь, но тучи ни разу не закрыли солнца, так что я с легкостью могла придерживаться выбранного мной направления. Я шла на север, иногда с вершины холма я различала правее большую дорогу, то поднимавшуюся в гору, то спускавшуюся в долину; видела я и деревушки, через которые эта дорога пролегала. Все мои чувства были напряжены не из страха, а ради того, чтобы не упустить ни одной подробности путешествия на другой край земли. Ведь я затеяла его ради новых впечатлений, ради каждой мелочи, какая может встретиться по пути, и теперь, когда меня не отвлекали Инек и Али, я начала воспринимать прелесть этой страны. Ей не свойственно величие Виджаянагары, о которой я ностальгически вспоминала, нет ни высоких гор, ни пышных лесов, ни урожайных полей, ни блистающих своим убранством городов, ни белого теплого песка на берегу, ни изумрудного моря. Но мои глаза, уши и нос были открыты и для не столь гордой красоты.
Я радовалась желтым цветкам, чьи лепестки раскрывались подобно крыльям бабочки, свисая с тонких, еще не покрывшихся листьями ветвей. На ветру лепестки пускаются в пляс, и с них слетают облачка золотистой пыльцы. У корней этих деревьев – а может быть, это кусты, ведь они совсем приземистые я находила маленькие белые звездочки, не висячие, а растущие из земли, они были похожи на белые цветы, что мы находили сразу после таяния снегов. Были здесь красивые стройные деревья, увенчанные кронами черных, клонящихся вниз ветвей и стволами, покрытыми серебристо-серой корой, которая легко сдирается тоненьким, как бумага, слоем, стоит только слегка потянуть. На этих деревьях часто встречаются большие кожистые на ощупь наросты, по форме напоминающие раздутое слоновье ухо. На берегу реки, где почва всегда остается влажной, растет ярко-зеленый мох, тысячи крохотных зеленых искорок, соприкасающихся остриями, складывающихся в волшебное кружево. Присмотревшись, я обнаружила, что на большинстве деревьев и кустов уже набухли почки, однако листья еще не собирались развернуться. Сине-желтые пичужки и другие, с красной грудкой и угольно-черным острым, точно игла, клювом, не поют, а чирикают или пронзительно кричат и все время рыщут в поисках пищи.
Я начала проникаться ощущением жизни – не изобильной, не цветущей, но отважно борющейся с холодом, снегом и льдом, еще не растаявшим в недоступных для солнца местах. Живое тут ведет долгую, тяжкую битву. Порой я замечала какое-то белое пятно и, наклонившись, видела хрупкий череп скорее всего, судя по резцам, грызуна. Нет, Парвати приходится долго ждать своего прихода в этот сумрачный лес, где пока еще царит Кали.
К вечеру я спустилась с лесистого склона по извилистой тропе, рядом со мной все время вился, журча, ручей, и вышла в широкую, но тоже неровную, изогнутую долину. Земля здесь была расчищена от деревьев и довольно примитивно обработана. Я увидела впереди, примерно в четверти мили, деревню, похожую на те, что мы проходили на пути в Оксфорд: двадцать-тридцать домишек, каждый с маленьким садиком и парой фруктовых деревьев, два-три здания побольше – церковь с приземистой башенкой и просторный амбар. Даже на таком расстоянии я уже слышала, что там происходит нечто необыкновенное, я различала хриплые и нестройные звуки, издаваемые пронзительными трубами и примитивными барабанами, порой раздавались и вопли – то ли удовольствия, то ли боли, этого я еще не знала.
Как раз когда я подошла к поселку, солнце ушло за юго-западные холмы. Из большого амбара на улицу хлынула толпа людей, музыка сделалась громче, я разглядела в толпе и музыкантов, и танцоров впрочем, плясали все, то есть неуклюже раскачивались взад-вперед, ведя хоровод вокруг большой кучи валежника: веток ракитника и можжевельника, стеблей чертополоха. Я пробралась в маленький сад и укрылась между облезлых яблонь как и большинство деревьев, встретившихся мне в пути, они казались мертвыми или умирающими. Вопли и жесты людей, собравшихся вокруг груды дров, казались довольно свирепыми и несколько пугали меня. Я решила вскарабкаться на нижние ветви яблони и не показываться на глаза этим людям, во всяком случае, пока не буду уверена в их дружелюбии.
К поленьям поднесли горящую ветку, и, несмотря на моросящий дождик, огонь хорошо разгорелся и вскоре проник в самую середину костра. Даже на расстоянии я слышала, как потрескивают сучья и ветки от жара, когда огонь добирается до них. К темному, закрытому тучами небу поднимались завитки белого дыма с золотыми и красными искорками. Затем два человека вынесли соломенную куклу ростом с человека, одетую в какие-то лохмотья, раскачали ее, схватив за ноги и за плечи, и швырнули в огонь, превратив его тем самым в подобие погребального костра.
Женщины подняли громкий крик. Теперь я могла хорошо разглядеть их при свете костра. Их лица закрывали маски или капюшоны из разноцветной материи с прорезями для глаз. Женщины хватали горящие ветви и, продолжая отплясывать под какофонические звуки варварской музыки, разбежались по садам, лупя по стволам деревьев ветками и выкрикивая то ли проклятия, то ли заклинания: «Принеси мне яблок, мать твою, я хочу груш, накажи тебя Бог». Когда факелы догорели, женщины отбросили их, задрали рваные юбки и, хватая деревья за нижние ветви, принялись тереться о стволы бедрами и коленями и самыми сокровенными местами.
Разумеется, мое убежище было обнаружено. Высокая молодая женщина с рыжими волосами, выбивавшимися из-под капюшона, подбежала к моему дереву, закинула голову то ли в подлинном, то ли в притворном экстазе и едва не уперлась лбом в мою ногу. Она замерла на миг, потом принялась вопить. На этот раз сомневаться в искренности ее чувств не приходилось ею овладели страх и гнев.
Все ее товарки, находившиеся поблизости, тут же примчались на подмогу. У некоторых еще были в руках горящие ветки. Новость распространилась быстро, и под моей яблоней через минуту собралось все население деревни, человек сорок, а то и больше, если считать и детей. Они были настроены крайне враждебно. Я уже достаточно разбирала английскую речь и из разговора мужчин, которых женщины заставили выступить вперед и заслонить их, довольно быстро поняла, почему они так злы.
– Это чертов монах, ясное дело.
– Ага. Чево он тут делает-то?
– Чево-чево. Шпионит для епископа, вот чево.
– И как теперь с ним поступить?
– Горло ему перерезать на хрен да и схоронить в навозной куче.
– Если он уйдет отсюда живым, этот сукин сын епископ пришлет людей и они спалят нашу чертову деревушку и нас всех перебьют к хренам собачьим.
И так далее. Некоторых слов я все-таки не понимала.
– Первым делом надобно снять его с дерева. Грубые руки тянутся ко мне, хватают за щиколотку, рывком отдирают от дерева.
– Ладно, ладно, – кричу я, – я и так спущусь.
Я немного напугана, и мне не удается изобразить низкий мужской голос.
– Похоже, совсем молоденький, по голоску судя.
Как только я оказываюсь на земле, кто-то сбрасывает с моей головы капюшон, а двое других крепко прижимают к бокам мои локти.
– Вот он, попался. Давайте сюда огонь, посмотрим на него хорошенько.
То, что они видят, приводит их в изумление. Во-первых, голова когда-то бритая, но теперь поросшая короткими черными, да еще и подкрашенными хной, волосами. Тонзуры, как у монаха, разумеется, нет. Брови, когда-то выщипанные, тоже отросли. Прямой нос, полные губы, округлый подбородок, глаза, глубокие и темные, точно горные озера, кожа цвета меди, которая начинает темнеть на воздухе и утрачивает первоначальный золотой блеск. Одна женщина хватает меня за руку, подносит мою ладонь поближе к неверному свету факела.
– Это не мужская рука, – говорит она, – это рука женщины, и не из простых.
– И плащ не монашеский, – подхватывает другая, – не того цвета, и покрой не похож, да и материя чересчур тонкая.
– Да у нее сиськи! – восклицает та, что держит меня за локоть, и решительно ощупывает свободной рукой.
Женщина, которая рассматривала мою ладонь – это она первая наткнулась на меня, – оставляет в покое мою руку и задирает на мне спереди платье, насколько позволяет пояс.
– Да, – подтверждает она, – кто-кто, но не монах. Это курочка.
– Пшла прочь! – рычу я. Через ее плечо я вижу столпившихся вокруг мужчин и любопытствующих детишек. Один из зрителей опускает факел пониже, чтобы разглядеть мои прелести. Женщина поспешно опускает мой балахон.
– Извини! – шепчет она мне на ухо, и я различаю в ее голосе нотку сожаления. Она относится ко мне как к женщине, у нас с ней есть хоть что-то общее, вызывающее сочувствие, – эта мысль немного утешает меня.
Глава двадцать пятая
День, который я провела в пути, оказался тем самым, что отделял зиму от весны. Я чувствовала предвестия наступающего сезона и под ногами, и вокруг меня, в запахах и звуках леса, и эти люди тоже знают, что мы стоим на пороге между двумя временами года и что нужно задобрить неким ритуалом божеств, правящих подобными событиями и способных благополучно переправить нас на другую сторону.
Конечно, речь идет не о маленьком христианском боге и его небесных отце с матерью, а о тех богах и богинях, которых почитают и в этой стране, как в любой другой, однако многим людям приходится обращаться к этим богам тайно и прятать их, словно игрушки, в которые им запретили играть, – только, если их застигнут за этими играми, наказанием будет не порка, а дыба, тиски палача и костер. Вот почему они так испугались, приняв меня за монаха.
Там, в Виджаянагаре, девушки выходят в поля и луга, собирают целые копны цветов, ставят на них изображения Шивы и Парвати и разыгрывают ритуальное действо, воспроизводя священный брак между богом и богиней. Это похоже на игру, на детскую забаву, и все же в этом празднике, словно аромат благовония, когда-то хранившегося в закрытой и забытой шкатулке, сохраняется память о тех временах, когда боги обитали среди людей. И сейчас, в туманном Альбионе, я становлюсь зрительницей, а может быть, и участницей чего-то очень похожего на этот обряд.
Крестьяне продолжали спорить о том, как следует со мной поступить. Старики дружно советовали перерезать мне глотку, среди юношей нашлись желающие познать меня, прежде чем со мной расправиться, но женщины решительно выступают против. Одна из старух принимается рассуждать: если я и впрямь монашка, стало быть, кларисса так называются монахини францисканского ордена (по-видимому, только монахини этого ордена отваживаются выходить за пределы монастыря, и они оказывают помощь бедным и больным), а если я не кларисса, то сперва надо выяснить, кто я такая. Было бы глупо убивать меня, не разобравшись, какие из этого могут произойти последствия.
Все собрались в просторном амбаре с земляным полом, где навалены груды сена, а возле стен – кучи зерна. Старики продолжают спорить, а молодежь вовсю готовится к празднику. Музыканты – так и быть, назовем их музыкантами – устраиваются в дальнем конце амбара, напротив больших дверей, раскладывая перед собой барабаны, трубы и струнные инструменты. Они пробуют свои трубы, волынки испускают несколько пронзительных воплей, один человек трясет в воздухе коробкой, где перекатываются, судя по звуку, сушеные горошины, другой постукивает ладонями в барабан, представляющий собой попросту глиняный горшок с натянутой на него шкурой.
Люди устанавливают столы доски на козлах, – шестеро мужчин втаскивают бочку, из которой подтекает какая-то жидкость, и взгромождают ее на один из столов. Из соседнего сарая доносится запах дыма и подгорающего мяса.
Я стою в дальнем от двери углу, позади оркестра, меня все еще крепко держат за руки. Женщины столпились вокруг меня, несколько мужчин с любопытством заглядывают им через плечо. Наконец та женщина, которая нашла меня (ее зовут Эрика), заявляет:
– Только старая Джоан скажет, что с ней делать. Она должна знать.
– Верно! – подхватывает другая.
– Но кто же посмеет ее разбудить? – усомнилась третья. – Она рассердится, и будешь потом целый месяц корчиться от боли.
– Она должна прийти сюда. Она никогда не пропускает День Невесты, она не пропускает Праздника Весны. Такого еще не бывало.
– А чтобы она проспала месяц напролет без еды и питья, такое разве бывало?
– Давайте будите ее. Если она помрет от этого, тем лучше – она и так зажилась, это уж точно.
Двое или трое выходят из амбара, и дым, сделавшийся очень густым, заслоняет их от меня. Запах какой-то сырой, словно они решили готовить на только что срезанных зеленых ветвях, а не на угле.
Они возвращаются и ведут с собой старуху, скорее даже несут ее, чем ведут. В Виджаянагаре мудрые старые женщины обычно бывают худыми, высохшими, и я ожидала увидеть нечто подобное, но старая Джоан, хоть и проспала месяц без пищи, как говорили эти женщины, оставалась довольно пухлой. Груди мячиками перекатывались под платьем, живот выпирал точно бочонок, у нее были широкие бедра, а щиколотки раздулись, как овечьи кишки. Только щеки у нее запали, поскольку зубов почти не было, да и волосы выпали. Старуха что-то бормотала, ругалась сквозь стиснутые десны, произнося непристойности, каких я и здесь, в Ингерлонде, не слыхивала.
Ее опустили на пол прямо передо мной. Старая Джоан уставилась на меня странным взглядом, казалось, что глаза ее смотрят одновременно и вправо и влево, и вниз и вверх, один из них был влажно-голубым, другой бледно-зеленым. Одну ее щеку украшала бородавка с четырьмя черными волосками. Когда она говорила или трясла головой, трясся, ходил ходуном и второй подбородок, похожий на подгрудок большого водяного буйвола. Здесь, в амбаре, и так уже пахло гнилью и отбросами, но старуха принесла с собой застоявшуюся вонь, запах немытой, едва не разлагающейся плоти, запах дерьма и мочи – эти запахи облаком окружали ее.
– Ну же, старая, скажи нам, кто это такая! – требовали все вокруг. – Может, она ведьма? Тогда вы с ней должны признать друг друга!
Старуха присмотрелась ко мне, наклоняя голову из стороны в сторону, потом протянула широкопалую ладонь, больше похожую на разбухшее коровье вымя, чем на человеческую руку, и коснулась моего запястья. Затем она испустила резкий, сухой звук – то ли хрип, то ли кашель – и зашипела, точно разъяренная гусыня, обнажая остатки пожелтевших, обломанных зубов и брызгая во все стороны слюной. Наконец припадок закончился, и тут старуха как-то съежилась и вроде бы даже попыталась пасть к моим ногам.
– Глупцы, чертовы глупцы, все до одного. Разве вы не видите, какого цвета у нее кожа, какая она красивая, так и сияет? Подумать только, я дожила, дожила до этого дня, до этой ночи. Я счастлива, я получила благословение. Жизнь моя пришла к концу, я получила благословение.
– Да полно, старая Джоан, не мели вздор, скажи нам, кто это, – закричала толпа.
– Ладно, ладно, я скажу. Это Цыганская Богородица, Мария Египетская, Цыганка Мери собственной персоной, вот кто это такая. Она спляшет для вас, если ее хорошенько попросить, а если она вас невзлюбит, у вас утробы от бородавок полопаются, а в щели зубы вырастут. – Она понизила голос и заговорила, обращаясь ко мне одной: – Прости, госпожа, теперь меня призывает твоя сестра, твоя сестра и моя мать Геката, но когда-то я превыше всех любила тебя.
С этими словами она отвернулась и пошла прочь, колеблясь, точно подгнившее дерево на ветру. Так, спотыкаясь, шаркая, она пробиралась сквозь сгустившийся дым в ту постель, из которой, ее подняли – должно быть, в последний раз.
Я догадалась, что Гекатой она называла Кали. Все уставились на меня.
– Ты в самом деле Цыганка Мери? – стали они спрашивать. – Ты станцуешь для нас? Пожалуйста, попляши!
Я оглядела маленькую группку женщин; чуть дальше вся толпа извивалась и притоптывала не в лад под грохот барабанов и дерганый ритм хриплых труб. То и дело крестьяне принимались махать руками над головой, восклицая: «Э-ге-гей, серебряная луна!», призывая этими словами Царицу Небес. Кое-кто уже пристроился к столу, пиво пили прямо из бочки, молодые люди выдергивали из бочонка затычку и подставляли рот под струю, очень похожую на струю мочи, они ловили ее ртом, как собаки ловят пастью молоко, льющееся из коровьего вымени. На закуску у них были куски свинины с большими ломтями серого ржаного хлеба. Если бы я пустилась в пляс, никто бы и внимания не обратил. Хорошо бы я выглядела, отплясывая где-нибудь в уголке, пока мои зрители полностью погружены в выпивку, еду и собственные забавы.
– Потом, – пообещала я.
«Потом» наступило примерно через час. Я с толком использовала это время. По моей просьбе Эрика отвела меня к себе в хижину, и там я подготовилась к выступлению. В хижине в очаге тлели бледные угли, в свисающей с потолка корзине раскачивался младенец. Мужчиной тут и не пахло либо Эрика только что овдовела, либо ей удалось попользоваться чужим мужем. У нее не нашлось никаких украшений, кроме медных браслетов. Мы обмакнули их в пиво, чтобы они заблестели, будто золото. Я вообще-то люблю медь, этот металл посвящен Парвати. У меня с собой был мешочек с жемчугами, я спрятала его, войдя в деревню. Куда именно? Не скажу. Не надо обижаться – у каждого свои секреты.
Эрика согласилась рискнуть – оглядевшись и убедившись, что за нами никто не наблюдает, мы пробрались в церковь. Священник навещал это селение только раз в месяц, но у него в сундуке хранилось облачение. С помощью кремня, огнива и трутницы Эрика зажгла несколько свечей. Пока она перебирала одежду, лежавшую в сундуке, я подняла повыше одну из свечей и обошла всю церковь. Здесь пахло сыростью и прелью, холодный камень источал телесную влагу давно умерших людей. Вот он, Иисус, растянутые в муке мышцы, мертвенно-бледная кожа, он висит на своем кресте, бедный глупец, вот его мать в боковом приделе, она держит на руках дитя и над головой у нее сверкает нимб из золотых листьев. Но где же прославление матери? Ведь это младенец должен смотреть на нее с молитвенным восторгом, а не наоборот.
Вернувшись в ризницу, я снимаю через голову балахон и слышу короткий, изумленный вздох Эрики. Я беру женщину за руку – ее рука огрубела от стирки и полевых работ, – поглаживаю ее ладонью свою грудь – плоскую часть груди, там, где она еще не раздваивается, – затем обе груди, плечи, спину и ягодицы, а Эрика все вздыхает, дивясь, какая гладкая у меня кожа, как светится моя смуглота в пламени свечи. Она протягивает мне омофор[27]27
Нарамник, часть епископского облачения, носимая на плечах.
[Закрыть] с красивой вышивкой, с завязками сзади, и мы сооружаем из него юбочку, или, скорее, передник, какой надевают храмовые танцовщицы.
Мне бы еще смазать волосы буйволиным маслом и зачесать их кверху, украсив короной, но мои волосы еще только отрастают, они слишком короткие, так что мы находим еще одну ризу, белую с золотом, и я обматываю ее вокруг головы наподобие тюрбана. Лицо я раскрасила, растерев уголь с маслом, обвела глаза, придав им миндалевидную форму, сделала гуще ресницы и брови, вместо помады использовала красную глину и масло. Этой же краской я покрасила соски, а вокруг сосков нарисовала узор из спиралей и точек.
Конечно, это лишь жалкая тень того великолепного наряда, который имеется у меня дома: и пояс, и диадема, и браслеты, и кольца на пальцы ног и рук, и серьги – все из чистого золота и драгоценных камней. И все же я кажусь Эрике чем-то необычайным, быть может, даже божеством: она падает на колени, обхватывает руками мои бедра и утыкается лицом в омофор.
– Ты и вправду Цыганка Мери, – стонет она. – Ты – Мария.
На большие и средние пальцы я надеваю маленькие колокольчики и, согнув перед собой локти, прижимая к ладоням мизинцы, слегка трясу руками, чтобы Эрика услышала серебряный перезвон.
В большом амбаре стихает веселье, из всех духовых поет одна только флейта, а барабанщик постукивает в натянутую кожу пальцами, вместо того чтобы колотить ладонями. Под эту тихую дробь покачиваются несколько пар, мужчины и женщины тесно сплелись в объятиях, а остальные уже растянулись на земляном полу или укрылись в сене. Дым отчасти рассеялся, из большого бочонка на козлах вытекают последние капли, старик, растянувшись на спине, пытается ловить их ртом. Разумеется, как только я вошла, те, кто оказался ближе всего ко мне, смолкли, а затем по всему залу распространилась тишина, нарушаемая лишь храпом. Крестьяне во все глаза уставились на меня.
Я легонько позвенела колокольчиками, наклонила голову вперед и чуть вбок, выбросила ногу вверх, согнув и повернув наружу колено, и опустила ногу, легонько притопнув. Затем то же па еще раз, с другой ноги. Руки покачиваются, пальцы сгибаются и выпрямляются. Динь-динь, звенят колокольчики, и вот уже барабанщик, великан с широкой грудью, с руками, похожими на хобот слона, и порослью черных волос на груди, подхватывает ритм, отбивает его пальцами по натянутой коже барабана, а за ним следует его приятель флейтист, высокий и тощий, желтоволосый. У моих ног стоит принесенная Эрикой из церкви курильница, из нее поднимается аромат благовоний, заглушающий запахи древесного дыма и кислого пива.
Я начинаю петь на родном языке:
О богиня Минакши,
Чье прекрасное тело сияет
глубокой синевой, Чьи глаза похожи на двух карпов, Богиня, освобождающая нас
от оков этой жизни, Восседающая в лесу
на дереве кадамба, Высокочтимая победительница
Шивы, Благослови меня.
А барабанщик вставляет свой припев:
Добрый сэр, моя девчонка – будто ангел иль царица.
Задерет свою юбчонку, Всех потащит веселиться.
Покачиваясь, отбивая такт, я прохожу по всему амбару, из-под моих смуглых стоп поднимаются облачка пыли, смешиваясь с дымом курений, обвивающим мои бедра. При свете горящих углей медь и жемчуга так и переливаются, пламя свечей дрожит, когда я прохожу мимо, с силой ударяя ногами по полу. Обнаженные груди сулят сладость большую, чем сладость граната, мои ягодицы подобны двум грушам. Все обращенные ко мне взоры загораются тем же пламенем, никто из зрителей не осмеливается даже пошевелиться, они лишь вздыхают, постанывают от сладостной боли. Они уже знают, что танцу предстоит окончиться, что ничего подобного они больше никогда не увидят.
Барабан и флейта угадывают мои желания, мы словно обмениваемся безмолвным сообщением. Желтоволосый флейтист испускает тихие вздохи, похожие на дыхание младенца, барабан гремит все громче, ритм ускоряется, как пульс страстного любовника. Я поднимаюсь на цыпочки, я вращаюсь на одном пальце, руки, взметнувшись над головой, кружатся, одержимые неистовым желанием, и, все так же не отводя от меня глаз, каждая женщина тянется к своему мужчине, мужчина к своей женщине. На моих плечах блестит пот, пот стекает струйкой между грудей, между бедер, от моих движений поднялся ветер, промчался по всем углам амбара, распахнул мешковину, закрывавшую вход в амбар, и снаружи ворвался теплый ветер с дождем, подхватил меня в объятия, задул свечи, погрузил помещение в темноту.
У нас впереди еще вся ночь. Первым нашел меня в темноте Алан, барабанщик, но он так шумел, что его вопли и стоны вскоре привлекли в наш уголок Дэвида вместе с его флейтой. Сено глубокое, мягкое, оно все еще пахнет свежестью, пахнет даже летними цветами, скошенными вместе с травой. Эти парни очень милы, они отчасти утолили мой голод, но они не заменят мне Эдди. Зато, когда они наконец затихли почти затихли, если не считать раскатистого храпа Алана и посвистывания Дэвида, – меня разыскала Эрика. Она взяла меня за руку и повела в свою хижину. Ее мальчик спокойно покачивается в свисающей с потолка колыбели, угли все так же горят в очаге посреди дома. Эрика обтерла мне все тело тряпкой, смоченной в теплой воде, напоила ключевой водой с хлебом и сыром. Она уложила меня в свою постель, убаюкала в своих объятиях. Ее губы касались ямочки у меня на шее, ее грудь прижималась ко мне, и из нее сочилось молоко, ее сильные ноги обхватили меня за талию и бедра.
После первых петухов, еще до рассвета, Эрика снарядила меня в путь, в Бэнбери, но едва я отошла на сотню ярдов от деревни, как позади раздались поспешные шаги. Я оглянулась Алан догнал меня и пошел рядом, не говоря ни слова. Поверх кожаной куртки с передником он успел накинуть плащ, свой глиняный барабан он нес за спиной.
Еще десять ярдов – и вновь шаги, из морозно сверкавшего тумана показался Дэвид, тоже в плаще. Без сомнения, флейту он прихватил с собой. Дэвид недружелюбно глянул на Алана и, по его примеру не говоря ни слова, пристроился рядом со мной с другой стороны.
Так не пойдет. Они оба готовы превратить меня в свою собственность, чего я совершенно не желаю. Я сотворила молитву Парвати, и не прошло и десяти минут, как молитва была услышана. Мы как раз поднимались в гору. Если мы перевалим через гребень, деревня полностью скроется из виду, а тогда уж никакая сила не заставит их повернуть назад. Я стала замедлять шаги, притворилась, будто совсем запыхалась, схватилась рукой за ветку дерева и остановилась отдохнуть. Слава Парвати, они уже догоняют нас. Впереди бежит маленькая девочка в шерстяном платье, с растрепанными волосами, затем ее обгоняет мальчик, и в итоге мальчик подбегает к нам первым.
– Дядя Алан! – кричит он. – Дедушка Берт порвал цепь на бороне. Если ты не вернешься, мы не сможем взборонить поле.







