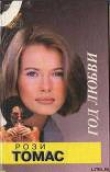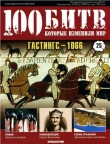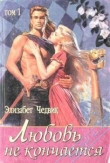Текст книги "Граф Вальтеоф. В кругу ярлов"
Автор книги: Джульетта Даймоук
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– И не верит Эдит? Сомневаюсь. Разве это не ирония: когда я поднял против него восстание, он меня простил, а теперь, когда я невиновен, меня осудят.
– Этого мы не знаем, – упрямо заметил Ричард. Он цеплялся за последнюю надежду, но слишком хорошо знал своих соотечественников, чтобы в это верить.
– Совсем недавно, – внезапно сказал Вальтеоф, – я рассмеялся бы в лицо каждому, кто посмел бы сказать, что такое могло случиться, что Эдит может… – он резко остановился, его забила дрожь. – Они хотят моей смерти?
– Нет-нет! Это не нормандский обычай. Вальтеоф криво на него посмотрел.
– Значит, я должен думать об еще худших вещах: четыре стены, и ни воздуха, ни света! Смогу ли я так жить?
– Сможешь, – сказал Ричард, – потому что это дает надежду на милость и освобождение.
– И если я буду освобожден, что потом? Неужели ты думаешь, что они оставят мне мои земли? И ни я не могу жить с Эдит, ни она со мной. Вильгельм может изгнать меня, и я буду, как Торкель, безземельным человеком… – он горько рассмеялся. – Последний из дома Сиварда без собственного дома.
Ричард молчал. Он вспомнил слова Вульфстана о том, что используется имя графа, и быстрый ответ Одо на это. Нет, так легко они не дадут ему уйти, он – слишком значительная персона, со слишком громким именем. Ричард посмотрел в зал, потому что за судейским столом началось движение.
– Они возвращаются. Да хранит тебя Бог, друг мой. Он вернулся на свое место за креслом Вильгельма. Бароны были мрачными, Вульфстан бледен, со страдающим лицом, но два или три, среди них Ив Таллебуа, явно удовлетворены. Он с важным видом опустился на свое место, недобро взглянув на Ричарда. Этот взгляд сказал Ричарду достаточно. Он сразу вспомнил себя, каким он был девять лет назад – пареньком, который оглушенный лежал в овраге, помилованный своим врагом. И этот враг – Вальтеоф. Ему захотелось крикнуть этим людям, чтобы они одумались, чтобы поняли, что они делают.
Вернулся Вильгельм, и Роберт Мортейн развернул вердикт. Они разобрали дело тщательнейшим образом, сказал он, рассмотрев все факты. Они хотели бы проявить снисхождение к графу, учитывая годы его верности короне, но все свидетельствует против него. Поэтому у них не было иного выхода, как только признать его виновным в измене. Вальтеоф стоял неподвижно среди стражи, сознавая только, что случилось невозможное. Невиновный – а вина его доказана. И внезапно зал, цвета, свет, злые лица закружились перед его глазами.
Мортейн продолжал:
– Мы хотели бы судить графа Вальтеофа так же, как графа Роджера, по милосердным нормандским законам, сир, но вы поклялись придерживаться законов английских, и, так как он англичанин, он будет судим по законам английским. Поэтому мы требуем, чтобы графа лишили жизни.
Поднялся шум. Все англичане кричали в возмущении. Люди графа обнажили мечи. Хакон орал:
– Нет, нет! Смерть нормандцам! Вальтеоф! Граф Вальтеоф!
Торкель схватил его, зажал ему рукой рот, а Оти выхватил у него меч. Исландец был пепельного цвета, он тихо произнес:
– Идиот! Неужели ты думаешь его этим спасти? Мы ничего здесь не сможем сделать.
Хакон продолжал беситься, но Оти пробормотал:
– Спокойно, спокойно. Мы вызволим его. Нормандцы кинулись, чтобы сдержать их, послышалась ругань, и не один человек пролил кровь в потасовке. Только сам заключенный оставался молчалив и спокоен. Выпрямившись, он встретил темный взгляд Вильгельма, услышал, как король согласился с вердиктом, и вспомнил в этот миг их первую встречу в Беркхамстеде. Тогда они тоже прямо смотрели друг на друга, испытывая характеры друг друга. Он вспомнил, как солнце скользнуло по золотой мантии Вильгельма: в этот момент он почувствовал, что между ним и королем началось единоборство. Теперь оно окончилось, и Вильгельм, суровый и непреклонный, победил, а он разбит, повержен в грязь, как когда-то флаг Уэссекса и сама Англия. Он собрал последние силы и громко крикнул:
– Нас Бог рассудит, Вильгельм Нормандский. Я вверяю себя с радостью его милосердию, потому что я невиновен. Я грешен не больше других людей, и в этом деле моя совесть чиста. Если ты пошлешь меня на смерть, сомневаюсь, что ты сможешь сказать то же самое.
– Заставьте его замолчать, – злобно крикнул Одо. – Будем ли мы слушать, как оскорбляют нашего короля?
Вальтеоф рассмеялся.
– Вы боитесь правды, милорд?
Вильгельм, поджав губы, кивнул страже. Они схватили своего пленника, потащили его вон из зала. Он не смотрел по сторонам, не видел ни боли на лице Торкеля, ни слез Хакона, ни трясущихся рук Оти, он гордо шествовал, чтобы все видели: он – невиновен. Но на улице, на январском морозе, он глубоко вздохнул, наполнив воздухом легкие – так, чтобы очистить их от духоты, ужаса, подавляющей атмосферы зала, стараясь освободиться от всего этого. Он взглянул на низкое, тяжелое небо, обещающее разразиться дождем: сейчас он отдал бы оба своих графства за то, чтобы свободно ехать под этим небом, чувствовать, как дождь лупит его по лицу, и ветер хлещет по щекам. Но, вместо этого, его опять запрут, но как надолго? Боже, как надолго?
Он думал, что его вернут в епископский дом, но, вместо этого, они повернули направо во двор, затем по ступенькам за ворота, по узкой лестнице через комнату охраны в темную камеру в подвале крепости. Она была не больше восьми футов в длину, в ней были только узкий тюфяк, стул и ведро. Высоко под потолком находилось маленькое слепое оконце, но оно едва возвышалось над землей и пропускало очень мало света. Его посадили на кровать и прикрепили цепи к ногам. После этого его оставили. Граф слышал, как за дверью задвинули тяжелый болт.
Вальтеоф схватился за голову, и из души его вырвался страшный, пронзительный крик. Люди, услышав этот звук, переглянулись, а Оти Гримкельсон, который нес кувшин с водой, буханку хлеба и мясо, задрожал так, что расплескалась вода. И какой-то грубоватый детина из стражи крикнул ему вслед:
– Что стряслось, старик? Никогда не слышал, как кричит пойманный заяц?
Оти посмотрел на него сердито и вошел в дверь, которая вела в комнату охраны. Ему разрешили прислуживать его господину. Поставив кувшин на пол, он сел рядом с Вальтеофом на кровать и обнял его за плечи. Как когда-то они сидели вместе у смертельного одра Сиварда. Ослепленный горем Вальтеоф уткнулся в плечо старика, и Оти погладил его по голове жилистой рукой.
Глава 6
Аббат Ульфитцель чувствовал свои годы, когда ехал по этой длинной и тяжелой дороге из Лондона в Винчестер, длинной и прямой, как строили когда-то римляне, и в этот холодный мартовский день, второй день его путешествия, она казалась бесконечной. Он плотнее завернулся в свои одежды, стараясь как-то уберечься от восточного ветра; ревматизм, заработанный в сыром климате Кройланда, скручивал его руки и ноги – бывали дни, когда брат Куллен резал для него пищу. И теперь он был вместе с ним, добрый старый вол, который служил аббату с трогательной преданностью.
Брат Куллен посмотрел в небо с видом старожила:
– Похоже, будет снег, отец. Или мы попытаемся доехать до Базинга к ночи, или вы предпочтете, чтобы я нашел нам ночлег где-нибудь поблизости? Кажется, недалеко отсюда есть маленькое местечко, и я мог бы поехать вперед…
– Мы поедем дальше, – сказал аббат. Он чувствовал себя старым и уставшим, но важнее всего было как можно быстрее добраться до Винчестера. Он ни о чем другом не мог думать, как только о положении своего любимого духовного чада, и все последние недели, пока руководил своей братией, он не слышал ни слова, потому что весь был погружен в молитву. Много бессонных ночей провел он в мольбе на холодном полу в церкви пред высоким алтарем, раздираемый воспоминанием о видении Леофрика. Он помнил последние слова аббата: «Я видел графа, с распростертыми руками и красной линией на горле…» – Леофрик был прав в отношении Петербороу, и теперь, когда Вальтеофу угрожала смерть, кажется, и остальная часть видения можгла исполнится. В темноте этих ночей, страшных и черных, Ульфитцель страдал за другого человека – так, как он никогда не страдал за себя самого.
Теперь, наконец, скрюченный от боли и страданий, он получил разрешение архиепископа посетить Вальтеофа в тюрьме. Он рад был ненадолго покинуть Кройланд, так как графиня управляла графством, будто ее мужа уже не существовало. Однажды, когда он заметил ей, что одно дело должно подождать решения графа, она подняла бровь и заявила:
– Думаю, господин аббат, что если он и вернется, то только как один из вашей братии.
Он был поражен таким ответом и удивлялся, как много она знает о замыслах своего дяди. Действительно, король очень долго не разрешал приводить приговор в исполнение. Возможно, он не может решиться на это, думал Ульфитцель, и последние два месяца граф находился в тюрьме в ожидании решения короля. Неужели Эдит верит, что он отпустит Вальтеофа, чтобы тот поступил в монастырь? Возможно, если она думает так, ее сердце не настолько черно, как он считал.
Сгущались сумерки, и посыпались хлопья снега, но Базинг уже было видно. Там, в странноприимном доме бенедиктинцев, брат Куллен хлопотал вокруг него, заботясь обо всем необходимом, и стоял над аббатом, пока тот не съел весь суп.
На следующий вечер они были в Винчестере, и уже утром Ульфитцеля привели в крепость, где содержался заключенный. Когда он поднимался по ступенькам, настроение его ухудшилось, так как он надеялся, что графа содержат в более или менее приличных условиях, но все иллюзии развеялись, когда он вошел в мрачную камеру с маленьким окном и грубой постелью.
Увидев посетителя, Вальтеоф вскочил, протянув руки к нему и радостно вскрикнув, но аббат увидел цепи, гремевшие при каждом движении графа.
– Сын мой, – сказал он, – о, сын мой. Вальтеоф сжал связанные руки.
– Это не так плохо, отец, действительно. Садитесь. – Он пододвинул стул, и старик с благодарностью сел.
Он молчал с минуту, изучая графа. Лишенный света, свежего воздуха и движенья, он был бледен, глаза потускнели, но он был спокоен, и Ульфитцель почувствовал облегчение.
– Они хорошо тебя кормят, сынок? Ты не болел?
– Нет, отец. У меня всего достаточно. И епископ Валкелин навещает меня. Архиепископ был здесь один раз и аббат Святого Креста. Они разрешили Торкелю Скалласону приходить по воскресеньям. Я велел Хакону вернуться домой после суда. Здесь ему нечего делать. И он прислал мне это, – он погладил рукой медвежью шкуру. – Я так благодарен за это, здесь холодно по ночам. И Оти прислуживает мне. Я боялся, что с ним будет, если они не разрешат ему приносить мне еду и заботиться обо мне. Я пытаюсь научить его играть в шахматы.
– Трудное дело, – сказал Ульфитцель, пытаясь улыбнуться, – но, без сомнения, это занимает время.
– О, – вздохнул Вальтеоф, – дни как-то проходят. Я никогда не перестаю благодарить вас за то, что вы заставили меня выучить псалтырь, когда я был ребенком. Я читаю его каждый день, и это хранит меня от помешательства.
– Слава Богу за это, сын мой. Хуже было бы, если бы тебе нечем было себя занять.
Вальтеоф перестал улыбаться, и Ульфитцель сразу увидел то напряжение, в котором он живет.
– О, вы не знаете, отец. Я невиновен в том деле, за которое приговорен к смерти, но у меня нечто другое на совести. У меня не будет времени для покаяния в том, что я сделал с сыновьями Карла. Когда я думаю об этом, то сознаю, что не смею даже произносить имени Божиего.
Аббат мягко произнес:
– Это было сделано в гневе, из-за убийства Ульфа, и хотя я не извиняю тебя, тем не менее, я верю, что в этот день ты не владел собой.
Вальтеоф сжал руки и уставился на свои цепи. Однажды он пересчитал звенья на цепях, двадцать четыре на правой, двадцать четыре – на левой, а на следующий день сидел так неподвижно, что паук сплел на его цепях паутину. Он рассматривал паука, не шевелясь, чувствуя некое родство с ним, тоже живущим в этом темном углу.
– Возможно, нет, – наконец произнес он, – Но это самая страшная вещь, которую я когда-либо совершал. Если есть воля Божия на то, чтобы я умер, то за этот проступок. – Он поднял глаза, и внезапно лицо его залилось румянцем. – Вы – у вас нет для меня новостей?
– Нет. Дай Бог, чтобы я был тебе хорошим вестником.
– Странно, что король тянет с приказом меня казнить. Почему? С каждым днем это все труднее выносить.
– Я не знаю, сынок, но верую, что он не может себя заставить сделать это.
Вальтеоф покраснел еще сильнее.
– Он сказал когда-то, что не хотел бы иметь во мне врага, и вот прошло слишком много времени, как меня не трогают, и все больше я думаю, что он пощадит меня, но он не оставит мне мои земли, да и я не смогу никогда вернуться к графине.
– Приходи к нам, – спокойно предложил Ульфитцель и удивился, что повторил то, что когда-то сказала ему Эдит.
Вальтеоф едва улыбнулся.
– Я уже послал королю письмо с этой просьбой. Действительно, если он простит меня, мне не останется ничего другого. Я понимаю, почему Кнут Карлсон ушел в монастырь на Линдисфарне. Иногда я представляю, – голос его стал мечтательным, – что я уже в Кройланде, работаю в саду вместе с братом Кулленом, чувствуя, как солнце пригревает спину, и вырываю сорняки. И, устав, пойду петь на службу в церковь, где святой Гутлас будет меня хранить. – Он остановился и снова стал смотреть на свои цепи.
Ульфитцель сказал:
– Я молю Бога день и ночь, чтобы это кончилось. И в то же время подумал, со скрытой болью, что же это за видение – красная линия на горле? Вальтеоф снова поднял глаза.
– Вы видели Мод и Алису? Вальтеоф оторвался от мрачных мыслей.
– На Сретенье. Мод скучает по тебе, но она маленькая и уверена, что ты скоро приедешь. Она весело играет. Что касается Алисы, она еще слишком мала, чтобы что-нибудь понимать.
Вальтеоф замолчал, вспоминая, как обвили его ручки Мод, когда он видел ее в последний раз, но он не должен поддаваться этим чувствам, не должен об этом думать, иначе потеряет спокойствие, которое ему так трудно дается в последние недели.
– А Ричард де Руль? – изменил он тему. – Я не видел его с суда.
– Он посылает тебе привет и просит меня передать, что король приедет сюда на Пасху, и он снова может тебя увидеть. Он не устает просить его о прощении для тебя, – аббат улыбнулся. – Своей настойчивостью он когда-нибудь этого добьется.
– Он хороший друг, – другая мысль пронзила его. – А что Ателаис?
– Я видел ее в Нортгемптоне. Она очень горюет по тебе, я знаю, но со мной она об этом мало говорила. Я спрашивал, не могу ли что-нибудь сделать для нее, но она ответила, что сама о себе позаботится.
– Она странная, дикая девчонка, – сказал Вальтеоф. У него было предположение, что она имеет в виду совсем другое, нежели думает Ульфитцель.
– Я хотел, – он остановился и, поднявшись, начал ходить по маленькой камере. Он мог сделать со своими цепями только три шага вперед, шесть назад и затем снова три вперед. Ульфитцель смотрел на него, слыша звук, который издают цепи, видя следы, которые они оставляют на его ногах. Несправедливость и безжалостность разрывали его сердце.
Он видел, как граф шел от детства к юношеству, как из юноши он стал видным здоровым мужчиной, и наблюдать его в таком положении было невыносимо.
– Эти цепи, – наконец, произнес он, – я поговорю с епископом Валкелином, с королем, если нужно будет…
– Я привык к ним, – сказал Вальтеоф, и затем внезапно взорвался: – Иногда, когда я просыпаюсь по ночам, я не могу понять, где я. Кажется, так недавно я был свободным человеком, управляющим своей землей. Я думал, что король мне друг, и многие другие тоже. Теперь все это прошло, и я здесь, в этом ужасном месте, без вины!
Он и не собирался говорить этого, но их давняя близкая дружба заставила его довериться аббату. Ему он мог поведать о своем животном ужасе перед темнотой, сыростью и убожеством его камеры, и о своей подавленности.
– Мой бедный сын, – сказал ему Ульфитцель, – никто из нас не знает ни дня, ни часа, когда нас посетит несчастье.
Вальтеоф был глубоко тронут. Слова хлынули потоком:
– Всю свою жизнь я любил лес и открытое небо над головой, а теперь, скованный цепями, я могу видеть только маленький треугольник облаков в узенькое окошко. Всегда я мог поехать, куда хочу, а теперь не могу ступить и десяти шагов.
– Сынок, сынок, – повторял аббат, он не мог остановить слез, – только духовная свобода суждена тебе здесь.
– Я знаю. Но трудно смириться с этой полужизнью. Одно дело – смерть в бою. У меня была такая возможность в девятнадцать лет, но я умер бы с честью там, а теперь обесчещенным умру здесь. – Он взглянул на аббата. – Я молюсь о смирении, все время молюсь, и иногда мне кажется, что я обретаю мир, что я прощен за то, что совершил, но затем я вспоминаю Рихолл, Мод, Хакона, других, и мира как не бывало. Тяжело то, что Роджер, виновный, устроен лучше, чем я – безвинный. – Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. – Я стараюсь не думать об этом. Я могу только раскаиваться за свои грехи. Но восстает моя плоть. Она кричит и просит дела, и иногда мне кажется, что я не смогу остаться здесь ни минуты.
Он дал волю своим чувствам первый раз за все эти тяжелые недели. Все его тело, все мускулы требовали движения.
– Мне кажется… Мне кажется, что лучше умереть, чем жить все время в заключении. Вы помните Ансгара? Десять лет он был в тюрьме в Нормандии. Я бы сошел с ума. Сейчас уже, после такого короткого времени, я готов процарапать себе путь наружу. Я хочу света, воздуха и свободы, я хотел бы быть в Рихолле, поехать в лес, навестить свои земли, проехать на лодке вокруг Кройланда, поехать туда, где…
Он схватился за голову, пытаясь остановить рыдания, которые, наконец, прорвались наружу. Ульфитцель тихо сидел, сжав пальцы так, что они побелели. В конце концов, со всем возможным спокойствием он медленно произнес следующие слова, которые упали в темень камеры: – Дорогой сынок, храни в себе память о Боге и Его страданиях, и твои тебе покажутся легкими.
Вальтеоф облокотился о стену в изнеможении, опустошенный своим плачем. Как всегда, Ульфитцель знал, что сказать, чтобы принести мир, как кто-нибудь другой мог бы принести милостыню, и когда тюремщик открыл дверь и вызвал аббата, граф уже был способен преклонить колена за благословением в сравнительно спокойном состоянии.
На следующий день наступило воскресенье – веха недели, когда приезжал Торкель. Они толковали, в основном, о прежних днях, о тех временах, когда королем был Гарольд и Леофвайн часто бывал в Рихолле. Они вспоминали старые шутки и прошлые подвиги, говорили об охотничьих вылазках, вспоминали тот год, когда так разлилась река, что вода достигла дверей дома, то лето, когда Вальтеоф подыскал Борсу подругу, и она произвела прекрасных щенков, весь дом умилялся их шалостям.
Но когда пришел вечер, Вальтеоф вдруг сказал:
– Если Вильгельм меня простит, думаю, я поеду в Кройланд и стану монахом. Сомневаюсь, что для меня есть другой выбор.
Торкель стоял у окна, стараясь вдохнуть свежего воздуха.
– Для такого воина, как ты, лучше было бы быть в чьей-нибудь армии.
– Возможно. Но Вильгельм не позволит мне уехать, я это знаю. Помнишь, Одо сказал, что мое имя могут использовать, как призыв к восстанию. Но никто не сможет это сделать, если я буду за стенами Кройланда.
Торкель тяжело повернулся.
– Возможно, нет, но это смерть при жизни! Не для меня такое, минн хари.
– Я так не считаю, особенно после всего, что случилось, – Вальтеоф посмотрел на приятеля. – А что ты, друг мой? Если я останусь здесь, или меня отправят в Кройланд, что будешь делать ты? Тоже поедешь в Кройланд? – улыбнулся граф.
Торкель ответил:
– Я – поэт и буду им всю жизнь. Я не смогу выбрить тонзуру, но, – он посмотрел своими бледно-голубыми глазами на графа, – пока мы оба живы, я служу тебе и там, где будешь ты, там буду и я. Может быть, Ульфитцель позволит мне гонять лодку вокруг аббатства.
Вальтеоф расхохотался:
– И петь своим пассажирам в придачу. – Его улыбка поблекла. – Мой дорогой друг, теперь я тебе ничего не могу предложить.
– Мне ничего и не нужно.
– А если… если они выполнят приговор? Исландец отвернулся от окна.
– Они не посмеют, – он отвергал такую возможность всем своим существом. – Я не верю, чтобы король сделал это. Уже три месяца прошло со дня суда.
– Ты мне не ответил, – упрямо сказал Вальтеоф, – я хотел бы знать…
Торкель сел рядом с ним на тюфяк:
– Я не могу ничего сказать тебе, потому что не могу об этом и подумать. Поверь мне, минн хари. Ни один человек не был мне так дорог, как ты.
Оти пришел с ужином, который они разделяли по воскресеньям. Горячее мясо и пирог, и хороший эль, и они втроем поужинали, как это когда-то бывало дома. Для Вальтеофа это была прекрасная трапеза, по сравнению с тем, что он ел в течение недели, и когда они ушли, следующие шесть дней для него тянулись бесконечно, пока, наконец, не наступило снова воскресенье.
Слова Торкеля запали ему в душу, и, лежа в темноте под медвежьей шкурой, он вспомнил тот вечер перед его свадьбой, когда Торкель уступил свое место более близкому для графа существу. Но вот Торкель остался ему верен, а Эдит… Он спрятал лицо в подушку, стараясь заставить себя не думать о ней, но когда он заснул, ему приснился Руан, и он проснулся, выкрикивая в темноту ее имя.