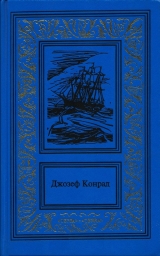
Текст книги "Негр с «Нарцисса»"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
V
На судне воцарилась тяжелая атмосфера гнетущего спокойствия. Днем люди занимались стиркой белья и развешивали его для сушки под неблагоприятным ветром, с медлительностью разочарованных философов. Разговаривали очень мало. Жизненные проблемы казались слишком обширными для узких пределов человеческой речи, и их, по общему соглашению, предоставили безбрежному морю, которое от самого начала времен захватило их в свою огромную длань – морю, которое знало все и неизбежно должно было открыть каждому в свое время мудрость, скрытую в заблуждении, уверенность, заключенную в сомнении – царство безопасности и мира за пределами горя и страха. И в беспорядочном потоке немощных мыслей, которые беспрерывно внедрялись тем или иным путем в тела людей, на поверхности, неизменно требуя к себе внимания, прыгал Джимми, словно черный бакен, прикованный ко дну грязной реки. Лицемерие торжествовало. Оно торжествовало благодаря сомнению, глупости, жалости, сентиментальности. Мы старались поддерживать его из сочувствия, из легкомыслия, из чувства юмора. Необычайное упорство, с которым Джимми цеплялся за свою ложь перед лицом неизбежной истины, носило в себе колоссальную загадку, представлялось нам каким-то величавым и непонятным явлением, которое по временам вызывало к себе благоговейное уважение. Многие, кроме того, находили нечто необычайное и изысканно забавное в том, чтобы дурачить таким образом Джимми, следуя его же собственному желанию. Скрытый эгоизм, заключенный в сострадании, заставлял нас все больше опасаться того, чтобы не сделаться свидетелями его смерти. Его упорное нежелание признать единственно достоверное, признаки приближения которого мы могли наблюдать изо дня в день, нарушали наше душевное равновесие не меньше какого-нибудь отступления от закона природы. Он так решительно заблуждался относительно себя, что нам не оставалось ничего другого, как только заподозрить его в доступе к какому-нибудь источнику сверхъестественного знания. Он был нелеп до вдохновения. Он был неподражаем и очаровывал нас, как может очаровывать только что-нибудь нечеловеческое; казалось, будто он выкрикивает свое отрицание, стоя уже по ту сторону ужасного предела. Он с каждым днем становился все более призрачным, похожим на видение; его скулы выдавались, лоб уходил все дальше, лицо покрывалось провалами и тенями и лишенная мяса голова все больше напоминала вырытый черный череп, которому вставили в глазные орбиты два беспокойных серебряных шара. Он производил на нас деморализующее влияние. Благодаря ему мы становились высоко гуманными, нежными, сложными, чрезмерно упадочными. Мы научились понимать тончайшие отгенки его страха, разделять все его антипатии, опасения, увертки, заблуждения, как будто и впрямь были причастны к утонченнейшей культуре, испорчены и лишены здравого представления о смысле жизни. Судя по нашему поведению, можно было подумать, что мы связаны между собой какими-то постыдными тайнами; у нас появились глубокомысленные гримасы конспираторов, многозначительные взгляды, короткие словечки, в которых таился особый смысл. Мы вели невыразимо подлую игру и были очень довольны собой. Мы лгали ему с глубокой убежденностью, с чувством, с умилением, словно разыгрывая какую-то моралите, в надежде на вечную награду. Мы подтверждали дружным хором самые нелепые уверения Джимми, словно он был миллионер, политик, или преобразователь, а мы толпа честолюбивых прихвостней. Иногда мы отваживались задать ему вопрос по поводу какого-нибудь невероятного утверждения, но делали это как раболепные льстецы, с тем, чтобы при споре еще больше оттенить своей угодливостью его превосходство. Он налагал отпечаток на всю нравственную сторону нашего мира, словно в его власти было распределять почести, сокровища или муки; а между тем он ничего не мог дать нам, кроме своего презрения. Оно было огромно; оно, казалось, постепенно росло по мере того, как его тело съеживалось день ото дня на наших глазах. Это было единственное, что производило в нем впечатление постоянства и силы, оно жило в нем неугасимой жизнью, оно говорило через вечно надутые черные губы; оно глядело на нас сквозь вызывающую наглость его больших глаз, которые все сильнее выступали вперед, придавая ему сходство с крабом. Мы напряженно следили за ним. Вся остальная часть его существа оставалась неподвижной. Он, казалось, избегал движения, как будто сам не доверяя своим силам. Малейший жест должен был неизбежно обнаружить перед ним (иначе несомненно и быть не могло) его физическую слабость и вызвать острый приступ душевной тоски. Он был скуп на движения. Он лежал вытянувшись, опустив подбородок на одеяло, сохранял лукавую благоразумную неподвижность; только глаза его блуждали по окружающим лицам – эти презрительные, проницательные, печальные глаза.
В этот период преданность Бельфаста, а также его драчливость обеспечивали Джимми всеобщее уважение. Все свое свободное время ирландец проводил в каюте Джимми. Он ухаживал за ним, беседовал с ним; он был ласков, как женщина, полон мягкого юмора, как старый филантроп. Но вне каюты Джимми он делался раздражителен, вспыльчив, как порох, мрачен, подозрителен; и чем глубже бывало его горе, тем грубее он выражал его. Все его душевные переживания неизменно заканчивались слезой или тумаком: слеза была для Джимми, тумак для всякого, кто, по-видимому, не исповедовал в точности ортодоксального взгляда на дело Джимми. Мы ни о чем другом не говорили. Даже оба скандинава обсуждали создавшееся положение, но в каком духе, разобрать было невозможно, ибо они ссорились на своем родном языке. Бельфаст заподозрил одного из них в непочтительности к Джимми и, будучи не совсем уверен в том, кто из них грешен, решил, что выход один – поколотить обоих. Его свирепость навела на них панику, и они жили с тех пор среди нас вечно унылые и безгласные, словно пара немых. Вамимбо никогда не выражал своих мыслей человеческим языком, но и он утратил способность улыбаться, хотя понимал во всем этом, по всей вероятности, меньше кота и следовательно находился в безопасности. Притом же он принадлежал к избранной группе спасителей Джимми и был вне подозрения. Арчи обычно молчал, но часто проводил часок-другой в каюте Джимми, спокойно беседуя с ним с видом собственника. Во всякое время дня, и часто в течение ночи, на сундуке Джимми восседал кто – нибудь из команды. Вечером между шестью и восемью каюта бывала битком набита, а у дверей толпилась группа непоместившихся любопытных. Никто не сводил с негра глаз.
Джимми грелся в лучах нашего внимания. Глаза его иронически блестели, и он слабым голосом упрекал нас в трусости. Он говорил:
– Если бы вы, ребята, сумели постоять за меня, я был бы теперь на палубе.
Мы опускали головы.
– Да, но…
– Если вы думаете, что я дам заковать себя ради вашего удовольствия… нет уж, дудки… Хотя это лежание подрывает мое здоровье. Вам-то, конечно, все равно.
Мы так смущались, точно это в самом деле была правда. Его бесподобная наглость сметала все на своем пути. Мы никогда не осмелились бы возмутиться. Мы, собственно, и не желали ничего подобного. Нам нужно было только одно – довезти его живым до дому, до цели нашего плавания.
Сингльтон, как всегда, держался в стороне, словно пренебрегая незначительными мелочами, которые могла подарить ему оконченная жизнь.
Только раз он подошел к каюте Джимми и в выжидательной позе остановился на пороге. В глубоком молчании он уставился на двери, точно желая присоединить этот черный образ к толпе теней, населявших его старую память. Мы притихли, и Сингльтон долго стоял так, как будто явился по уговору, чтобы вызвать кого-нибудь или посмотреть что-нибудь интересное. Джемс Уэйт лежал совсем тихо, как будто не замечал взгляда, который упорно пронизывал его, точно ища чего-то. В воздухе носилось предчувствие грозы. Мы все испытывали внутреннее напряжение людей, следящих за схваткой во время борьбы. Наконец Джимми с заметной опаской повернул голову на подушке.
– Добрый вечер, – сказал он примирительным тоном.
– Хм, – ворчливо ответил старый моряк. Он посмотрел еще минуту на Джимми, сурово и пристально, затем резко отошел. Прошло немало времени, прежде чем кто-нибудь заговорил в маленькой каюте, хотя все мы сразу вздохнули свободнее, точно люди, выбравшиеся из опасного положения. Всем нам были известны мысли старика насчет Джимми, и никто не осмеливался оспаривать их. Они расстраивали нас, заставляли страдать; но хуже всего было то, что все мы в глубине души верили в их справедливость. Он только один раз снизошел до того, чтобы изложить их полностью, но впечатление осталось навсегда. Он сказал, что противные ветры держатся из-за Джимми. Смертельно больные люди, – утверждал он, – тянут так до тех пор, пока в виду не покажется земля, затем они умирают. И Джимми знал, что земля вытянет из него жизнь. Так бывает на каждом корабле. Неужели мы не знаем этого? – спрашивал он нас с суровым презрением. Но что же мы знаем в таком случае? В чем еще намерены сомневаться? Желание Джимми при нашей поддержке и колдовстве Вамимбо (ведь он финн, не так ли? Прекрасно!) удерживало корабль в открытом море. Только тупые олухи могли сомневаться в этом. Кто когда-либо слышал о таком беспрерывном чередовании штилей и противных ветров? Это неестественно…
Мы не могли отрицать того, что это странно. Мы начинали приходить в смущение. Обычная матросская поговорка «чем больше дней, тем больше долларов» не успокаивала нас как всегда, потому что запасы приходили к концу. Многое испортилось во время шторма у Мыса, и мы с тех пор сидели на половинной порции сухарей. Бобы, сахар и чай давно уже кончились. Солонина подходила к концу. У нас было сколько угодно кофе, но очень мало воды, чтобы варить его. Мы мужественно затянули еще туже наши пояса и продолжали скоблить, чистить и красить корабль с утра до ночи. Вскоре он приобрел такой вид, словно только что вышел из игрушечного магазина; но на борту его обитал голод. Не смертельный, но постоянный живой голод, который крался по палубам, спал в баке; он был нашим мучителем в минуты пробуждения и беспокойным призраком наших снов. Мы жадно смотрели в подветренную сторону, ожидая признаков перемены. Через каждые несколько часов ночи и дня мы меняли галсы в надежде, что судно придет же наконец когда-нибудь к ветру. Но положение не изменялось. Корабль, казалось, позабыл путь домой; он метался из стороны в сторону – то на северо-запад, то на восток; он устремлялся то взад, то вперед, смущенный и встревоженный, словно существо у подножия стены. Иногда, как бы охваченный смертельной усталостью, он вяло колыхался день-другой в легкой зыби спокойного моря. Паруса, поднятые на колеблющихся мачтах, неистово трещали в знойной неподвижности штиля. Мы страдали от усталости, голода, жажды; мы начинали верить Сингльтону, но с непоколебимой преданностью по-прежнему притворялись перед Джимми. Мы разговаривали с ним шутливыми намеками, словно веселые сообщники хитро задуманного заговора, и бросали через поручни мрачные взгляды на запад, ища какого-нибудь проблеска надежды или малейшего намека на попутный ветер, хотя бы первое дыхание его принесло смерть нашему сопротивляющемуся Джимми. Напрасно. Вселенная была в заговоре с Джемсом Уэйтом. С севера снова подул легкий ветерок; небо оставалось все также чисто; взгляд наших измученных глаз встречал повсюду тронутое бризом сверкающее море, сладострастно купающееся в ярком солнечном свете, словно оно забыло о наших жизнях и тревогах.
Донкин вместе с остальными ждал попутного ветра. Однако никто не подозревал, в каком направлении работала теперь его ядовитая мысль. Он был молчалив и, казалось, стал еще более тощ, как будто злоба на несправедливость людей и судьбы понемногу сжигала его изнутри. Никто не обращал на него внимания, и сам он ни с кем не разговаривал; но из его глаз, так и глядела непримиримая ненависть ко всем нам. Он беседовал с одним только поваром, убедив каким-то образом добряка, что он – Донкин – жертва клеветы и преследований. Они оплакивали вдвоем безнравственность судовой команды. Не было ббльших преступников, чем мы, которые замышляли своей ложью обречь на вечную погибель душу бедного непросвещенного черного человека. Подмур готовил нам то, что еще можно было готовить, и при этом вечно терзался угрызениями, думая о том, что ставит на карту собственное спасение, приготовляя еду для таких грешников. Что до капитана, он прожил с ним семь лет, – говорил Подмур, – и никогда не поверил бы, что он такой человек…
– Ну, ну… история… Никак не могу постигнуть… Точно подменили человека в одну минуту… Вся гордыня так и вылезла сразу… Как будто в него дьявол вселился, право…
Донкин мрачно гнездился на угольном ящике, болтал ногами и во всем соглашался с ним. Этим неискренним поддакиванием он оплачивал свое право сидеть на кухне. Он был в унынии и чувствовал себя оскорбленным; он был совершенно согласен с поваром и не находил достаточно суровых слов, чтобы осудить наше поведение. Когда же Донкин в пылу обличения начинал сыпать бранью, Подмур (который сам был не прочь выругаться, если бы не его принципы) делал вид, будто не слышит этого. Таким образом Донкин беспрепятственно мог ругаться за двоих; он выклянчивал попутно спички, одалживал табак и торчал часами у плиты, чувствуя себя в кухне, как дома. Он мог слышать оттуда наши разговоры с Джимми, шедшие по другую сторону переборки. Повар стучал горшками, хлопал дверцей плиты, бормотал пророчества и проклятия на всю судовую команду и Донкин, который соглашался со всем только ради предлога побогохульствовать, слушал сосредоточенно и озлобленно, свирепо смакуя картину вечных мучений – как другие смакуют проклятые образы жестокости, мести, алчности и власти.
В ясные вечера, под холодным сиянием тусклой луны, молчаливый корабль принимал ложный вид бесстрастного покоя, точно земля в зимнюю пору. Длинная полоса золота перерезала под ним черный диск моря. Шаги гулко отдавались на его затихших палубах. Лунный свет, словно морозный туман, плотно облекал корабль, и белые паруса выделялись ослепительными конусами девственного снега. В великолепии призрачных лучей корабль казался чистым, как видение идеальной красоты, призрачным, как нежный сон в безмятежном покое. В нем больше не было ничего реального, отчетливого, ничего плотного, кроме тяжелых теней, наполнявших палубы своим беспрерывным, бесшумным движением – теней чернее ночи и беспокойнее людских мыслей.
Озлобленный Донкин одиноко бродил среди теней, думая о том, что Джимми не слишком торопится умирать. В этот вечер, как раз перед наступлением темноты, с марселя увидели берег, и шкипер, наводя трубки длинного бинокля, со спокойной иронией заметил мистеру Бэкеру, что, пробившись, наконец, дюйм за дюймом, к Западным Островам, где не можем ожидать ничего, кроме штиля. Небо было чисто, барометр стоял высоко. Легкий бриз улегся вместе с солнцем, и огромное спокойствие, предвещая безветренную ночь, спустилось на нагретые воды океана. Покуда длился день, команда, собравшись на баке, разглядывала на восточной части горизонта остров Флорес, который поднимался из моря неправильными, изломанными очертаниями, напоминая мрачную руину над обширной пустынной равниной. За четыре с лишним месяца мы в первый раз видели берег. Чарли был возбужден и, пользуясь всеобщей снисходительностью, позволял себе вольности в отношении старших. Все мы сами, не зная почему, находились в необычайно приподнятом настроении и, разбившись на группы, оживленно разговаривали, то и дело указывая вдаль обнаженными руками. В первый раз за время плавания обманчивое существование Джимми как будто забылось на минуту перед лицом истинной реальности. Несмотря ни на что, мы все же проделали добрую часть пути! Бельфаст ораторствовал, приводя выдуманные примеры сказочно быстрых переходов от островов домой.
– Эти быстроходные фруктовые шхуны справляются в пять дней, – утверждал он. – Нам бы только попутного ветра немного.
Арчи доказывал, что самый короткий переход не может длиться менее семи дней, и они спорили, дружески осыпая друг друга бранью. Ноульс объявил, что чует уже отсюда запах родины и, тяжело припав на свою короткую ногу, расхохотался так, что, казалось, вот-вот лопнет. Кучка поседевших морских волков некоторое время молча смотрела вдаль с мрачными сосредоточенными лицами. Один из них сказал вдруг:
– Теперь до Лондона рукой подать.
– Будь я проклят, если в первую же ночь на берегу не поужинаю бифштексом с луком.
– И пинту горькой не забудь, – добавил другой.
– Ты хочешь сказать бочонок, – крикнул кто-то.
– Три раза в день яичница с ветчиной, – вот это, по-моему, жизнь! – крикнул возбужденный голос.
Произошло движение, одобрительный шепот; глаза заблестели, челюсти зачавкали; раздались короткие нервные смешки. Арчи сдержанно улыбался чему-то про себя. Сингльтон поднялся наверх, бросил небрежный взгляд и снова спустился вниз, не говоря ни слова, с равнодушием человека, бесчисленное количество раз видевшего Флорес. Ночной переход к западу вымарал с неба пурпурное пятно гористого берега.
– Мертвый штиль, – спокойно произнес кто-то.
Гул оживленного говора внезапно заколебался, замер. Группы распались; люди начали расходиться поодиночке, медленно спускаясь по лестницам с мрачными лицами; казалось, мысль об этой зависимости от чего-то незримого угнетала их. И когда большая желтая луна плавно поднялась над резкой линией чистого горизонта, она застала корабль погруженным в бездыханное молчание. Этот бесстрашный корабль, казалось, спал глубоким сном без видений на груди дремлющего грозного моря.
Донкин сердился на тишину, на корабль, на море, которое, простираясь во все стороны, сливалось с беспредельным молчанием всего творения. Он чувствовал, как сердце его болезненно сжимается от каких-то неосознанных обид. Физически он был усмирен, но его оскорбленное достоинство по-прежнему оставалось неукротимым и ничто не могло залечить его израненных чувств. Вот уже берег, а за ним очень скоро родина… Жалкая получка, отсутствие платья… снова тяжелая работа. Как обидно было все это! Берег. Берег, который отнимает жизнь у больных моряков. У этого негра было все – деньги, платье, привольное житье; он не хочет умирать. Земля отнимает жизнь… Он чувствовал желание пойти убедиться, так ли это в самом деле. Может быть, уже… Вот это, можно сказать, повезло бы. В сундуке у негодяя несомненно есть деньги.
Донкин решительно вышел из тени в полосу лунного света, и его жадное голодное лицо сразу сделалось из желтого землистым. Он открыл дверь каюты и испуганно отступил. Джимми несомненно был мертв. Он казался не больше какой-нибудь горизонтальной фигуры со сложенными руками, высеченной на крышке каменного гроба. Глаза Донкина приковались жадно к нему, но Джимми, по-прежнему, не двигаясь, замигал вдруг веками, и Донкин снова испытал шок. Эти глаза действительно могли испугать. Он тихо и осторожно закрыл за собой дверь, не отрывая взгляда от Джемса Уэйта; у него был такой вид, точно он проник сюда с большой опасностью, чтобы раскрыть какую – то поразительную тайну. Джимми не двигался, но вяло поглядывал на него уголками глаз.
– Штиль? – спросил он.
– Да, – произнес сильно разочарованный Донкин и уселся на ящик.
Джимми спокойно дышал. Подобные визиты во всякое время дня и ночи были вполне обычным явлением и нисколько не удивляли его. Люди сменяли друг друга. Они разговаривали звонкими голосами, произносили веселые слова, отпускали старые шутки, слушали его и каждый, выходя, казалось, оставлял за собой немного собственной жизненной энергии, уступал ему частицу собственной силы, укреплял в нем веру в то, что жизнь есть нечто неразрушимое. Он не любил оставаться один в каюте, ибо в таких случаях ему начинало казаться, будто его и вовсе нет там. Он ничего не чувствовал. Никакой боли. Решительно ничего. Все было в полнейшем порядке, но Джимми не мог наслаждаться этими здоровыми отдыхами, если около него не сидел человек, который видел бы это. Этот Донкин пригодится ему не хуже всякого другого. Донкин исподтишка наблюдал за Уэйтом.
– Теперь уже скоро будем дома, – заметил Уэйт.
– Чего ты шепчешь? – спросил с любопытством Донкин, – Не можешь разве говорить как следует?
Лицо Джимми выразило досаду, и он молчал некоторое время. Затем произнес безжизненным беззвучным голосом.
– С чего же это я стану кричать? Ты ведь не глухой, кажется.
– О я-то хорошо слышу, – тихо ответил Донкин, глядя в пол. Он с грустью подумывал о том, чтобы уйти, когда Джимми заговорил снова.
– Уж скорей бы добраться… поесть чего-нибудь вкусного… Я всегда голоден.
Донкин вдруг разозлился.
– А что же мне сказать? Я ем не больше твоего, да еще работаю. Тоже сказал! Голоден…
– Ты-то небось не надорвешься от работы, – слабо заметил Уэйт, – там пара сухарей на нижней полке, вон там – можешь взять один. Я не могу их есть.
Донкин нырнул, пошарил в уголке и появился снова уже с набитым ртом. Он с жадностью жевал. Джимми как будто дремал с открытыми глазами. Донкин покончил с сухарем и встал.
– Ты уходишь? – спросил Джимми, глядя в потолок.
– Нет, – ответил Донкин, словно по какому-то внушению и, вместо того, чтобы выйти, прислонился спиной к закрытой двери. Он смотрел на Джемса Уэйта и тот казался ему длинным, худым, высохшим, точно все его мускулы съежились на костях в жаре этой белой печи. Худые пальцы одной руки слегка двигались по краю койки, наигрывая бесконечную мелодию. Вид его вызывал раздражение и усталость. Он мог просуществовать таким образом еще много дней. В том, что он не принадлежал целиком ни жизни, ни смерти было что-то глубоко оскорбительное и это кажущееся игнорирование и той и другой делало его совершенно неуязвимым. Донкин почувствовал искушение просветить его насчет истинного положения вещей.
– О чем это ты думаешь? – спросил он мрачно.
На лице Джемса Уэйта появилась гримаса, означавшая улыбку; она промелькнула по бесстрастной костлявой маске, невероятная и странная, словно улыбка трупа, привидевшаяся в кошмарном сне.
– Там есть девочка одна… – прошептал Уэйт, – с Кантон – стрит… Она прогнала третьего механика подводной лодки… ради меня. Устрицы приготовляет, по моему вкусу… пальчики оближешь… Она говорит, что выставит любого франта ради цветного джентльмена… вроде меня… Я ведь ходок насчет женского пола… – прибавил он чуточку громче.
Донкин едва верил своим ушам. Он был скандализован.
– Ну и дура будет, если выставит. Много ей от тебя толку, – произнес он с несдерживаемым отвращением.
Уэйт слишком далеко зашел в мечтах, чтобы услышать его. В это время он чванно проходил из доков по Ост-Индской дороге; приветливо приглашал: «пойдем-ка, выпьем», – толкал стеклянные вращающиеся двери, с великолепной уверенностью красовался при свете газа над стойкой из красного дерева.
– Ты думаешь, что выберешься еще когда-нибудь на берег? – злобно спросил Донкин.
Уэйт, вздрогнув, очнулся от грез.
– Десять дней, – сказал он быстро и тотчас снова вернулся в царство воспоминаний, где отсутствует понятие времени. Там он чувствовал себя бодрым, спокойным, как бы уверенным в безопасности, в этом месте, куда не могло проникнуть ни одно сомнение. В этих безмятежных минутах полного покоя чувствовался отголосок непреложной вечности. Ему было очень спокойно и легко среди этих ярких воспоминаний, которые он, заблуждаясь, радостно принимал за картины несомненного будущего. Все остальное было ему безразлично. Донкин смутно чувствовал это; так слепой чувствует в окружающей его темноте роковой антагонизм других существ, которые навсегда останутся для него неясными, невидимыми и достойными зависти. Он испытывал желание чем-нибудь утвердить свое я, разломать, разрушить что бы то ни было… быть равным всем и во всем; сорвать покровы, обнажить, выявить, лишить всякой возможности укрыться… им овладела предательская жажда истины! Он насмешливо расхохотался и сказал:
– Десять дней! Чтоб я ослеп, если это так… Да ты уж завтра будешь, может быть, мертв в это время! Десять дней!
Он подождал немного.
– Десять дней. Будь я проклят, если ты сейчас уже не похож на покойника.
Джимми, должно быть, собирался с силами, потому что он почти громко произнес:
– Ты вонючий лгунишка, побирушка. Всякий знает, что ты за фрукт.
Он вдруг сел, наперекор всякой вероятности, и ужасно испугал этим своего гостя; но Донкин очень скоро пришел в себя. Он забушевал.
– Что? Что? Кто лжет? Ты лжешь, команда лжет, шкипер, все, только не я. Важничает тут! Да кто ты такой?.. – Он чуть не задохнулся от негодования. – Кто ты такой, чтобы важничать? – повторял он, весь дрожа, – «Можешь взять один, я не могу их есть». А вот я возьму оба. Ей-ей, съем. Плевать на тебя.
Он нырнул на нижнюю койку, пошарил там и вытащил второй пыльный сухарь. Он подержал его перед Джимми, затем вызывающе откусил от него.
– Ну, что? – сказал он с лихорадочной наглостью. – Возьми один, говоришь? А почему бы не два? Нет, ведь я паршивый пес. Для паршивого пса хватит и одного. А я возьму оба. Попробуй-ка помешать мне! Ну, попробуй! Ну!
Джимми обхватил поджатые ноги и спрятал лицо на коленях. Рубаха его прилипала к телу, так что можно было разглядеть каждое ребро. Его тощая спина то и дело сотрясалась толчками, в то время как он судорожно набирал дыхание.
– Не хочешь? Не можешь, вот в чем дело! Что я говорил тебе? – неистово продолжал Донкин. Он торопливым усилием проглотил еще один сухой кусок. Молчаливая беспомощность, слабость и жалкий вид Уэйта выводили его из себя.
– Твоя песенка спета! – крикнул он. – Кто ты такой, чтобы нужно было еще лгать тебе, ходить перед тобой на задних лапках, прислуживать. Тоже, подумаешь, император нашелся! Ты никто. Вот так, совсем никто! – выпалил он с такой силой непогрешимого убеждения, что слова, вырвавшись, потрясли его от головы до пят и оставили его вибрирующим, точно отпущенную струну.
Джимми снова подбодрился. Он поднял голову и мужественно повернулся к Донкину, который увидел перед собой странное незнакомое лицо, фантастическую кривляющуюся маску отчаяния и ярости. Губы на ней быстро двигались, глухие, стонущие, свистящие звуки наполнили каюту смутным ропотом, в котором слышались угроза, жалоба и тоска, как в шорохе поднимающегося вдалеке ветра. Уэйт мотал головой, вращал глазами; он отрицал, проклинал, грозил, но ни одно слово не имело достаточной силы, чтобы перейти за предел этого печального круга выпуклых черных губ. Это было непостижимое и волнующее зрелище; тарабарщина чувств, безумное, немое изображение речи, молящей о невозможном, грозящей призрачной местью. Донкин испытующе наблюдал за ним.
– Ты не можешь говорить? Вот видишь! Что я говорил тебе? – медленно произнес он, внимательно проследив с минуту за Джимми. Тот как безумный продолжал свою неслышную речь; он страстно мотал головой, усмехался, забавно и жутко поблескивая большими белыми зубами. Донкин, словно завороженный немым красноречием и гневом этого черного призрака, с недоверчивым любопытством приблизился к нему, вытягивая шею. Ему почудилось вдруг, что он видит лишь тень человека, который корчится на верхней койке на уровне его глаз.
– Что? Что? – спросил он.
Он начинал как будто улавливать знакомые слова в беспрерывном задыхающемся шипении.
– Ты скажешь Бельфасту? Вот что! Ты что же, маленький? – Он дрожал от страха и злости. – Бабушке рассказывай! Ты трусишь! – Страстное сознание собственной значительности исчезло с последними остатками осторожности. – Доноси, будь ты проклят! Доноси, если можешь! – кричал он. – Твои подхалимы обращались со мной хуже, чем с собакой. Они нарочно науськали меня, чтобы потом обернуться против меня. Я единственный человек здесь. Они били меня по лицу, лягали ногами, а ты смеялся, ты, черная гнилая падаль! Ты заплатишь за это. Они отдают тебе свою жратву, свою воду – ты заплатишь мне за это, клянусь богом! Кто даст мне глоток воды? Они покрыли тебя своим проклятым тряпьем в ту ночь, а что они дали мне? – кулаком в зубы, будь они прокляты. Ты заплатишь за это своими деньгами. Я мигом заберу их, как только ты подохнешь, проклятый негодный обманщик. Вот что я за человек! А ты дрянь, мразь! Тьфу, падаль вонючая!
Он бросил в голову Джимми сухарь, который он крепко сжимал в кулаке все время, но сухарь только задел Джимми и, ударившись о переборку позади него, разлетелся с громким треском на куски, словно ручная граната. Джемс Уэйт повалился на подушку, как бы получив смертельную рану. Губы его перестали двигаться, и вращающиеся глаза остановились, напряженно и упорно уставившись в потолок. Донкин удивился. Он вдруг уселся на сундук и стал смотреть вниз, выдохшийся и мрачный. Через минуту он начал бормотать про себя:
– Да помирай же ты, бродяга, помирай наконец! Еще войдет кто-нибудь… Эх, напиться бы теперь… Десять дней… устрицы! Он поднял глаза и заговорил громче. – Нет… теперь тебе крышка… Не видать тебе больше проклятых девчонок с устрицами… Кто ты такой? Теперь мой черед… Эх, был бы я пьян! Я бы живо подтолкнул тебя коленкой в небеса. Вот куда ты отправишься, ногами вперед через борт! Бух! и конец! Да ты большего и не стоишь.
Голова Джимми слегка задвигалась, и он обратил глаза на лицо Донкина; взгляд этот выражал недоверие, отчаяние и страх ребенка, которому пригрозили темной комнатой. Донкин наблюдал за ним с сундука полным надежды взором; затем, не поднимаясь, он попробовал крышку. Заперта на замок.
– Хотел бы я быть теперь пьяным, – пробормотал он и встал, тревожно прислушиваясь к отдаленному звуку шагов на палубе. Они приблизились, затихли. Кто-то зевнул как раз за дверью и удалился, лениво волоча ноги. Трепещущее сердце Донкина забилось свободнее, и он снова посмотрел на койку; глаза Джимми как прежде были прикованы к белой балке.
– Как тебе сейчас? – спросил он.
– Скверно, – прошептал Джимми.
Донкин терпеливо уселся, решив во что бы то ни стало дождаться своего. Каждые полчаса по всему кораблю раздавались голоса склянок, переговаривавшихся друг с другом. Дыхание Джимми было так быстро, что его нельзя было сосчитать, и так слабо, что его невозможно было услышать. В глазах его светился безумный страх, как будто он созерцал невыразимые ужасы, и по лицу было видно, что он думает об отвратительных вещах. Вдруг он воскликнул невероятно сильным душу раздирающим голосом:
– За борт!., меня!.. О господи!..
Донкин слегка заерзал на сундуке. Вид у него был хмурый. Джимми молчал. Его длинные костлявые руки подбирали одеяло кверху, как будто он хотел собрать его целиком под подбородком. Слеза, крупная одинокая слеза, выкатилась из уголка его глаз и, не коснувшись впалой щеки, капнула на подушку. Из горла его вылетало легкое хрипение.








