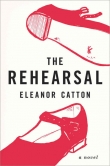Текст книги "Призраки двадцатого века"
Автор книги: Джозеф Хиллстром Кинг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА
По телевизору показывают, как моего отца вот-вот снова вышвырнут из игры. Я уже вижу это. Зрители на домашнем стадионе «Тигров» тоже догадываются, судя по грубым и радостным крикам. Им хочется, чтобы его вышвырнули. Они только того и ждут.
Я знаю, что его отстранят, потому что судья основной базы пытается уйти от отца, а тот следует за ним как хвост. Отец засунул все пальцы правой руки в штаны, а левой рукой сердито жестикулирует в воздухе. Комментаторы оживленно болтают, пересказывая тем, кто смотрит матч по телевизору, что доказывает судье отец и что судья решительно отказывается слышать.
– Мы все видели, как развивается ситуация. Эмоции накалились до предела, и можно было предугадать, что рано или поздно они перельются через край, – говорит один из комментаторов.
Тетя Мэнди нервно смеется:
– Джессика, не хочешь взглянуть? Эрни опять довел себя до истерики.
В дверях кухни появляется мама. Она видит происходящее на экране и прислоняется к косяку, сложив на груди руки.
– Не могу смотреть, – говорит Мэнди. – Меня это так расстраивает.
Тетя Мэнди сидит на одном конце дивана. Я устроился на другом, подобрав под себя ноги. Я качаюсь вперед и назад. Я не могу сидеть спокойно. Что-то заставляет меня раскачиваться. Мой рот открыт и делает то, что всегда делает, когда я нервничаю. Я даже не знаю, что он это делает, пока не чувствую теплую сырость в уголке рта. Когда я напряжен, рот у меня раскрывается сам по себе и из него начинает течь вода – прямо по подбородку. А еще, когда я взвинчен – вот как теперь, – я невольно произвожу такие сосущие звуки. Это я всасываю слюни обратно в голову.
Коминс, судья третьей базы, втискивается между Уэлки – судьей основной базы – и моим отцом, давая Уэлки шанс улизнуть. Отец мог просто обойти Коминса, но он не делает этого. Вот неожиданно позитивное развитие событий, знак того, что худшего может не произойти. Отец раскрывает и закрывает рот, размахивает левой рукой, а Коминс слушает, улыбается, качает головой добродушно и понимающе, но все же твердо. Отец недоволен. Наша команда проигрывает со счетом «четыре – один». «Детройт» поставил подающим какого-то новичка – человека, ни разу в жизни не выигравшего ни одной игры в высшей лиге и, по сути, проигравшего все свои пять игр. Несмотря на эту всем известную бездарность, сейчас он за пять иннингов сделал восемь страйк-аутов. Мой отец недоволен последним страйк-аутом, который присудили из-за замаха бьющего. Он недоволен, потому что Уэлки объявил страйк-аут, не уточнив у судьи третьей базы, была остановка замаха или нет. Ему положено в таких случаях советоваться, а он не стал.
Но Уэлки и не должен ничего уточнять у Коминса с третьей базы. И так было очевидно, что бьющий Рамон Диего завел головку биты за пределы пластины «дома», а потом попытался вернуть ее обратно, перегнув запястье, чтобы судья подумал, будто он не замахивался. Но он замахивался. Все видели, что он замахнулся, все знают, что его обманула «тонущая» подача, почти что поднявшая пыль перед «домом». То есть это знают все, кроме отца.
Но вот отец говорит Коминсу несколько слов напоследок и направляется к даг-ауту. Он прошел уже почти половину пути без каких-либо происшествий, но вдруг разворачивается и что-то орет судье основной базы Уэлки. Уэлки в тот момент стоит спиной к отцу. Уэлки нагнулся, чтобы размести щеткой пластину «дома». Он растопырил широкие половинки зада, направив в сторону отца свой объемистый тыл.
Не знаю, что именно кричит ему отец, но Уэлки мгновенно оборачивается, подскакивает на фут от земли в смешном, как у всех толстяков, прыжке и выбрасывает вверх один палец. Отец швыряет кепку оземь и вприпрыжку несется к «дому».
Когда такое происходит, первыми сходят с ума отцовские волосы. Пять иннингов они прятались под кепкой и теперь вырываются на свободу, сырые от пота. Порывистый ветер Детройта подхватывает их и треплет. В результате с одного боку волосы приплюснуты, а с другого – торчат, как будто отец заснул с мокрой после душа головой. Волосы прилипают к его загорелой и потной шее. Волосы развеваются на ветру, пока он орет.
Мэнди говорит:
– Боже мой, только посмотри на него.
– Да. Вижу, – говорит мама. – Еще один отличный кадр для фильма о подвигах Эрни Фельтца.
Уэлки складывает руки на груди. Он уже все сказал и молча созерцает моего отца из-под нависших бровей. Отец пинает ботинком комья земли. Снова между ними пытается втиснуться Коминс, но отец пинает землю прямо в него. Отец стягивает куртку и швыряет ее на поле. Потом пинает и ее. Он пинает ее вплоть до линии третьей базы. Потом поднимает ее и бросает в сторону внешнего поля, но она пролетает всего несколько футов и падает. Несколько «тигров» собрались у площадки питчера. Их игрок второй базы быстро прикрывает рот перчаткой, чтобы отец не увидел, как он смеется. Он отворачивает лицо в сторону, его плечи подрагивают.
Отец вскакивает в даг-аут. У стенки даг-аута выстроены три башни из пластиковых стаканчиков. Он ударяет по ним обеими руками, и они рассыпаются по траве. Кулеры с «Гаторэйдом» он не трогает, ведь игрокам захочется пить после игры, зато хватает чей-то шлем и закидывает его на поле, и шлем докатывается аж до третьей базы. Мой безумный отец кричит еще что-то в адрес Уэлки и Коминса, потом выходит из даг-аута и исчезает из виду. Однако это еще не все. Внезапно он снова показывается – как тот тип в хоккейной маске из фильма ужасов, несчастное существо, которое, кажется, уже в сотый раз уничтожили, прекратив его мучения, но оно раз за разом возвращается, чтобы убивать снова и снова.[50]50
Имеется в виду герой фильма Шона Каннингема «Пятница, 13-е» (1980).
[Закрыть] Отец выгребает из ящика целую охапку бит и бросает их на поле. Потом он стоит и просто кричит что-то, брызгая слюной, со слезами на глазах. Какой-то парнишка уже принес его куртку ко входу в даг-аут, но боится подходить ближе к разъяренному Эрни, поэтому отец сам подходит к нему и вырывает куртку из его рук. Он разражается последней серией «ласковых» слов и натягивает куртку, правда наизнанку. Поблескивая белым ярлыком на шее, теперь он скрывается из виду окончательно. Я прерывисто выдыхаю. Оказывается, глядя на это, я забывал дышать.
– Примечательный эпизод, – отзывается тетя.
– Пора купаться, малыш, – говорит мама, подходя ко мне и запуская руки в мои волосы. – Самое интересное уже закончилось.
В спальне я раздеваюсь до трусов. Я иду через прихожую в ванную, но слышу звонок телефона в комнате родителей и бросаюсь животом на их кровать, чтобы первым снять трубку.
– Резиденция Фельтцов.
– Привет, Гомер, – говорит отец. – У меня выдалась свободная минутка. Подумал, хорошо бы звякнуть тебе и пожелать спокойной ночи. Ты смотришь игру?
– Угу, – говорю я и всасываю слюни.
Я не хочу, чтобы он слышал это, но он все равно слышит.
– Как ты?
– Это все рот. Он сам. Я тут ни при чем.
– Ты что, переживаешь?
– Нет.
– Солнышко, с кем ты там разговариваешь? – кричит из кухни мама.
– С папой!
– Ты думаешь, он остановил замах? – ставит отец вопрос ребром.
– Сначала было непонятно, но потом показали повтор, и тогда стало ясно.
– О, черт, – произносит отец, а потом трубку второго телефона берет мама и подключается к нашему разговору.
– Привет, – говорит она. – Вам звонят из журнала «Хорошая игра».
– Как дела? – спрашивает отец. – У меня выдалась минутка, вот я и решил перекинуться с мальчонкой парой слов.
– С моего места дело выглядит так, будто ты освободился на целый вечер.
– Я не утверждаю, что вел себя как подобает.
– Действительно, подобающим твое поведение не назовешь, зато каким оно было вдохновенным! Это один из тех великолепных бейсбольных эпизодов, что заставляют душу петь. Подобный тому, когда видишь мощный хоумран или слышишь, как третий страйк впечатывается в ловушку кетчера. Есть нечто волшебное в том, как Эрни Фельтц называет судью грязнозадым крысиным ублюдком, а потом его волокут в смирительной рубашке молодцы в белых халатах.
– Ладно, – отвечает отец. – Знаю. Выглядело это плохо.
– Тут есть над чем поработать.
– Что ж. Проклятье. Я извиняюсь. Серьезно. Я не шучу, мне очень жаль, – говорит он. – Эй, скажи мне только одну вещь!
– Какую?
– Ты видела повтор? Как тебе кажется, замахивался он или нет?
Течь из угла рта, которая начинается всякий раз, когда я нервничаю, это не единственная моя проблема – просто наиболее очевидная. Из-за таких проблем я два раза в месяц хожу на прием к доктору Фаберу. Мы встречаемся с доктором Фабером, чтобы обсудить со стратегической точки зрения, как справляться с неприятными мне вещами. Мне неприятны многие вещи. Например, я не выношу алюминиевой фольги – от ее вида меня начинает тошнить и мутить, а от звука сминаемой фольги у меня болят зубы и даже уши. Еще меня ужасно раздражает звук перемотки на видеомагнитофоне. Мне приходится выбегать из комнаты, едва раздается этот механический шелест, когда лента протягивается через шпули. А запах свежей краски или фломастеров без колпачков – нет, о таком лучше не вспоминать.
Я знаю: когда я ковыряюсь в еде, чтобы внимательно рассмотреть отдельные ее компоненты, это малоприятное зрелище. В основном я делаю это с гамбургерами. На меня произвела сильнейшее впечатление телевизионная программа с рассказом о том, что будет, если съесть некачественный гамбургер. В нем могут быть кишечные палочки или мясо бешеных коров; в передаче даже показали бешеную корову – она сворачивала голову набок и с ревом металась по загону. Когда мы идем в «Вендис» и заказываем гамбургеры, я прошу папу снять с моего гамбургера фольгу, а потом разбираю его на части: отдельно овощи, чтобы можно было отбросить все, что выглядит подозрительно, и отдельно котлету, чтобы принюхаться как следует, не испорчена ли она. Между прочим, мне целых два раза попадалась испорченная котлета, и я отказывался есть. В обоих случаях мой отказ сопровождался суперскандалом между мной и мамой на тему, действительно ли мясо несвежее. Разумеется, подобные противостояния неизбежно приводят к одному – к брыканию. Брыкание – это тоже моя проблема. Она состоит в том, что я ложусь на пол, ору и отбрыкиваюсь ногами от всех, кто притрагивается ко мне или просто подходит слишком близко. Доктор Фабер называет мое брыкание истерическими припадками. Поэтому теперь я взял за правило молча выбрасывать подозрительный гамбургер в мусор, не обсуждая его качество, и есть только булку. Должен сказать, другие мои диетические особенности тоже доставляют немало хлопот. Я ненавижу вкус рыбы. Я не ем свинины, потому что из нее вылезают маленькие белые червячки, если на сырое мясо налить алкоголь. А вот что мне нравится, так это мюсли. Если бы мне разрешили, я бы ел мюсли три раза в день. Кроме того, я с удовольствием ем консервированные фрукты. В парке я готов съесть пакетик фисташек, а хот-дог – ни за что, ни под каким соусом. И еще я не пью чаю, поскольку из-за кофеина становлюсь гиперактивным и у меня может пойти из носа кровь.
Доктор Фабер – неплохой парень. Обычно во время приема мы сидим на полу в его кабинете, играем в конструктор и заодно разговариваем.
– Конечно, я слыхал нелепости и раньше, но это ни в какие рамки не влезает, – говорит мой психиатр. – Ты считаешь, «Макдоналдс» продает испорченные гамбургеры? Да они разорятся! Их тут же засудят. – Он замолкает, чтобы установить очередную деталь, потом поднимает на меня глаза и говорит: – Лучше перестать обсуждать неприятные чувства, охватывающие тебя каждый раз, когда ты кладешь в рот кусок еды. Мне кажется, ты делаешь из мухи слона. Воображение играет с тобой дурные шутки. Скажу тебе одну вещь. Предположим, тебе и вправду попалась протухшая котлета (хотя я по-прежнему утверждаю, что это маловероятно – ведь «Макдоналдс» крайне заинтересован в том, чтобы никто не вчинил им иск), но даже если – люди порой едят весьма несъедобные вещи и при этом не умирают.
– Тодд Дикки, тот, что играет у нас на третьей базе, однажды съел белку, – вспоминаю я. – За тысячу долларов. Тогда он еще играл в младшей лиге. Их автобус раздавил белку, когда парковался задним ходом, и он ее съел. Он рассказывал, что там, откуда он родом, все едят белок.
Доктор Фабер недоверчиво уставился на меня; на его приятном круглом лице написано отвращение.
– И откуда он родом?
– Из Миннесоты. Там в основном и питаются белками. Так Тодд говорит. Тогда у них остаются деньги на более важные вещи – на пиво и лотерейные билеты.
– И как он ее съел – сырой?
– Фу, нет, конечно. Он пожарил ее. С соусом «чили». А потом хвастался, что это был самый легкий заработок в его жизни. Тысяча долларов. В младшей лиге это большая сумма. Десять парней скидывались по сотне. Тодд сказал, что это как съесть гамбургер за штуку.
– Точно, – подхватывает он. – И это снова возвращает нас к ситуации с «Макдоналдсом». Если Тодд Дикки съел белку, предварительно размазанную по асфальту, – я, как врач, никому не порекомендую подобное блюдо – и в результате никак не пострадал, то тебе вполне по силам справиться с обычным «биг-маком».
– Не-е-ет.
Я отлично понимаю логику его рассуждений. Правда. Он говорит, что Тодд Дикки – молодой спортсмен-профессионал, но при этом спокойно ест всякую гадость вроде белки под соусом «чили» и «биг-маков», из которых брызжет жир, и не умирает от коровьего бешенства. В какой-то момент я перестаю спорить. Но я знаю Тодда Дикки – нормальным его назвать нельзя. У этого парня явно не все дома.
Когда Тодда выпускают на поле и он выходит на третью, он всегда делает одну странную вещь: прижимает перчатку ко рту и как будто шепчет в нее что-то. Рамон Диего, наш шорт-стоп и мой лучший друг, говорит: да, он действительно шепчет. Он смотрит, как отбивающий приближается к пластине, и шепчет:
– Бей его, жги его. Бей его, жги его. Раз и готово. Бей его или жги его. Или задери его. Что угодно. Или бей, или жги, или задери, задери, задери этого парня, этого гребаного парня!
Рамон говорит, что у Тодда вся перчатка заплевана.
А когда ребята начинают болтать о фанатках, с которыми имели дело (мне не положено присутствовать при подобных разговорах, но попробуйте пообщаться с профессионалами и ни разу не услышать ничего такого), Тодд, обожающий массовые прославления «предвечного сладчайшего Иисуса», слушает их похвальбу с надутым и красным лицом. В глазах у него появляется очень странное выражение, мускулы на левой половине лица неожиданно начинают дергаться, а он даже не знает, что его лицо делает то, что оно делает, когда оно это делает.
Рамон Диего считает Тодда ненормальным, и я тоже так считаю. Все эти раздавленные белки не для меня. Если ты неотесанный бездушный деревенщина с кольтом сорок пятого калибра – это одно, но шепчущий псих с дегенеративным тиком на лице – совсем другое дело.
Папа отлично справляется со всеми моими проблемами. Например, когда брал меня с собой на выездные встречи и мы останавливались в Чикаго в гостинице «Фор сизонс». Наши тогда должны были играть с «Уайт сокс».
Нас поселяют в номер с большой гостиной, в разных концах которой – двери в его и мою спальни. Мы до полуночи смотрим кабельное телевидение. На ужин заказываем в номер фруктовый салат (его идея – я даже не просил). Он сидит в кресле, раздетый до трусов, пальцы правой руки засунуты под резинку – как всегда, если мамы нет рядом. Он смотрит фильм с таким сонным, рассеянным выражением лица. Я не помню, как заснул, и просыпаюсь, когда он поднимает меня с прохладного кожаного дивана и несет в мою спальню, и я утыкаюсь лицом ему в грудь и вдыхаю приятный запах его тела. Не могу точно сказать, чем он пахнет, но там есть запах травы и чистой земли, запах пота и раздевалки, а еще сладковатый привкус старой, пожившей кожи. Думаю, фермеры пахнут так же вкусно.
Когда он уходит, я лежу один в темноте, устроившись настолько удобно, насколько это возможно в гнезде из ледяных простыней, и вдруг слышу тонкий пронзительный вой – противный, словно звук перемотки видеокассеты в магнитофоне. Как только я различаю его, в коренные зубы втыкается первая игла ноющей боли. Я не хочу спать. Я наполовину проснулся, когда отец переносил меня в спальню, а холодные простыни прогнали остатки сна, поэтому я сажусь в кровати и прислушиваюсь к темному окружающему миру. На улице шуршат колеса машин, в отдалении кто-то сигналит. Я прикладываю к уху радиобудильник, но воет не он. Я выбираюсь из постели. Включаю свет. Наверное, это кондиционер. В обычных гостиницах кондиционер представляет собой металлический ящик, прибитый к стене под окном, но «Фор сизонс» слишком хорош для такого. Единственный предмет, напоминающий кондиционер, я нахожу под потолком. Это серое зарешеченное отверстие. Я становлюсь под ним и слышу: да, это оно. Я больше не могу выносить этот вой. Барабанные перепонки чуть не лопаются. Я вытаскиваю из своего рюкзака книжку, снова становлюсь под отверстием и бросаю книжку в него.
– Заткнись! Хватит! Перестань!
Пару раз я попадаю прямо в решетку – клац! бум! Из угла выпадает болтик, и вся решетка повисает на одной стороне, но лучше от этого не становится. Теперь кондиционер не только воет, но еще и дребезжит, будто внутри отошла какая-то деталь и бьется обо что-то. По моему подбородку ползет холодная струйка. Я втягиваю слюни обратно в рот и бросаю на злосчастную решетку последний взгляд, полный беспомощного отчаяния. Потом я затыкаю пальцами уши и бегу в гостиную, чтобы спрятаться от этого звука. Но там вой еще громче, идти мне некуда, и пальцы в ушах не помогают.
Невыносимый звук ведет меня в спальню к отцу.
– Пап, – говорю я и вытираю подбородок поднятым плечом. Вся челюсть у меня мокрая. – Пап, можно, я буду спать с тобой?
– Что? Ладно. Только у меня газы, так что берегись.
Я забираюсь к нему на кровать и натягиваю на себя простыни. Разумеется, в его комнате тоже слышен высокий пронзительный вой.
– Что-то не так? – спрашивает отец.
– Кондиционер. Он воет. У меня от него зубы болят. Я не нашел, где он выключается.
– Выключатель в гостиной. Справа от входа.
– Тогда я пойду и выключу, – говорю я, сползая к краю кровати.
– Погоди, – говорит он и хватает меня за руку. – Это же Чикаго в середине июня. Днем больше сорока градусов. Тут сразу станет очень жарко. Серьезно. Мы просто подохнем, если выключим кондиционер.
– Но я не могу слушать этот вой. Ты слышишь его? Слышишь, как он воет? Это так же ужасно, как мять фольгу, папа. Даже еще хуже.
– Да, – отвечает он. Он некоторое время неподвижно лежит на кровати и тоже прислушивается к вою. Потом говорит: – Ты прав. Хреновые тут кондиционеры. Но это неизбежное зло. Без него мы задохнемся, как жуки в банке.
Его слова успокаивают меня. К тому же простыни нагрелись – когда я ложился на них, они были холодными, как все гостиничные простыни, – и теперь я уже не дрожу так сильно. Мне лучше, хотя зубная боль стреляет прямо в уши и дальше в голову. Отец пускает газы, как он и предупреждал, но их кислый, тошнотворный запах действует на меня странно успокаивающе.
– Придумал, – говорит он. – Вот что мы сделаем. Пошли.
Он выскакивает из кровати. Я иду за ним в темноте. В ванной он щелкает выключателем. Свет заливает бежевое мраморное пространство. На раковине золотые краны, а в углу душ за дверью из рифленого стекла. В общем, гостиничная ванная твоей мечты. Возле раковины выстроилась целая коллекция бутылочек с шампунями, бальзамами, лосьонами, пакетики с мылом, в одном пластиковом контейнере – палочки для чистки ушей, в другом – ватные шарики. Отец открывает контейнер с ватными шариками, достает два шарика и сует по одному в каждое ухо. Я смеюсь над тем, как он стоит посреди всего этого мрамора с ватой, торчащей из больших загорелых ушей.
– Держи, – говорит он. – Заткни уши.
Я заталкиваю шарики глубоко в уши. После этого мир наполняется глубоким, гулким, ревущим шумом. Это мой шум, мой личный звук. Он доставляет мне огромное удовольствие.
Я смотрю на отца. Он говорит:
– Хомкхй чмн йхмн шмл ххмрхмрм трм хррр чмндхумммнхар?
– Что? – радостно ору я.
Отец кивает, соединяет большой и указательный палец в кольцо, и мы возвращаемся в постель. Вот что я имею в виду, когда говорю, что папа отлично справляется с моими проблемами. Мы оба хорошо выспались, а на следующее утро папа заказал в номер по банке консервированных фруктов и открывашку.
Но не все справляются с моими проблемами так же хорошо, как он; в частности – моя тетя Мэнди.
Тетя Мэнди пробовала себя во многих сферах деятельности, но нигде пока не преуспела. Мама и папа помогали ей оплачивать занятия по художественной фотографии, потому что одно время она хотела быть фотографом. Потом она передумала, и мои родители помогли ей открыть художественную галерею в Кейп-Коде. Но, как говорит тетя Мэнди, желе так и не загустело, дела не пошли, колесики не завертелись. Она поступила в киношколу в Лос-Анджелесе и попыталась писать сценарии – не срослось. Она вышла замуж за человека, который, как она надеялась, должен был стать писателем, но из него вышел обычный школьный учитель, а следовательно – не очень удачливый человек. Тете Мэнди какое-то время даже пришлось платить ему алименты, так что и в замужестве она не преуспела.
Сама тетя говорит, что она все еще пытается уяснить, в чем ее предназначение. Отец же считает, что ответ на этот вопрос уже получен – Мэнди стала тем, кем ей суждено было стать. Это так же, как с Брэдом Макгэйном. Он был правым защитником, когда отец стал менеджером команды. В качестве отбивающего он заработал себе рейтинг 292, но как полевой игрок ни разу не выбил больше чем 200, несмотря на двадцать пять выходов с битой в последнем финале, где ему довелось играть. Он безнадежен, так говорит отец. Макгэйн дрейфует из команды в команду, и его продолжают нанимать из-за хорошей общей статистики. Все думают, что человек с таким ударом просто обязан разбиваться дальше, но они не видят, что он уже развился – именно в то, что мы имеем. Он стал тем, кем должен был стать. Не так много вариантов у славных молодых людей, связавших жизнь с бейсболом, или у женщин среднего возраста, которые выходят замуж не за тех, за кого надо, и вечно не удовлетворены тем, что имеют. Они ожидают, что жизнь должна предложить им нечто другое, и это другое будет гораздо лучше. Да и у всех нас немного вариантов, если на то пошло. Пожалуй, именно это тревожит меня в моем случае: несмотря на все заверения доктора Фабера, мне не становится лучше, и я по-прежнему пребываю в том же состоянии, в каком находился всегда. А это далеко не идеальное состояние.
Нет нужды говорить – вы и сами, наверное, догадались по принципиальному различию их философий и мировоззрений, – что тетя Мэнди и мой отец не особенно симпатизируют друг другу, хотя и скрывают это, в основном – ради моей мамы.
Однажды в воскресенье мы вдвоем с тетей Мэнди поехали в Норт-Альтамонт – поскольку мама решила, будто я слишком много времени провожу на стадионе. На самом же деле ее беспокоило то, что команда проиграла пять раз подряд, а я, по ее мнению, из-за этого нервничал. В какой-то степени она была права. Неудачная серия и вправду огорчала меня. Никогда из меня не текло так сильно, как в тот сезон.
Не знаю, почему мы отправились именно в Норт-Альтамонт. Когда речь заходит о Норт-Альтамонте, тетя Мэнди всегда говорит, что надо «посетить» Линкольн-стрит. Как будто Линкольн-стрит в Норт-Альтамонте – это одно из таких мест, которые все знают и стремятся «посетить», как, например, во Флориде все «посещают» «Уолт Дисней уорлд», а в Нью-Йорке – бродвейское шоу. Все же нельзя не признать, что Линкольн-стрит – довольно милая улица спокойного тихого городка в Новой Англии. Она очень крутая, ее мостовая выложена кирпичом, а машинам по ней запрещено ездить, хотя прямо посередине люди водят лошадей, так что порой можно наткнуться на сухие зеленоватые лошадиные лепешки. Ну, там очень живописно.
Мы заходим в несколько магазинчиков, полутемных и пахнущих пачулями. В одном из них продают толстые свитеры из шерсти лам, выращенных в Вермонте, и негромко играет музыка – в ней смешаны звуки флейты, клавесина и птичий свист. В другой лавке нам предлагают работы местных ремесленников – глянцевых керамических коров, что прыгают через луну, тряся розовым выменем. Здесь из стереосистемы льются пронзительно-плавные психоделические мелодии в манере «Грэтфул Дэд».
Десять магазинов спустя мне становится скучно. Всю неделю я плохо спал – кошмары плюс колотье и так далее, и поэтому хождение утомило меня. Настроение не улучшается, когда мы заходим в очередную лавку – антикварную, расположившуюся в бывшем каретном сарае. Здесь не играет ни «нью-эйдж», ни музыка хиппи, зато слышатся куда более жуткие звуки – репортаж с воскресной игры. В магазине нет даже стереосистемы, только маленький радиоприемник на прилавке. Владелец магазина, пожилой мужчина в комбинезоне, слушает репортаж, засунув в рот большой палец. В его глазах застыла отчаянная безнадежность.
Я хожу вокруг прилавка, чтобы понять, как идут дела и чем так потрясен владелец. Наши принимают. Отбивать выходит Хэп Диел – и мгновенно пропускает пару страйков.
– Нынче Хэп Диел играет просто убийственно, – говорит комментатор. – За последние восемь дней он набрал невообразимые сто шестьдесят, и тут нельзя не задаться вопросом: почему же Эрни упорно, раз за разом ставит его на игру, хотя его буквально размазывают по пластине? Партридж выходит на позицию, подает и вот… о, Хэп Диел замахивается на плохой мяч, очень плохой мяч, мяч пролетает в миле от его головы… ого, погодите-ка – кажется, он упал, судя по всему, он получил травму…
Тетя Мэнди говорит, что мы прогуляемся до парка Уилхаус и устроим пикник. Я привык к городским паркам с их широкими газонами и асфальтированными дорожками, где разъезжают на роликах девчонки. А парк Уилхаус густо зарос высокими мощными елями и потому кажется мне мрачным. Дорожки здесь не для роллеров – они засыпаны гравием Игровой площадки нет. Теннисных кортов нет. Нет даже бейсбольного поля! Только таинственный полумрак, пропитанный запахом хвои (широкие ветви рождественских деревьев не пропускают солнечный свет), да изредка прошумит между веток ветер.
– Вон там отличное местечко для пикника, – говорит тетя. – Мы только перейдет этот симпатичный мостик.
Мы выходим на лужайку, но даже здесь как-то сумрачно. Кривая тропка выводит нас к крытому мосту на высоте не больше ярда над широкой медленной рекой. На другом берегу растянулся травянистый пологий склон, кое-где стоят скамейки.
С первого взгляда я проникаюсь недоверием к этому крытому мосту. В середине он явно провис. Давным-давно мост был красным, как пожарная машина, но годы и дожди смыли почти всю краску, и никто не потрудился подновить ее. Обнажившаяся древесина выглядела рассохшейся, гнилой и в высшей степени ненадежной. Внутри туннеля скопились пакеты с мусором, многие свертки разорвались и мусор вывалился наружу. Я на секунду останавливаюсь в нерешительности, и тетя Мэнди ныряет в туннель первой. Без особого энтузиазма я топаю за ней. Когда я вхожу на мост, Мэнди уже на том берегу.
В туннеле я снова останавливаюсь. Тошнотворно пахнет чем-то сладким: это запах гниения и плесени. Узкий проход петляет между завалами мусора. Вонь и сумрак, как в сточной трубе, обескураживают меня, но тетя Мэнди уже далеко, я не вижу ее, и мне страшно оставаться одному. Я тороплюсь за ней.
Но, пройдя всего несколько ярдов, я делаю глубокий вдох и… не могу двинуться дальше – меня останавливает запах. Я учуял в воздухе запах грызунов – жаркий перхотный крысиный дух с примесью аммиака, гнусная вонь летучих мышей. Этот запах я раньше ветречал на чердаках и в подвалах. В моем воображении мгновенно возникает потолок, сплошь покрытый летучими мышами. Я воображаю, как запрокидываю голову и вижу колонию летучих мышей: их тысячи и тысячи, они копошатся сплошным меховым ковром, составленным из множества коричневых тел с тонкими крыльями. Я воображаю, что слышу их слабое попискивание, так похожее на едва различимый писк плохо работающих кондиционеров и звук перемотки видеокассеты. Я воображаю летучих мышей, но никакая сила не заставит меня взглянуть наверх. Если я увижу хоть одну летучую мышь, меня в тот же миг убьет страх. Одеревеневший от ужаса, я делаю несколько шажков и наступаю на кусок газеты. Бумага шуршит так неприятно, что я отпрыгиваю назад. У меня чуть сердце не выскочило из груди от этого звука
И тут я снова на что-то наступаю – на что-то круглое, возможно, бревно. Оно поворачивается у меня под ногой. Я чуть не падаю, размахиваю руками, чтобы удержать равновесие, и каким-то образом мне удается устоять на ногах. Я наклоняюсь посмотреть, на что я наступил.
Это вовсе не бревно, а человеческая нога. В куче прелых листьев лежит мужчина. У него на голове грязная бейсбольная кепка с символикой нашей команды, когда-то темно-синяя, а теперь побелевшая по краю от застарелых пятен пота. Одет он в джинсы и клетчатую рубашку. В его бороде застряли листья. Я смотрю на него, парализованный приступом паники: я только что наступил на него, а он не проснулся.
Я смотрю на его лицо и, как рисуют в комиксах, дрожу от ужаса. Мои глаза улавливают какое-то движение. Это муха ползет по его верхней губе. Тело мухи поблескивает, словно капля расплавленного металла. Муха подползает к углу рта, на миг останавливается и залезает внутрь. А человек все равно не просыпается.
Я визжу – именно визжу, по-другому не скажешь. Я разворачиваюсь, бегу прочь с моста и на берегу продолжаю визжать до хрипа, призывая тетю Мэнди.
– Тетя Мэнди, вернись! Вернись сейчас же!
Она возникает в дальнем от меня конце туннеля.
– Что ты орешь как резаный?
– Тетя Мэнди, иди сюда, иди сюда, пожалуйста!
Я всасываю в рот слюни. Я только что осознал, что мой подбородок весь мокрый.
Она начинает переходить мост, идет ко мне, опустив голову, будто борется со встречным ветром.
– Прекрати орать немедленно. Прекрати! Чего ты орешь?
Я показываю:
– Из-за него!
Она останавливается и смотрит на неподвижное тело бедняги, присыпанное мусором и старой листвой. Она долго смотрит на него, а потом говорит:
– А, из-за него. Понятно. Что ж, с ним все будет в порядке, Гомер. Пусть он разбирается со своими делами, а мы займемся своими. Пошли!
– Нет, тетя Мэнди, давай уйдем отсюда! Пожалуйста, иди ко мне, пожалуйста!
– Я не намерена выслушивать эту ерунду более ни секунды. Быстро переходи мост.
– Нет! – ору я. – Нет, я не пойду!
Я разворачиваюсь и бегу, меня захлестывает паника, меня мутит от страха, мутит от запаха помойки, от летучих мышей, от мертвеца и от ужасного хруста старой газеты, от крысиной вони, от того, что Хэп Диел замахнулся на очевидный промах, и наша команда сливает этот сезон, как слила прошлогодний; я бегу, заливаясь слезами и размазывая по лицу слюни, и как бы часто я ни всхлипывал, в моих легких воздуха не прибавляется.